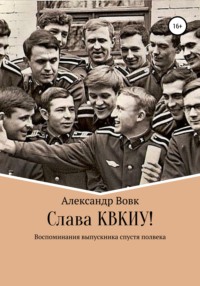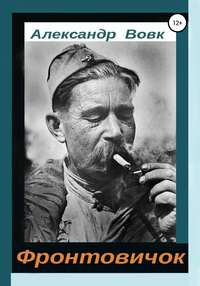полная версия
полная версияКого выбирает жизнь?
Чтобы не отвечать на провокацию, я отвернулся в сторону.
– Не думайте, что я желаю вас, как говорят, взять на понт. Мне пришлось три с полтиной года служить главным терапевтом сороковой армии. Вам это о чём-то говорит?
– Афганистан?
– Да! Он самый! А вы знаете, от чего наша армия несла там наибольшие потери? Не поверите! От воспаления лёгких! А нас патриархи медицины всегда учили, будто на войне, да и вообще в тяжелейших условиях, люди собираются с духом и мирными болезнями не болеют. Будто те болезни отскакивают от фронтовиков! И это, в какой-то степени, правда! Это проверено! Но в Афгане нагрузки оказались выше возможностей наших ребят, выросших в средней полосе Союза. И дело не столько в том, что там было страшнее, тяжелее и опаснее, чем где-либо. Климат там не наш! В этом и беда! Днем тридцать, бывает и за сорок, а ночью ноль! На каждом бойце снаряжения полцентнера! И по горам, по горам, всегда в мыле! А ещё – постоянная гонка – чтобы выжить самим, надо непременно опередить «духов»! Взмок как мышь, а появилась возможность передохнуть, так и свалился, где стоял. Прямо на камни, прямо на скалы. Вот оно, крупозное, уже где-то над ним, горемычным, маячит!
– Допускаю вполне! Мне в Каракумах бывать приходилось, но чтобы именно от этого наибольшие потери, это удивляет! – не сдержался я.
– Почитай, все силы и средства армейской медицины, все антибиотики со всей страны на это уходили! К тому же, болезнь-то тяжелая, лечится она трудно, а потом еще долго ребят шатает. Таких доходяг в дело не брали! Вот вам и дополнительные потери, хотя и небоевые! И вы не представляете, сколько больших военных начальников, не побывавших в шкуре тех ребят, не верили мне, как вы теперь, насколько тяжелое положение по этому заболеванию! Сколько мне, как главному терапевту армии, пришлось сражаться за тех ребят! Ведь отцы-командиры на всех уровнях никак не признавали, что несут за это хоть какую-то ответственность! Мол, это же не боевые потери, значит, не наша вина! С трудом, но ситуацию удалось переломить, когда возложили ответственность и на командиров.
– Странно! – удивился я. – Мне кажется, вам теперь было бы лучше в военном госпитале работать, а не здесь!
– Работать с пользой можно везде, но здесь многое мне показалось интереснее. В армии ведь люди хотя и болеют, но всё-таки они, скорее, здоровые, нежели больные! Да и с вами, Александр Фёдорович, я хотел поговорить совсем не об этом.
– Слушаю вас внимательно, Алексей Алексеевич!
– Вот и хорошо! Еще тогда я заметил, что среди и больных, и раненых находились некоторые, совсем морально раздавленные. Это сложно объяснить словами, но сразу бросается в глаза. Вот они-то и умирали, раздавленные. Тут дело даже не в силе воли, а в том, чтобы абсолютно верить в своё выздоровление! Если человек твердит себе, что не имеет права умереть, умереть именно теперь, то, как это на первый взгляд странно ни звучит, он обязательно выживет! Эта уверенность спасает его как молитва, как заклинание! Но и молитва, и заклинание воздействуют ведь не на что иное, а на психику человека! Следовательно, в вопросах выздоровления психика обладает некой самостоятельностью. Выходит, она способна вытянуть организм из тяжелого состояния! Значит, в помощь врачу следует непременно подключать психику больного! Вы понимаете меня?
– Вполне! А не задумывались ли вы, что всё обстоит как раз наоборот? Может, обреченный человек становится морально раздавленным именно оттого, что знает свою незавидную участь? Непонятным нам образом, но знает наверняка!
– Нет, нет! Это не так! Я проверял! Это не так! – несколько многословно, но спокойно и уверено возразил Алексей Алексеевич.
– Очень интересно, как же вы это проверяли? – усомнился я.
Он посмотрел на меня с доброжелательной улыбкой, которая скорее одобряла моё недоверие, делая его ответ в его же глазах более значительным.
– Проверял я это тогда. Проверял с пристрастием! Проверял, чтобы самому не спутать следствие с причиной. Я выбирал тех самых, морально раздавленных, и начинал сам укреплять их уверенность в выздоровлении, и в необходимости выздоровления, и в недопустимости смерти из-за ранения, и из-за минутной их слабости… Понимаете, их лечили теми же лекарствами, что и остальных, но к контрольной группе больных я в большей мере применял укрепляющую психотерапию! И они выкарабкивались! Разве это не доказательство? – уверено закончил Алексей Алексеевич.
– И теперь, как я понимаю, вы решили применить свою психотерапию ко мне? Но я и сам не раскисаю! Вот, лежу, мозгами шевелю и жизни радуюсь!
– Всё несколько иначе! Лучше бы не я, а вы сами психотерапией занялись. Ведь ваш случай, куда проще, нежели у тех мальчишек. Это только вам он кажется сложнее и непонятнее, чем в действительности. Да ещё вашим врачам, поскольку они привыкли всегда на что-то хорошо апробированное опираться. Так им в случае возможной неудачи жить спокойнее!
– Я и не прочь этим заняться! Но как от теории перейти к практике?
– В этом-то я и прошу вас принять участие. Ведь у вас кроме личной заинтересованности в этом деле есть и соответствующая квалификация.
Я засмеялся тому хитрому подходу, который применил ко мне Алексей Алексеевич, но кивком согласился.
31
В палату осторожно, как это бывает впервые, вошел сухощавый человек с приятной внешностью и живым умным взглядом. С одной стороны в нём сразу угадывалась особая выдержанность и скромность, а с другой, почему-то большая физическая сила, которую обычно ассоциируют с могучей фигурой, но ему природа ее явно не предоставила. Он был, пожалуй, излишне суховат, хотя, судя по шее, чрезвычайно жилист.
– Здравствуйте, Александр Фёдорович! – обратился он ко мне с непонятой мною радостью на лице. – Вот, пришёл к вам, чтобы познакомиться. Меня зовут Борисом. Борис Иннокентьевич, – поправился он. – Фамилия моя Соколовский.
– Вы же не врач? – выразил я в лоб ему свое наблюдение. – Врачи к больным обращаются иначе, да и халаты надевают в рукава…
Посетитель сдержанно усмехнулся:
– Неплохая наблюдательность! Вы правы! Просто я заинтересовался – мне внучка о вас с восторгом рассказывала… Она ваша студентка и, можно сказать, поклонница. Ну, а я на фоне её рассказов и об остальных преподавателях университета, и о современных в нём порядках, для меня непонятных, вами весьма заинтересовался. Признаюсь, мне давно хотелось с вами познакомиться, да нескоро дела делаются! А тут спросил как-то внучку, так она меня своей новостью и огорошила. Узнал, какая беда с вами приключилось в ходе лекции… Я ее через несколько дней опять спрашиваю: «Ну и как теперь самочувствие вашего профессора? Уже посещали его в больнице?» А она мне: «Нет! Мы боялись, что перед экзаменами это будет некрасиво истолковано!»
– Прямо-таки ненормальные сложности при общении с нормальными людьми! – удивился я. – Если человек вам близок по духу, если вы его уважаете за его добросовестный труд, так и поддерживайте во всём! А у вас странные соображения возникают! Как бы кто-то, да как бы что-то! – пожурил я её тогда! – открылся мне Борис Иннокентьевич. – Именно тогда я и решил с визитом к вам не тянуть. Конечно же, с этого пояснения мне и следовало начинать наш разговор, да как-то само собой по-другому вышло… Вы инициативу перехватили.
Он мне всё больше нравился. Говорил спокойно, не давил ни громкостью, ни интонациями, но получалось у него всё очень внушительно и при этом тепло и доверительно. И внучкой занимается, не отпускает её одну на произвол в хищную среду, и ситуацией в университете интересуется, и сейчас, хотя и косвенно, но не очень-то одобрил эту самую ситуацию… Как и я. В общем, наш человек. А уж при моей оторванности в этой больничной палате от жизни его появление для меня – целое событие.
– Борис Иннокентьевич! – обратился я к нему приветливо. – В нашей палате стульев нет! Здесь не залеживаются и не засиживаются… Это я у них – почти как икона в красном углу! Так что, подсаживайтесь на край кровати, хотя и она не удобна для сидения.
– Не беспокойтесь! Я на спинку обопрусь… Вот, принёс вам натуральных витаминов! – Он положил на тумбочку крупные красивые яблоки и мандарины. – И веточку еловую возьмите; пахнет приятно! Всё-таки, Новый год скоро. И еще! Я успел поговорить с вашими врачами; они, можете быть спокойны, на ваш счёт настроены оптимистично. Говорят, только давление еще подрегулируют, и будете в порядке! – повествовал он спокойно, доброжелательно, но с ощутимым достоинством.
– Борис Иннокентьевич! Вы, случаем, не «афганец»?
– К чему вы это? – он помолчал, видимо, решая, стоит ли открыться. – Впрочем, был когда-то… Немного! – по его улыбке я догадался, что передо мной именно тот человек, герой случайного для меня очерка, прочитанного давным-давно в какой-то центральной газете! И ведь я до сих пор помню… Похож! Я после того очерка им безмерно восхищался. Вот это человек! Подлинный герой! Даже с женой стал обсуждать, но ее это не заинтересовало: «Для меня ты всегда лучше всех!» – отговорилось супруга, возившаяся на кухне.
Теперь Борис Иннокентьевич скромно улыбался, не воспользовавшись удобным случаем, чтобы похвалиться своими заслугами. А ведь ему было чем гордиться, было и чем хвалиться!
– Я вспомнил то крупное фото в газете! – обрадовался я. – В середине восьмидесятых? Афганистан; кажется, капитан-контрразведчик; Герой Советского Союза. Это же были вы? Восхищен! А ваш нынешний интерес ко мне – и честь для меня, и радость большая! Спасибо, что посетили!
– Завидная у вас память! – он опять перевел разговор с себя на меня! – Тридцать лет прошло! Уже и Союза давно нет, а вы помните…
– С памятью как раз проблем появилось полно. Инсульт-то в мозги целится, а коль она пуста, бьет по тому, что в ней осталось! Мой случай! – я усмехнулся. – Но, как ни странно, не без некоторой пользы! Вы можете не верить, но такие умные мысли появились! Одна за другой рождаются! И все от инсульта! Спасибо и ему! Вот только забываю всё стремительно! Потому писать левой учусь, тогда смогу записывать! – я слегка приподнял правую руку с лангеткой, сковавшей пальцы, поясняя смысл своих слов.
Борис Иннокентьевич улыбнулся моей шутке:
– С вашим настроем вы совсем скоро к своим студентам вернетесь. Они вас ждут! А с рукой-то что случилось?
– Сам не знаю! – засмеялся я, оправдываясь. – Уже в палате врачи обратили на нее внимание, потому как распухла по локоть… Выяснили, что какая-то косточка в кисти сломана. Возможно, когда падал, отхватил себе дополнительный сюрприз!
– Поскольку вы не унываете, то скоро всё образуется! – опять обнадежил меня гость. – Тех, кто не унывает, жизнь сама обычно для высоких миссий выбирает!
– Вы уж скажете! Какие у меня миссии – подняться бы! К слову, простите мой интерес, Борис Иннокентьевич! Пользуюсь случаем, чтобы спросить не постороннего к этим событиям человека! Вы теперь, именно теперь, сегодня, как считаете? Стоило нам ввязываться в ту войну? – не удержался я от вопроса, всегда меня волновавшего.
– Честно? – спросил Борис Иннокентьевич, видимо, обдумывая ответ.
– Не иначе!
– Если честно, то я до сих пор во всём сомневаюсь. Иногда в одном уверен, другой раз – в другом. Уж больно ситуация тогда казалась сложной и туманной – кто же знал, куда она выведет? США перед тем активно провоцировали наши южные, весьма ненадежные республики, на вооруженные национальные конфликты. Штаты собирались руками Пакистана поджечь советских мусульман на организацию на нашей территории Халифата. И у меня нет полной уверенности, что у них ничего бы не вышло. Ведь Восток – дело не столько тонкое, как говорят те, кто его не знает, а, более всего, подлое и коварное. У них принято в бой вступать со спины. Утром преданно улыбаются, угощают, а вечером нож воткнули и исчезли! Потому воевать с ними следовало уже затем, чтобы не позволить на нашей территории вызреть опасному национальному нарыву! Однако наша военная «хирургия» нам обошлась куда дороже, нежели это ожидалось. И в людях очень большие потери, и в финансах. Что-то сделали правильно, но в чём-то непоправимо ошиблись! И рецидивов было многовато…
«Как же его мнение, столь некатегоричное, а потому учитывающее совместное существование многих противоречий, перекликается с моим!» – порадовался я.
– Вот уж не ожидал, Александр Фёдорович, обнаружить в больничной палате интерес к вопросам, давно минувших лет. Ведь вы, как мне известно, и не историк профессиональный, и не философ, и не кадровый офицер, чтобы столь глубоко копать ту давнюю войну!
– Да это же, Борис Иннокентьевич, незаживающая боль нашего народа! – несколько высокопарно выдал я.
– Это так, но сильно преувеличено! – он совсем не обидно остановил меня, и мне показалось, будто в моих словах что-то резануло его давние раны. – Та война так и не стала настоящей болью нашего народа, а оказалась лишь горем для немногих несчастных матерей! Да еще для нас, тех, кто там воевал. А народ, он ведь и не знал, что мы не в шутку умирали. И даже не хотел этого знать! Чтобы настроение себе не портить! Народ, если не хотел знать, то запросто мог ничего не знать! Тогда спокойно можно в рестораны ходить, да на хоккейных матчах горло от избытка дури надрывать, будто в ту минуту за эту дурь никто своей жизнью не платил! А на родине нас для этого всегда скрытно хоронили, запрещая даже на могилах указывать, что мы погибли за Родину, для которой нас вроде и не было никогда, вроде и теперь нет. Вот так-то! А ваш вопрос, Александр Фёдорович, о целесообразности той войны и теперь вполне правомерен. Но мы его тогда, в Афгане, себе не задавали! Мы сражались! Сражались так, чтобы нашим отцам и дедам за нас стыдно не было. А если родина нами не дорожила, так это от гнилости ее руководства, а не оттого, что мы оказались не достойными ее любви и заботы! Сколько замечательных ребят там осталось… Не довелось им в мирной жизни себя проявить…
Он замолчал, а я почувствовал свою вину перед ним, и тоже молчал. Потом понял, как следует поступить:
– Извините меня, Борис Иннокентьевич! Мне очень стыдно, что я столь легко отношусь к тому, что до конца не понимаю… Виновато моё недомыслие! Но хочу понять!
Он еще помолчал, видимо, успокаиваясь, и сказал уже с улыбкой, снявшей с меня напряжение:
– Вашей вины в том нет! И вопрос правомерен! Кроме того, я уверен в вашей искренности, поскольку кое-что о вас уже знаю! И не буду из этого делать тайну. Мне по душе пришелся ваш ответ студентам на одной из лекций. По поводу шумихи вокруг Навального. Со слов внучки. Если «телефон» не испорчен, то вы сказали примерно так: «Думаю, что все факты, приведенные Навальным по вопросу о коррупции Медведева и остальных фигурантов, во всём верны. То есть, вам действительно показана сущая правда! («Это вы смело заявили!») Вот только, мои молодые друзья! Не будьте вы столь наивными! Если однажды некто сказал вам правду, то, ради бога, не следует считать, будто он всегда говорит только правду и всегда перед вами будет честен! Я уверен, что правда Навального нужна ему, чтобы вы ему доверились, чтобы вы за ним пошли! А зачем ему это? Я уверен, не для того, чтобы в стране был порядок! Привлекая молодежь, он с вашей помощью обязался для своих хозяев зажечь и у нас в стране свой майдан! Устроить массовые и многочисленные погромы, бойню и резню. После этого к нам незамедлительно пожалуют миротворцы в лице НАТО, якобы для защиты горемычного и обездоленного российского народа, его свободы и суверенитета!» Мне ваш ответ очень понравился! В нём есть и истина, и анализ, и понимание ситуации, и гражданская смелость, и достойная откровенность с молодежью, и совесть, наконец!
– Понятно, зачем вы пожаловали! Значит, мною уже ФСБ заинтересовалось? – иронизируя, забеспокоился я. – Очень удобный момент, ибо скрыться теперь я не смогу!
– Э, нет! Не обижайте меня, принимая за провокатора! Я частное лицо, кстати, хоть и генерал-майор ФСБ, но давно нахожусь в отставке. Потому служу лишь своей семье и имею полное конституционное право свободно выражать своё мнение! И с вами я предельно откровенен! Более того, и моя внучка немало мне о вас рассказала совсем не в качестве доноса! Ей тоже импонирует ваша манера ненавязчиво вразумлять нашу мечущуюся молодежь. Но от себя должен добавить, часто вы излишне горячитесь. Вот и со мной, даже если бы всё так и было, как вы в лоб мне заявили, следовало до поры промолчать! Думаю, вы и без меня это понимаете, но чересчур спонтанно реагируете и, тем самым, даете кому-то возможность вас крепко бить. Уж извините за такую науку, преподнесенную вам, профессору!
– Хорошо звучит! Но, уж извините за прямоту, как-то не вяжется ваша забота обо мне с вашим статусом! Да и не понятно мне, как вы относитесь, например, к нынешней высшей власти в стране? – задумал я схитрить, проверяя чистоту намерений гостя его откровенностью по щекотливым темам.
– Александр Фёдорович! Вы меня прямо обескураживаете своей интеллигентской наивностью! Неужели вы и впрямь полагаете, будто при стремлении вызвать вас на какие-либо, скажем так, антиконституционные высказывания, чтобы потом вам что-то накрутить, меня, как генерала контрразведки, остановили бы такие условности, как негативные высказывания о власти. Для нас, контрразведчиков, в рамках провокации всё допустимо и оправдано, ничего невозможного нет и быть не должно! Другое дело, что подобные методы пригодны для работы с врагами, но вас-то я неплохо узнал! Ну, какой вы враг? Вы лишь против того, что с народом сегодня творят! И не считаете возможным молчать в тряпочку! Вы, по моему мнению, глубоко порядочный человек, но бесконечно удалены от бессовестной современной действительности, от особенностей тайной внутренней политики, от методов работы спецслужб и начисто лишены элементарной осторожности! Да, ладно уж! Вы ведь мне задали, как сами считаете, весьма острый вопрос. Так же? Потому отвечаю на него без дипломатических увёрток! Да! Я считаю, что Путин, каким бы он ни был, у власти находится слишком давно и незаконно, так как все его выборы преступным образом подтасованы! Но кто он и за счет чего до сих пор во власти, еще не самое главное! Главное в том, что за эти семнадцать лет наша страна поднималась лишь в том, в чем ей по уму, следовало бы снижаться! И наоборот! Медицина и образование вдруг стали платными, что противоречит конституции. Да еще превратились в нечто иное, выхолощенное. Армия превращена в слабосильный отряд, неспособный удержать сильного противника против агрессии. И никаких успехов ни в чем, кроме множества липовых!
Гость вдруг замолчал, потом, видимо, не удержавшись, тоже разгорячился и уверено продолжил:
– Эта криминально-олигархическая клика пришла к власти четверть века назад под обещания поднять все показатели страны на невиданный уровень сравнительно с Союзом! И что теперь мы имеем от их свершений? Завал во всём! И скажите мне, как можно охарактеризовать народ, который двадцать пять лет уничтожают под глупые сказки о процветании, а он всему верит, да еще и бубнит, будто жить ему стало лучше! Как говорила моя мудрая бабушка: «Ему ссы в глаза, а он твердит, что божья роса!» Кстати, Пиночет тоже к власти пришел незаконно и крови пролил море, да только страна-то под его началом существенно вырвалась вперед! Может, потому даже народ большую кровь ему простил! Вот так я считаю! Так что? Теперь я вашу проверку прошел? – он доброжелательно рассмеялся, конечно же, надо мной, но не обидно. А его улыбка по-прежнему располагала к доверительному разговору.
Я тоже засмеялся:
– Стало быть, рановато мне с вещами на выход?
– Только по выздоровлению, которого я вам искренне желаю! Но теперь, как сам понимаю, я вас основательно переутомил, хотя врачи меня во времени не ограничили! С вашего разрешения я еще как-нибудь наведаюсь. Согласны?
– Буду очень рад, Борис Иннокентьевич! Так же, как рад и вашему сегодняшнему приходу, и нашему знакомству! Спасибо за беседу, а то я скоро совсем от людей отвыкну! Больные, между нами говоря, люди кое в чём странные – они только о своих болезнях говорят, хотя об этом стоит как раз молчать! А медсестрам разговаривать на свободные темы, как я понял, здесь не разрешают. Очень уж они от любых разговоров с нами уклоняются! Вот и получается – один я, как в пустыне…
32
Некоторое время я наслаждался одиночеством, которое нарушалось лишь медперсоналом. Надо признаться, такой покой мне пришелся по душе, потому я внутренне отнесся несколько враждебно к тому, что у противоположной стены появился очередной сосед.
Поначалу обоснованных претензий к нему не было. Я даже надеялся, что в моём мирке, ограниченном стенами палаты и собственными размышлениями, и при нём ничего не изменится. Хотя надеялся я, разумеется, без оснований – к нему часто заглядывали наши врачи из реанимационного отделения, приходили хирурги и терапевты, не говоря уж о медсестрах, которые от него вообще редко отходили, постоянно что-то исполняя. Потому мне приходилось терпеть и дополнительный шум, и осмотры, и консилиумы, проводимые врачами, и хрипы, сопение и стоны моего соседа. Что с этим поделаешь? Не столь же я испорчен, чтобы не понимать абсолютную законность этих неудобств.
Но к вечеру поведение соседа и медперсонала изменилось. Больной отошел от наркоза и оказался достаточно активным человеком, хотя и привязанным к постели. Более того, мне показалось, он с уверенностью маньяка считал совершенно нелепым своё попадание в эту палату и, тем более, длительное пребывание в ней, потому рвался на свободу. Разрезанный хирургами вдоль и поперек (это я слышал от уговаривающей его медсестры), он не считал такой факт достаточно веским основанием, чтобы не возмущаться лишению его привычной свободы. Он постоянно требовал, чтобы ему принесли его сотовый телефон, потом возмущался фактом лишения его нужных книг или настаивал на немедленном посещении его то одним, то другим родственником, которых, как было понятно из увещеваний медсестры, и в больнице-то пока не было. Он казался недовольным всем и вся! Что, впрочем, часто случается с людьми после наркоза – постнаркотическая капризность!
Постепенно его странная в наших условиях неугомонность привлекла к нему моё внимание и даже возбудила любопытство. В удобный момент, когда медсестра, уходя, оставила распахнутой его занавеску, я обнаружил крупного изможденного старика, обвязанного, как и я, многочисленными проводами и трубками. По небритому много дней лицу было невозможно определить возраст.
Внезапно он тяжело закашлялся, изо всех сил подавляя вынужденные болезненные вздрагивания. Потом, отдышавшись, ругнулся:
– Кажется, они у меня отхватили всё, что ниже пупа выросло, черти окаянные!
– Не доверяете хирургам? – уточнил я из вежливости.
– А что, вы им разве доверяете? Чем больше они отрежут, тем меньше работы терапевтам! Конкуренция! Хирурги, они чересчур решительные. Они мало думают, но много режут! Они голову отхватят, если она при них заболит! – он опять тяжело закашлялся.
Я ему не мешал, не видя возможности и помочь. Да и предпочитал помолчать, только не тут-то было! Сосед, видимо, природой создан разговорчивым, а сейчас его переполняло непонятное мне возмущение. «И почему он готов на всех идти с гранатой?»
– Знаете, уважаемый, не решу, как к вам обращаться, – начал он и, несмотря на то, что я тут же ему представился, продолжил. – Со стороны это может показаться блажью, однако ж, дайте мне вспомнить! Ну да! Первый раз с хирургами я связался в семь лет отроду. Понятно, малец, совсем был, глупый. Мне накануне впервые удалось покататься на роликах. Чужих, конечно. Ботинки на два размера меньше моего. Да так уж охота научиться, что через два дня я с распухшими и воспалившимися пальцами оказался у них, родимых. Удалили мне тогда ногти с больших пальцев! Всё правильно, как будто, сделали, да только новые ногти с тех пор всю жизнь вверх торчат! Со всеми, как сами понимаете, неприятными последствиями! – он осторожно захихикал, чтобы не потревожить свежие швы, но всё равно закашлялся и застонал.
Я слушал его молча, но уже с интересом. Что-то было в этом старике (это я решил, что он старик) притягательного, несмотря на грубоватость и назойливость. По меньшей мере, мне нравилась его непосредственность и подтрунивание над собой, над хирургами, над всем и вся.
– После окончания школы! – продолжил дед. – Эти звери лишили меня аппендикса. Якобы мне та операция была нужна! А я полагаю, они на мне студентов дрессировали! Думаете, на том закончилось? Нет! Они забыли во мне свой тампон! Ходят вокруг и удивляются под плач моей матери: «Как же так? Как же так? Всё хорошо, а ему плохо!» Но мне ещё повезло, поскольку один из них очень решительным оказался. Раз! И я опять на разделочном столе! Разрезали меня, и что-то достали. Хотя не удивлюсь, если заодно еще что-нибудь, на их вкус, оттяпали! Но я пошёл-таки на поправку! – дед опять сдержанно захихикал, вспоминая свою историю.