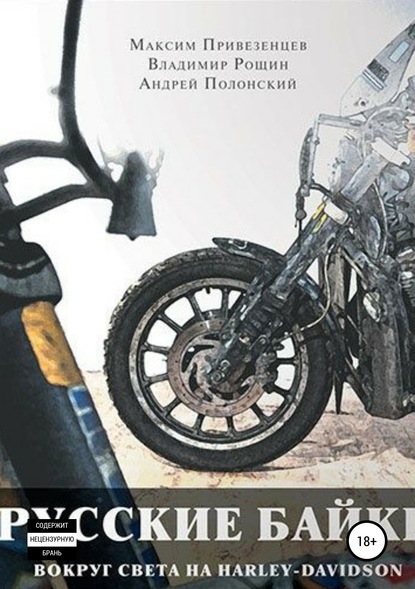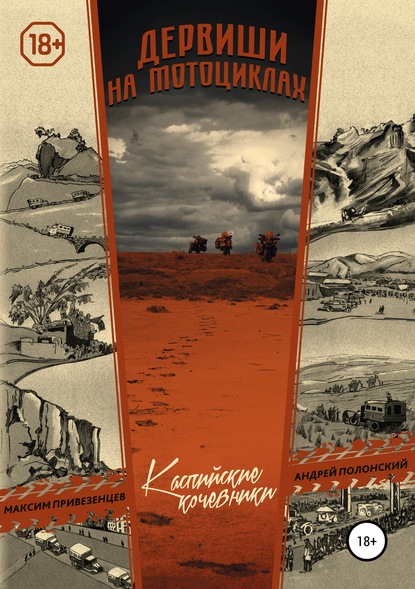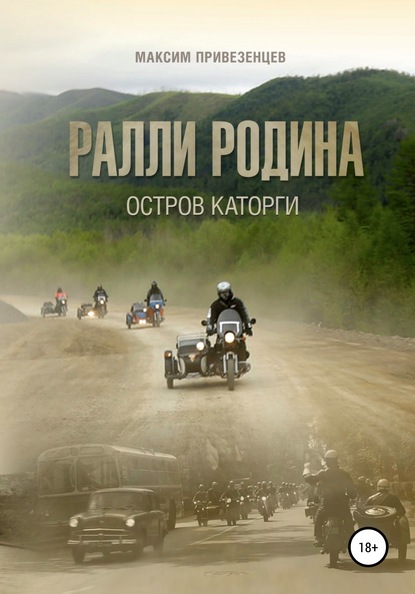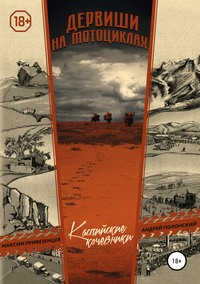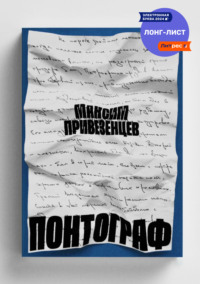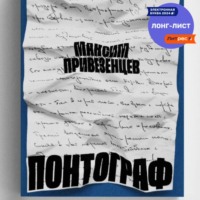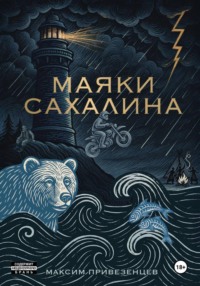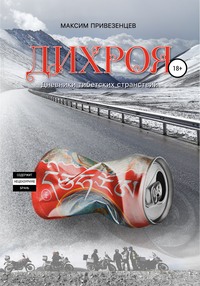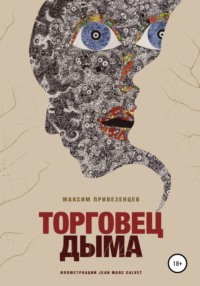полная версия
полная версияШотландский ветер Лермонтова
К горлу Уварова подкатил комок.
– Уверен, – выдавил Петр Алексеевич.
Еще один тяжелый взор.
– Прошу, Монго, – тихо добавил Уваров.
– Хорошо, мон шер, – вздохнул Столыпин. – Будь по-твоему…
Тот вечер показался Петру Алексеевичу донельзя странным. Мишель кружил вокруг возлюбленной княгини, Монго и Гагарин резались в карты, а Уваров безучастной тенью следовал за друзьями, погруженный в думы. С одной стороны, ему хотелось поехать домой и поскорее лечь спать, чтобы хоть в царстве Морфея попытаться укрыться от тревожных мыслей; с другой, Петр Алексеевич не желал оставаться один. Лишь когда Столыпин, устав проигрывать князю, решился покинуть бал, Уваров последовал за ним.
Весь следующий день Петр Алексеевич не находил себе места, а сразу после заката лег в постель, но спал плохо, часто просыпался и подолгу смотрел сквозь тьму в потолок, прежде чем забывался вновь.
Воскресное утро ворвалось в комнату ярким солнечным лучом. Петр Алексеевич совершенно разбитый, наспех привел себя в порядок и уселся за стол, чтобы с книгой и папиросой скоротать время до приезда Лермонтова и Монго. Время ползло до жути медленно; Уваров то и дело посматривал на часы, но дуэлянт с секундантом все не появлялись. Наконец, уже в начале двенадцатого Петра Алексеевича осенило, и он, вскочив из-за стола, бросился на улицу, чтобы поймать экипаж.
«Ох, уж мне эта ваша забота, друзья…» – думал Уваров, трясясь в карете.
На подъезде к Черной речке Петр Алексеевич заметил экипаж, стоящий у дороги, и скучающего на козлах извозчика. Остановившись напротив, Уваров высунулся наружу и спросил, кого тот ждет. Мужик нехотя ответил:
– Двух господ.
– Как выглядели господа?
Извозчик замялся, потом уже открыл рот, чтобы ответить, когда вдали грянул выстрел. Уваров подскочил на сидении от неожиданности.
«Стреляют. Стреляют!..»
Он выскочил из кареты и бросился туда, откуда раздался звук. Не успел пробежать и десяти шагов, как вдалеке прогремел еще один выстрел. Петр Алексеевич ускорил шаг. Идти было крайне трудно; ноги вязли в февральском снегу, точно в болоте.
«Ну же…»
Наконец Уваров увидел, что в его сторону идут двое, и остановился, чтобы отдышаться и заодно присмотреться. Издали было трудно понять, кто это, французы или Монго с Мишелем. От волнения у Петра Алексеевича перехватило дыхание. Никогда еще он так не переживал.
«Молю…»
– Петр! Ты чего тут делаешь?! – наконец воскликнул один из идущих, и Уваров облегченно выдохнул, узнав Монго.
Он поспешил навстречу друзьям. Приблизившись, сразу заметил, что Лермонтов держится левой рукой за правое запястье. Пальцы были красными от крови.
– Царапина, – поняв, куда смотрит Уваров, сказал поэт.
– Что у вас там произошло? – спросил Петр Алексеевич. – Я слышал два выстрела…
– Как-то даже… неловко рассказывать, – хмыкнул Лермонтов.
– Сначала выбрали рапиры, – со вздохом произнес Монго. – Сошлись. Де Барант фехтовал неумело, а Мишель…
– Я защищался, – сказал поэт.
– В общем, Мишель отбивался, потом француз смог его порезать, Мишель разозлился, перешел в атаку, ударил с размаху, но попал клинком в самый эфес, и его рапира лопнула. Я, конечно, сразу все остановил…
– И мы взяли пистолеты, – вставил Лермонтов. – Французик стрелять умел еще хуже, чем фехтовать. Целился, наверное, с час, но промахнулся.
– А вы? – севшим от волнения голосом спросил Уваров.
Ему пришла в голову страшная мысль: если Мишель вот он, живой, стоит перед ним, то где же де Барант? Если поэт убил его, спуску ему вряд ли дадут – припомнят и ту историю, со стихом на смерть Пушкина, и участие в кружке шестнадцати…
– А я в него целиться не стал – выстрелил в воздух, – пожал плечами Лермонтов. – Потом мы пожали друг другу руки и разошлись. Все. Сейчас иду и думаю – может, говорить всем, что я его пристрелил? А то ведь засмеют – бились-бились, а итог всему – сломанная рапира да две переведенных пули…
Монго закатил глаза. Поэт хмыкнул, однако, увидев манжету сорочки, изменился в лице и обеспокоенно пробормотал:
– Надо бы где-то руку обмыть и переодеться в чистое, а то бабушка увидит кровь, расстроится…
– Можно у меня, – предложил Уваров.
– Идея хороша, – кивнул поэт, снова расплываясь в улыбке. – Спасибо, Петр.
– Да будет тебе… ерунда…
Они отпустили одного извозчика, погрузились втроем ко второму и велели ехать обратно в город. По дороге Лермонтов много шутил, улыбался и в целом вел себя крайне непринужденно. Глядя на него, Уваров вспомнил слова Монго, сказанные позавчера на балу – про то, что Мишель будто бы наперед знает, чем все кончится, оттого и не переживает. Теперь это казалось еще более похожим на правду, чем прежде.
«Похоже, худшее уже позади, – подумал Уваров. – Оба живы, француз даже не ранен, а у Мишеля – всего-то царапина…»
Однако несколько дней спустя стало понятно, что так просто о дуэли не забудут. Над де Барантом и Лермонтовым посмеивались, рассказывали об их поединке, как о презабавной нелепице, но – разговаривали, и молва только разрасталась… Ближе к началу марта высший свет уже вовсю обсуждал, насколько эта дуэль походит на ту, что произошла между Пушкиным и Дантесом три года назад – и тоже в феврале.
Закончилось все тем, что десятого марта Мишеля снова взяли под стражу. Уварову эту весть сообщил Монго, приехав к нему посреди воскресенья.
– В чем его вообще обвиняют? – выслушав рассказ Столыпина, осведомился Петр Алексеевич.
– Участие в дуэли и сокрытие этого факта.
– А что же де Барант?
– Пока ничего, – хмыкнул Монго. – Но, подозреваю, уедет на родину, как Дантес. Говорят, сам царь заботится о том, чтобы французик выехал как можно скорей.
– А царю-то какое дело до французика?
– Ну, не забывай, что он сын посла. Вдобавок, тут, похоже, не все так просто, как кажется на первый взгляд…
– Ты же не думаешь, что де Барант действовал… по настоянию царя? – помедлив, спросил Уваров.
– Как знать, мой друг, – с грустной улыбкой сказал Монго. – Как знать… Я вот, например, слышал, что Дантес, вернувшись во Францию, живет и здравствует, хотя по закону ему полагалась смертная казнь. Отчего же его не казнили за убийство? Ответ на этот вопрос, пожалуй, известен только Николаю…
– Что будем делать? – спросил Уваров.
– Остается только ждать суда, – ответил Монго. – Надеюсь, они не станут тянуть – дело ведь, по сути, яйца выеденного не стоит: никто не убит, а ранен разве что сам Мишель и то – несерьезно. Полагаю, у него и шрама-то не осталось…
Уваров согласился, и они со Столыпиным расстались, практически уверенные, что Лермонтов скоро окажется на свободе, безо всяких для себя последствий.
Однако вышло все совершенно иначе.
Два дня спустя после ареста Лермонтова Монго сознался, что был секундантом Мишеля, и его тоже заключили под стражу. Уваров не единожды пытался пробиться к друзьям, но все его попытки оказались тщетными: как заверяли тюремщики, посещения были строго-настрого запрещены. Петр Алексеевич успокоился было, но пару дней спустя с удивлением услышал от Гагарина, что к поэту приезжал де Барант, и они снова спорили, правда, через решетку, и Лермонтов грозился, что после освобождения все-таки довершит начатое и убьет «поганого французика».
– Что-то мне не верится, что Мишель мог говорить подобное, – заметил Уваров, когда князь закончил свой рассказ.
– Мне тоже. Но жандармы утверждают, что слышали это четко и ясно. Так что дело принимает самый худой оборот…
Шли дни, недели, а Мишель и Монго оставались под арестом. Единственным, кому удалось пробиться к заключенным, стал Белинский – прочтя только что вышедший из печати роман Лермонтова «Герой нашего времени», он пришел в вящий восторг и использовал все свое влияние, чтобы вытребовать у Бенкендорфа право на посещение поэта. Прознав об этом, Гагарин пригласил критика на внеочередное заседание кружка.
– Расскажите, как он там? – спросил князь, когда они дружной компанией пили шампанское и курили у него в гостиной.
– Держится на удивление бодро, – ответил критик. – Читает Гофмана, переводит Зейдлица и настроен вполне оптимистично. Говорит, что если переведут в армию, будет проситься на Кавказ – тамошние горы его вдохновляют. Это, кстати, очень заметно, по «Герою нашего времени». Очень атмосферная вещица, знаете ли…
– А что же Монго? Про него Мишель что-нибудь говорил?
– Просил передать, что с Алексеем все в порядке. Он, как полагает Лермонтов, избежит сколь-либо серьезного наказания, в отличие от самого Михаила.
– А вы что думаете? – спросил Уваров.
– Я думаю, что Лермонтов, увы, попал в немилость, – со вздохом сказал Белинский. – Это вдвойне печально осознавать, учитывая, что с каждым днем общество проникается к его гению все большей любовью. Увы, даже всенародная любовь не может спасти от нелюбви царя.
Уваров молча кивнул. Выводы Белинского в точности совпадали с выводами самого Петра Алексеевича.
К началу апреля ничего особенно не поменялось. Все это время Уваров и другие люди, коим были небезразличны Монго и Мишель, кормились слухами, гулявшими по Петербургу. Что только не говорили!.. Уварову снова вспомнилась история с Пушкиным и Дантесом – с той лишь разницей, что на сей раз никто не погиб: признавая несомненный талант Лермонтова, высший свет осуждал его за «горячую шотландскую кровь», которая сделала его из любимца царя едва ли не заклятым врагом престола; француза большинство почему-то оправдывало, считая его жертвой ядовитой и саркастической натуры Мишеля. Уваров поначалу пытался что-то доказывать этим болтунам, но от его слов только отмахивались – мол, ты известный друг поэта, а потому доверия тебе нет. Поняв, что слушать его не станут, Петр Алексеевич оставил любые попытки изменить общественное мнение.
В самом начале апреля де Барант с благословением царя убыл на родину, а еще через пару дней из-под ареста освободили Монго, что лишний раз подтвердило догадки лермонтовских друзей – следствие во главе с графом Бенкендорфом волновал только Мишель.
– Суд, говорят, через неделю, – встретившись с друзьями впервые после ареста, рассказал Столыпин. – Все идет к новой ссылке на Кавказ. Но посмотрим. Мишель все еще верит в лучшее – учитывая, что бабушка после его ареста слегла с параличом, он надеется, что ему позволят остаться с ней, пока не восстановит здоровье.
– Он там пишет? – поинтересовался Жерве.
– Да. Мне очень понравилось стихотворение «Соседка» – настолько, что я сходу запомнил первое четверостишие…
Не дождаться мне, видно, свободы,
А тюремные дни будто годы,
И окно высоко́ над землёй,
И у двери стоит часовой!
– Похоже, оно обещает стать гимном среди заключенных, – добавил Столыпин.
Как показало время, Монго не соврал: суд действительно состоялся через неделю, двадцатого апреля. Помимо сокрытия дуэли, граф Бенкендорф обвинил Лермонтова в даче ложных показаний; разумеется, не остались без внимания и угрозы в адрес де Баранта – иронично, но никого из участников сего действа, практически театрального, не волновало, каким образом француз вообще попал к Лермонтову в тюремный корпус в Ордонансгаузе, куда посторонние не допускались. Не ошибся Монго и с приговором: им стала новая бессрочная ссылка на Кавказ. А вот надежды Мишеля на то, что ему позволят задержаться в городе, покуда бабушка не пойдет на поправку, не оправдались – суд обязал доставить поручика Лермонтова на Кавказ не позже конца апреля.
– Не представляю, что будет с Елизаветой Алексеевной, – со вздохом сказал Монго, когда на следующий день после суда заехал навестить Уварова. – Она и так плоха, а тут – подобные вести… Видел бы ты ее лицо, когда я приехал к ней вчера. Боюсь за нее.
– Вести и вправду ужасные, – признал Уваров. – Скажи, Монго, будет ли у нас возможность встретиться с Мишелем перед отъездом?
– Насколько мне известно, по дороге на Кавказ ему позволят на несколько дней задержаться в Москве – столько потребуется, чтобы оформить все необходимые бумаги. Думаю, это лучшая возможность, чтобы проститься с ним перед его отъездом в Грозный.
Уваров признал, что это действительно так, и они с Монго условились также отправиться в столицу вслед за Мишелем. К счастью, на сей раз обошлось без неприятных сюрпризов, и потому девятого мая состоялась долгожданная встреча в Москве, на именинах у Гоголя.
Первая мысль, которая мелькнула в голове Петра Алексеевича, когда он увидел Лермонтова после долгой разлуки:
«Что же с ним сделали?»
Метаморфоза, произошедшая с Мишелем, поразила Уварова: вместо жизнерадостного, неунывающего балагура перед ним стоял человек, как будто уставший от самого своего существования, напрочь лишенный огня в глазах. Лермонтов пытался шутить, периодически улыбался, но выходило все это у него на удивление неестественно, словно он не был здесь, а всего лишь отбывал роль – этакий пожилой артист театра, который уже не получает удовольствия от сценической игры и с нетерпением ждет завершения своего прощального спектакля.
Улучив момент, когда Мишель остался один, Уваров подступил к нему вплотную и спросил:
– Как ты, милый друг?
– Наслаждаюсь хорошей компанией, пока есть такая возможность… Как тебе, кстати, Хомяков? По мне, так славный малый, хоть и славянофил… Надеюсь, я не обидел его своей риторикой?
Под хмурым взглядом Уварова он смолк, а потом сказал:
– Ну какого ответа ты от меня ждешь, Петр?
– Хочу узнать, что у тебя на душе.
– А ничего, – подумав недолго, пожал плечами Лермонтов. – Просто я, кажется, наконец все понял, и оттого мне сделалось совершенно грустно.
– Ты про царя?
– В том числе. Видишь же, как все получается: людям, кажется, наконец-то нравятся мои стихи и проза, но все их мнения, даже сложенные воедино – ничто, прах и пыль, в сравнении с мнением царя. Он решил сжить меня со свету, и никто, увы и ах, не пытается ему в этом помешать. Более того – никто даже не допускает мысли, что можно противиться мнению престолодержца… Так что вера царя в то, что есть два мнения – его и неверное – возникла не на пустом месте, да-с…
Лермонтов смолк ненадолго, после чего добавил тихо:
– А самое страшное, Петр, что не вижу я у такой России будущего. Только мрак и смерть, медленную, мучительную. Одного поэта уже французиком угробили, теперь второго черед…
– Но ты же живой, – пробормотал Уваров.
– Надолго ли? – горько усмехнулся Мишель. – Де Барант оказался неумехой, но где гарантия, что в следующий раз мне повезет так же? Нет, здесь мне покоя не будет…
– Но где-то ведь он есть?
– Где-то… – эхом повторил поэт. – Ты знаешь, когда я только-только узнал о своих шотландских корнях, я мечтал когда-нибудь отправиться туда, в те края, чтобы посмотреть, откуда родом мои предки. Теперь же я всерьез думаю, что, возможно, мне следовало бы уехать туда и попробовать, что называется, начать жизнь с чистого листа?..
– Возможно, эта идея действительно неплоха? – осторожно заметил Уваров.
Говорить подобное ему было непросто: стоило представить, что Мишель навсегда покинет Россию, и в душе образовывалась пустота размером с гору Казбек. Но разве не в этом заключается настоящая дружба – желать товарищу лучшей участи, несмотря на собственные интересы?
– Возможно. Да только царь никогда в жизни документы на мой выезд не подпишет – я… да все мы, по сути, его крепостные. Сбежать, подкупив капитана в порту? Но это значит лишиться чинов, званий, вообще всего, что у нас есть… и если я готов принести такую жертву, то бабушка подобного не переживет, а я слишком люблю ее, чтобы так с ней поступить. Вот и получается, что я – точно заморский цирковой зверь в клетке: моя задача – веселить публику; за любую попытку открыть ей глаза меня беспощадно наказывают кнутом. C'est la vie (такова жизнь, франц.).
Те слова надолго запомнились Уварову. Прощаясь с Мишелем на следующий день, он пообещал, что обязательно приедет навестить поэта на Кавказ.
К тому моменту, как Лермонтов прибыл в расположение русских войск, «Герой нашего времени» завладел умами тысяч людей, но до сих пор оставался не прочтен царем.
* * *
2018
Дом Жени находился неподалеку от города Эверенс и озера Лох-Несс, известного, в первую очередь, своей легендой про чудовище, обитавшее в пучине. Меня всегда веселил не столько сам миф, сколько шумиха вокруг него: многие годы туристы приезжали сюда в надежде сфотографировать пресловутого монстра и раз за разом уезжали ни с чем.
«Как будто в мире нет ничего интересней, чем выдуманный диплодок!..»
Иронично, но никого из туристов не волновал тот факт, существовало ли чудовище на самом деле – народ все равно стабильно прибывал в эти края сезон за сезоном. При этом Лермонты, чьему существованию имелось множество подтверждений, никогда не вызывали подобного ажиотажа. Монстр в озере ведь куда интересней, чем предки одного из лучших поэтов в истории России…
Когда мы прибыли к экватору нашего путешествия, на Шотландию уже опустились сумерки.
– Ни разу мы еще засветло не приезжали, – усмехнулся я, сняв шлем. – Традиция практически…
Чиж, будто не слыша меня, спрыгнул с мотоцикла и решительным шагом устремился ко входу в дом.
– Специально ей за час написал! – бросил он на ходу. – Чтоб к приезду все готово было! Сейчас поглядим…
– Готово? – переспросил я. – Ты о чем?
Но Вадим уже распахнул дверь и зычно воскликнул:
– Женя! Мы приехали! Ужин готов?
И снова я вспомнил про Фингаск, но на сей раз – о нашем приезде, когда Вадим вот точно так же вошел внутрь, удивленный тем, что нас никто не встречает. Выбравшись из седла, я неторопливо побрел к крыльцу. На ходу достав сигару, раскурил ее и затянулся.
«Покурил бы, расслабился после дороги… куда так спешить?»
Я не успел толком насладиться сигарой, а Чижики уже появились изнутри, оба – и Женя, и Вадим. Женя была в джинсах и куртке, наброшенной на плечи поверх голубого джемпера; она улыбнулась мне и сказала:
– Привет, Максим. Вы нормально добрались? А то Вадим какой-то… перевозбужденный.
– Да вроде все нормально, устали просто, – пожал плечами я. – Много сегодня в пути провели. Только до тебя две сотни километров.
– И проголодались, – с легким укором сказал Чиж.
– Да все готово, чего ты, Дим? – хмыкнула Женя. – Пойду разогрею.
– Вот, давай, – веско произнес Чиж. – Мы покурим и придем.
Женя кивнула и снова скрылась внутри.
– Суров ты, друг мой, – сказал я, шутливо прищурив глаз.
– Просто заранее ж написал, – пожал плечами Чиж. – Вот и… А…
Он махнул рукой и полез за сигаретами. Мы покурили немного в тишине: Чиж о чем-то думал, я же смотрел по сторонам. Пахло зеленеющим лугом, привычно шумел ветер, который словно строгий пастух – овец, сгонял в кучу разбежавшиеся облака.
«К полуночи они вырастут до полноценных туч, как «Доширак» в кипятке, и прольются на землю ливнем. Как и два часа назад. И до этого. И еще раньше…»
– Все же классно тут, – сказал я. – Хорошо, что ты меня сюда вытащил.
– Мне тоже все нравится, – с улыбкой ответил Чиж.
Вадим немного лукавил – учитывая, с какой неохотой он ездил по историческим местам Лермонтов – но в его словах чувствовалось облегчение и сопутствующая искренняя радость.
– Но чего-то не хватает… – пробормотал Вадим.
Сжимая сигарету в зубах, он подошел к своему «Харлею», открыл кофр и, порывшись в нем, извлек бутылку виски – ту самую, что приобрел на пароме у хитрых одесситов.
– Вот чего! – радостно воскликнул Чиж, потрясая в воздухе трофеем.
– Так ты ее на этот день берег? – ухмыльнулся я.
– Ну а как же? – хмыкнул Вадим. – Надо ж отметить встречу с сестрой!
– Ну, пойдем в дом, – сказал я.
Остаток вечера пролетел быстро: мы, голодные, очень быстро растерзали приготовленный Женей ужин, потом посидели недолго, но разговор не особенно клеился. Всему виной была наша усталость: за этот день мы проехали порядка 500 км.
– Завтра же фестиваль, Жень? – спросил я.
Еще до нашего отъезда в Шотландию Чиж рассказал мне про фестиваль Тартан Харт, который ежегодно проходил в городе Беллардум, недалеко от Жениного дома.
– Да.
– А во сколько нам туда лучше всего поехать?
– Я обычно прибываю ближе к обеду. Там с утра все начинается, но до двенадцати не протолкнуться – народ съезжается со всей Великобритании.
– Ну, значит, доверимся твоему опыту, и поедем к обеду, – сказал я. – Поедем не торопясь, полюбуемся окрестностями.
Я ушел спать первым, оставив Женю с Вадиком наедине. Быстро зафиксировав события минувшего дня в дневнике, проверил почту и обнаружил в ящике e-mail от Томаса Бивитта. Текст был следующий:
«Добрый вечер, Максим.
Это Томас. Высылаю тебе перевод поэмы Лермонтова «1831 июня 11 дня» и приглашаю вас с другом в гости. Помню, ты писал, что вы будете неподалеку от Эвернеса, это здорово, потому что я живу поблизости. Координаты – тоже во вложении.
С наилучшими пожеланиями, Т. Б.».
Ниже были скриншоты с телефона. Я забил присланные координаты в навигатор: получалось, что от Жени до дома Бивитта было всего-то 70 километров.
Не мудрствуя лукаво, я написал ответ, в котором сказал, что с радостью воспользуюсь приглашением Томаса, и попросил назвать удобное для встречи время.
«Даже если Чиж не захочет, съезжу сам», – решил я.
С переводом я решил ознакомиться на следующее утро: мозг нуждался в отдыхе, а завтра был первый день путешествия, когда у нас не было жесткого времени старта – по сути, настоящий день отдыха с фестивалем «на десерт». Вытянувшись на диване, который мне отвела Женя, я быстро уснул. Снились мне берега Шотландии и горизонт, разукрашенный багрянцем заката.
Наутро меня пробудил аромат свежесваренного кофе. Я приоткрыл один глаз и увидел, что за окном уже светло.
«Наверное, пора вставать».
Когда я привел себя в порядок и вошел на кухню, Женя уже была там.
– Доброе утро, Макс, – сказала он.
– Доброе утро! – улыбнулся я. – А Вадик где?
Храп, донесшийся из комнаты, послужил лучшим ответом на мой вопрос.
– Понятно… – пробормотал я, усаживаясь за стол.
Женя тут же подвинула мне кофе и тарелку с омлетом и спросила:
– Не хочешь пройтись? Ты ведь вроде собирался посмотреть окрестности…
– Пойдем, конечно, – кивнул я.
– Я стараюсь каждое утро проходить несколько километров, если появляется возможность, – сказала Женя. – Брожу, дышу свежим воздухом, любуюсь пейзажами… Очень вдохновляет, прочищает мозги.
– Ну, вот и посмотрим.
Я быстро доел завтрак, и мы отправились на прогулку. На улице было свежо после ночного дождя, но грунтовка успела высохнуть, и потому ботинки не утопали подошвами в грязи. Мы брели по дороге между густых кустарников с сочной зеленой листвой; ветер, словно строгий учитель – непослушную детвору, заставлял деревья махать нам вслед ветвями. Вместе с нами на прогулку отправился Женин спаниель Лэди – собака бежала чуть впереди, периодически останавливаясь, чтобы нас дождаться. А мы, конечно, не спешили: я с любопытством озирался по сторонам, а моя спутница терпеливо шла рядом.
– Слушай, ну так красиво тут у вас, – сказал я.
– Сама до сих пор восхищаюсь. Хотя живу тут уже без малого двадцать лет.
Мы помолчали, и некоторое время тишину вокруг нарушал лишь шум ветра. Вообще я обратил внимание, что ветер в Шотландии был везде, куда бы мы ни приехали.
«Возможно, когда-то, много тысячелетий назад, боги возвели здесь горы, чтобы отгородиться от него… но так и не преуспели. Возможно, ветер был настолько сильным, что донес до Лермонтова эхо голосов его далеких предков, которые взывали к нему через века?..»
– А вот скажи: успела ты к Шотландии привыкнуть за эти двадцать лет? – щурясь от солнца, спросил я. – Стала она для тебя вторым домом, что тут тебе нравится, что нет?.. Хотя про то, что не нравится, можешь не говорить, больше интересует, за что полюбила…
– Первое, что приходит на ум, – помедлив, сказала Женя, – это люди. Понимаешь… Когда мы только переехали сюда с мужем, я была полна надежд. Но потом случился… unhappy end. Ну, не конец… Знаешь, как говорят: все будет хорошо, а если не хорошо, то это был еще не конец? Вот что-то подобное было и у меня: просто наступил момент, когда любовь всей моей жизни канула в прошлое, и я чувствовала себя несчастнейшим человеком на свете. Тогда я начала думать, куда мне уехать, что вообще делать… А тут надо учитывать, что у меня на руках были двое маленьких детей, и я металась… Дом, дверь, стены, каждый кирпичик в них – все напоминало мне о моем неудавшемся супружестве, и я решила, что поеду обратно в Россию… а потом задумала поехать в Италию… и еще много разных побегов напридумывала… и в итоге осталась тут. Просто в какой-то момент поняла, что Шотландия успела стать моим домом, и я уже никуда отсюда не хочу – как раз из-за людей, с которыми успела подружиться, которых успела полюбить. По сути, это моя вторая семья тут. Уникальное сообщество. Я, кстати, после отъезда детей в лондонский университет тоже выть начала от тоски, задумалась опять о переезде… и опять осталась здесь.