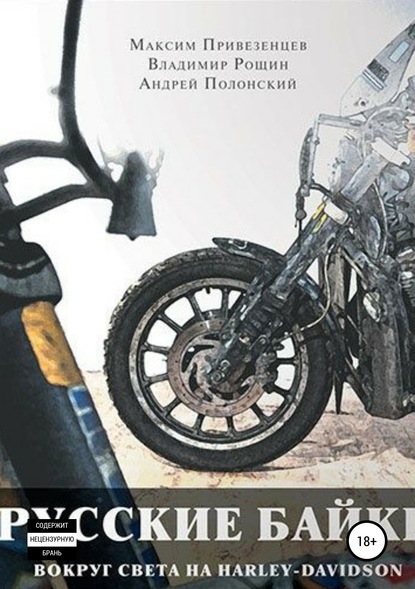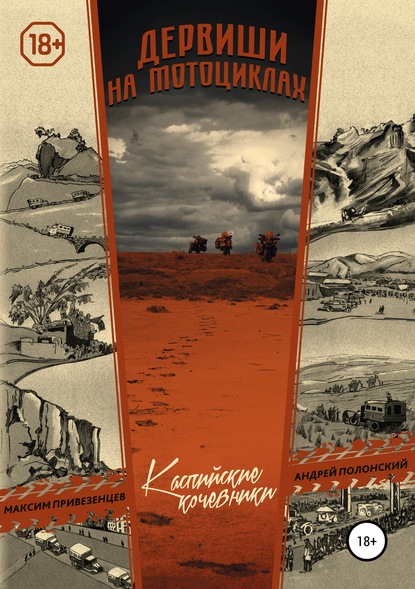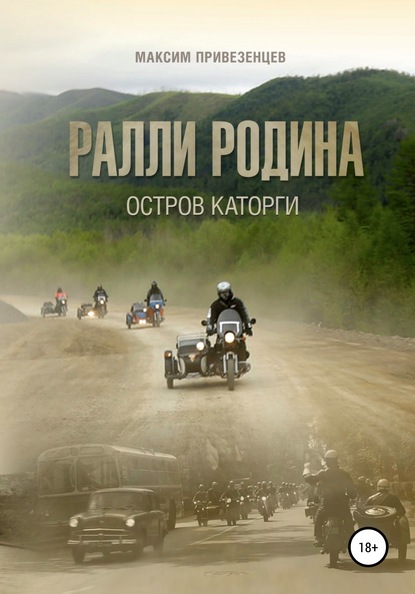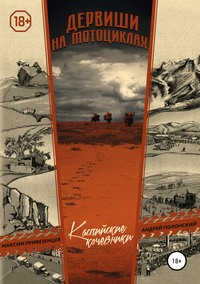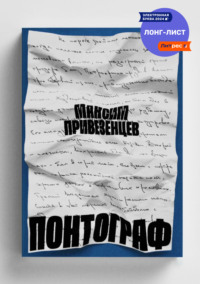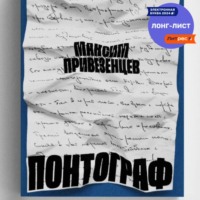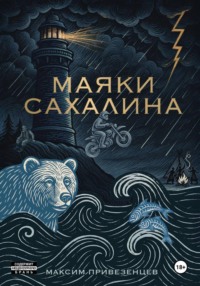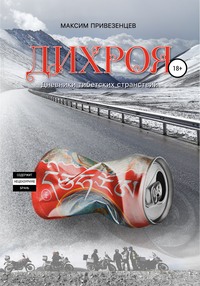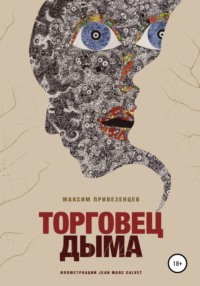полная версия
полная версияШотландский ветер Лермонтова
– Такие прекрасные люди?
– Прекрасные… нет, наверное, это не очень верное слово. Они и прекрасные, и ужасные, и верные, и неверные… как все люди. Но они тут настоящие, такая большая интересная, необыкновенная семья, со всеми достатками и недостатками.
– А природа?
– Это как раз второе. Первое – люди, а второе – природа, которая здесь абсолютно уникальная, красивая, чистая… А тебе что понравилось у нас?
– Буду банален – то же самое. Климат достаточно суровый, но при этом не создается впечатление какой-то… безнадеги. Погода меняется постоянно, как в тропиках – только дождь, тут же солнце, потом буквально через полчаса опять дождь… Холодно, жарко – по сто раз на дню. Бывает, едешь поздним вечером под ливнем, проклинаешь все на свете, а потом небо проясняется, луна светит, и ты наблюдаешь такие чарующие пейзажи, контрастирующие один с другим. Удивительно, по-настоящему. Ну и люди – ты права, они здесь тоже необычные. Я вообще в последнее время много думаю о том, как сочетались в Лермонтове его лирика и его фатализм… и мне на фоне этих размышлений стало казаться, что здесь, в Шотландии, очень схожая атмосфера, этакая помесь сурового и романтичного. И сам народ – такой же. У тебя нет такого ощущения?
– Есть, конечно! Романтика тут просто зашкаливает. Тут же все поют… не так, как в Ирландии, возможно, но почти так же. Тут баллады всяческие, народный фольклор, история, все, что связано с рыбой… ой… – Она запнулась. – Хотела сказать «ритуалами», на Лэди отвлеклась.
– Традициями…
– Да-да! Традиция. Вот это очень подходящее слово. Традиции в поэзии, в песнях, все ими буквально пронизано – их понятием кланов, семьи, большой семьи. Ты знал, что главного человека в клане, этакого командира клана зовут chief, то есть «шеф»? Он следит не только за своей женой, детьми, родителями – за всем кланом его местности. Это все выливается в безумное количество праздников и мероприятий: не потому, что так надо, а потому что людям действительно нравится быть вместе, делиться друг с другом этим счастьем от единения. Они вместе общаются, поют песни, читают стихи, баллады… сами сочиняют, танцуют рил… Ну, ты сам увидишь, я думаю. У нас в России, как мне кажется, все по-другому. Все пытаются показать, как они независимы от семьи, как самостоятельны… Я тому яркий пример – бросила все и уехала. Вадик мне иногда говорит – приезжай обратно…
– Говорит, правда?
– Ну да. Скучает. Но мы все равно с ним очень разные, даже когда встречаемся тут, очень редко, обсудим что-то за часок-другой и все. Оно и понятно: он – технарь по складу ума, я – гуманитарий, разные полушария, все такое…
Мы гуляли минут сорок, не меньше, болтая о том о сем. Прошли мимо поля, на котором паслись пятнистые коровы и лохматые козы; Лэди пару раз залаяла в их сторону – беззлобно, скорей для порядка.
– И часто ты так гуляешь? – спросил я, наблюдая за собакой, которая с чувством выполненного долга потрусила дальше.
– Каждый день стараюсь, когда погода позволяет. Лэди нужна компания. Да и с утра рисовать у меня не особенно получается. Хоть я и не сова, как Вадик, но и не жаворонок тоже.
– А я вообще не особенно ходьбу люблю, – признался я. – Могу пройтись, если надо, но это нечасто случается. Для кардио в зале хожу, но в целом как-то не получается в будни ходить – ездишь больше, чтобы везде успеть.
Когда вернулись к дому, Чиж уже курил на скамейке у входа. Заметив нас, Вадик откинулся на спинку и, подняв руку, воскликнул:
– Вот вы где! А я думал, вы без меня на фестиваль уехали!
– Да ну, куда мы без тебя, – хмыкнула Женя. – Тем более еще рано совсем. Сейчас потихоньку соберемся и поедем, покажу вам замок на берегу. Хотите?
– Да, очень, – сказал я.
– В мастерскую нас не сводишь? – спросил Чиж. – В старую, новую… думаю, Максу будет интересно.
– Пойдемте, конечно, – с улыбкой произнесла Женя. – Там такой… творческий хаос больше.
– Это ничего. Это нормально, – сказал я.
Мы подошли к одноэтажному флигельку, собранному, что интересно, из бревен. Внутри действительно царил беспорядок. Везде – на стенах, на полу, на каких-то желтоватых холстах – были разноцветные пометки: где-то просто линии, где-то слова, где-то наброски в три мазка… Слева от входа, на столе, стоял пухлый монитор с известной эмблемой надкушенного яблока под экраном.
– Вот моя мастерская, – сказала Женя.
– А это тот станок, про который ты мне рассказывал? – спросил я, указывая на железную конструкцию с большим вращающимся колесом.
– Да, – кивнул Чиж.
– Его папа привез, – вставила Женя.
– Сюда – да, а до Германии я его вез.
– Ну, да.
– Он для графики, правильно? – спросил я, подходя к станку поближе.
– Для офортов. Видишь, вот это офорт. – Женя указала на картину, висящую на стене под стеклом: широченное полотно, изображающее некий урбанистический пейзаж. – Это вытравлено на металлическом листе как раз таким вот станком. Тут просто кладбище. Надо взять себя в руки и прибраться тут. В общем, я печатала раньше на этом станке подобные вещи. Вообще с этой мастерской много воспоминаний связано. Этот вот домик, он ведь стоял на горе – мы мимо нее проходили, там, возле ручейка… Ну, неважно. В общем, раньше он принадлежал графине, она туда ходила играть в карты и пить коньяк… пока не умерла, и домик не перешел к ее мужу, русскому поляку. Я тогда только переехала, умирала, хотела работать, и тут, гуляя по окрестностям, увидела его. Ну, дом, в смысле. И влюбилась. Попросила продать, поляк согласился, и мы бревнышко за бревнышком разобрали и перенесли его сюда. Ностальгия такая… Сначала я сюда на часок уходила, потом на два, три… В общем, на дольше и дольше. Удивительно, но чем больше времени проводишь в мастерской, тем меньше успеваешь сделать.
– Мне кажется, когда на творчество слишком много времени, муза не приходит.
– Правда?
– Ну, мне кажется, да. «У тебя много времени, сиди». Что-то вроде того.
– Да, наверное, ты прав. Бывает, весь день сидишь у мольберта и – ничего… А бывает, за час делаешь полный набросок.
Мы вышли из мастерской и вернулись обратно к дому.
– Я пойду собираться, думаю, поедем где-то через полчаса-час, – сказала Женя. – Как раз к полудню доберемся без спешки.
Мы не спорили. Женя скрылась в доме, а мы с Чижом уселись на лавку у порога – покурить.
– Томас Бивитт вчера прислал перевод поэмы, кстати, – сказал я, вытаскивая сигару.
– Какой? – не понял Чиж.
– Которую я ему заказывал перевести, – хмыкнул я.
– А… Эта… «1831 июня 11 дня»?
– Угу.
– Интересно.
– Он нас в гости позвал. Поедешь со мной? Если хочешь.
– Хочу, – кивнул Чиж. – Когда?
– Пока не знаю. Я ему вчера написал, что с радостью к нему заеду, и попросил уточнить время. Может, он, кстати, уже ответил…
Я достал телефон и полез в ящик.
– Точно. Ответил.
– Что пишет?
– Ждет нас завтра, в два часа дня. Прислал телефон для связи. Соглашаюсь?
– Да, конечно.
Я написал Томасу, после чего открыл присланный перевод и погрузился в чтение. К тому моменту, когда Женя вышла из дома, я успел прочесть стихотворение дважды. Глава «Лермонтовского наследия» не лукавил, говоря, что творчество его великого предка Томаса чувствует на молекулярном уровне: выдающаяся работа, которую даже сам Михаил Юрьевич, случись ему прочесть, полагаю, оценил бы по достоинству.
– Готовы? – спросила сестра Чижа, подойдя к нам.
– Да, – встрепенулся я. – Вадик, ты же готов?
– Да, конечно. – Чиж затушил сигарету о подошву. – Поехали.
Дорога в Беллардум заняла около часа. Не слишком долго, учитывая, что мы дважды останавливались в пути: сначала – у белоснежного трехэтажного замка, находящегося на самом берегу, чтобы сделать пару снимков на фоне этого красавца; потом – чтобы прогуляться по старому каменному причалу. В общем, на месте мы были в обед, как и планировали раньше. Все поле было заставлено трейлерами – судя по всему, люди выбирались сюда целыми семьями. Более всего происходящее здесь напоминало огромную ярмарку – пестрые разноцветные шатры, где можно купить все на свете, шумные зазывалы, народ, группками по три-четыре человека, снующий туда-сюда…
– А это еще что? – хмыкнул Чиж, указывая на громадную розовую конструкцию вдалеке. – На «Т-34» похоже…
Подойдя ближе, мы поняли, что перед нами действительно танк, но не обычный: неизвестные шутники обмотали его снизу доверху розовой стретч-пленкой. Из дула валили мыльные пузыри; переливаясь всеми цветами радуги на ярком солнце, они, подхваченные ветром, уносились прочь, чем вызывали восторг у детворы.
– Нет войне, или «love and peace» по-шотландски? – с улыбкой спросил я у Жени.
– Удивительно, да? Согласно всем канонам, шотландцы – крайне воинственный народ. А у них вот, розовые танки с пузырями… Потому что главное – семья и любовь, мир. Увы, правительство любой страны преследует совсем другую цель – не объединить, а, напротив, разделить всех нас, потому что, когда человек один, он куда более простая мишень, им легче манипулировать. А вот, когда вас много, вы – семья, целый клан, тогда уже с вашими интересами приходится считаться. Вас уже сложней обратить в стадо. Традиции – это как раз то, что объединяет людей внутри семей, кланов. В России, как мне кажется, это отрицание традиций в итоге и привело к некоему разобщению народа.
– Сложно с этим не согласиться, – вздохнул я. – Иными словами, соблюдение традиций – это не только благо, но и большая ответственность, ведь без них все рассыпется?
– Да, да! – энергично закивала Женя.
Мы подошли к одному шатру: внутри была небольшая сцена. По ней выхаживал молодой парень лет двадцати пяти-двадцати семи в ярком синем пиджаке и синем же галстуке, который очень контрастировал с белоснежной сорочкой. Парень что-то вдохновенно рассказывал, а зрители внимали ему, сидя на складных стульях перед сценой.
– Вот, как раз! – воскликнула Женя и мотнула головой в сторону выступающего. – Это – лорд Саймон, глава клана Фрейзис. Его отец умер от болезни, и он вынужден был принять на себя роль «шефа» в совсем юном возрасте. Но что он делает? Два раза в год он устраивает большой праздник для местного населения, чтобы они ощущали его заботу. И этим дело не ограничивается. Он всегда в курсе, если кто-то из людей, работающих на него, заболел или попал в больницу… Он не должен этого делать, но делает, потому что в нем есть эта внутренняя ответственность за своих людей. Нет такого, что ты разбогател и «ха-ха, завидуйте, у меня больше денег, чем у вас». Наоборот, чем больше денег, тем больше ответственность за своих людей, тем больше ты можешь для них сделать. Мне это очень импонирует.
Я тихо хмыкнул. До чего же порой обманчива бывает внешность: человек, поначалу принятый мной за конферансье, оказался лордом и наследником древнего рода!..
– Как думаешь, шотландская лирика вкупе вот с этим… чувством локтя – оставляет свой отпечаток на твоем творчестве?
– Да, безусловно.
– Не думала, что было бы, если бы после развода ты все-таки вернулась в Россию? Насколько это повлияло бы на твое творчество, на то, что ты создаешь, что вкладываешь в свои произведения? Или обстановка не настолько сильно влияет на твой внутренний мир?
– Знаешь, как сказал чешский писатель Милан Кундера в своей книге «Невыносимая легкость бытия»: «Нет никакой возможности проверить, какое решение лучше, ибо нет никакого сравнения: мы проживаем все разом, впервые и без подготовки». То есть нельзя с уверенностью сказать, какой была бы жизнь, поступи мы так или иначе, потому что жизнь – вот она, здесь и сейчас. Не законченный рисунок, а набросок, который никак нельзя исправить. То есть ты не можешь просто стереть часть жизненной линии и начертить новую, с нужного тебе момента. Поэтому вообразить себе, что было бы, очень трудно. Другое дело, что обстановка, конечно же, влияет на твое творчество через твое восприятие.
– Высказывание Милана Кундеры навевает мысли о фатализме, – заметил я… – Не думаешь, что твое творчество в России было бы более… фатальным?
Видя на лице Жени легкое недоумение, я торопливо добавил:
– Сейчас поясню. Смотри: я, безусловно, разделяю точку зрения, что история не терпит сослагательного наклонения. Но при этом вопрос «если бы» – он же всегда живет во многих умах. И вот я, путешествуя по Шотландии, часто задумывался, что было бы, если бы Лермонтов не только узнал о своих корнях, но и перебрался бы сюда? Могло ли это как-то изменить его судьбу? Например, помочь ему избежать той нелепой дуэли, на которую он нарвался, ища смерти… Смог бы свежий шотландский ветер прояснить его мысли?
– С одной стороны, конечно, смена обстановки точно сделала бы из Лермонтова другого человека, – медленно ответила Женя. – С другой, не стоит все-таки забывать, что Шотландия в те годы тоже не была курортом. Когда приезжаешь куда-то в гости, все кажется более… дружелюбным, легким, потому что ты на каникулах. Но когда ты именно переезжаешь – это совсем иное чувство. Плюсы – они всегда на поверхности больше, чем минусы. Во времена Лермонтова, впрочем, и гостем сюда приезжать было нежелательно: Шотландия переживала труднейшие времена. Нет, безусловно, если бы он приехал сюда за «бурей», то обязательно ее нашел.
– Да, наверное, ты права – я под впечатлением от Шотландии и потому сужу несколько поверхностно. В 1840-е годы, насколько я помню, тут была эпоха больших перемен и безработица?
– Именно. Промышленность активно развивалась, но рабочих мест все равно не хватало, и народ массово эмигрировал, а кто не мог – прозябал в бедности. Плюс были серьезные эпидемии в Глазго и других городах. Другое дело, что Лермонтов относился все-таки к знати, наверняка, у него была бы земля и прочее… Сложно. Знаешь, я большая поклонница Пушкина. И вот у меня тоже был период, когда я ломала голову, мог ли он избежать дуэли с Дантесом? Наверное, они все-таки так или иначе нашли бы свою смерть – может, чуть позже, но нашли бы непременно. Фатализм это или что-то другое – не берусь судить…
Время летело незаметно. Мы бродили по этому царству ярких красок, ароматов меда, корицы и других приправ, и везде нас встречали улыбками – будь то случайные прохожие или же администраторы-волонтеры. После обеда Женя презентовала публике книгу стихов своего друга, Шуры Шихварга – русского литератора со сложной судьбой, с которым они дружили последние лет пятнадцать. После презентации мы перекусили и направились на север – к сценам, на которых начинался разогрев перед гала-концертом.
Масштабы поражали. Я сам уже десять лет ежегодно провожу блюз-байк фестивали в Суздале, но это были несравнимые величины. У нас речь идет о нескольких тысячах человек. Здесь же, в Беллардуме, стабильно собиралось около сотни тысяч – колоссальная масса людей, от которых исходила невероятно мощная энергетика. Перед самым концертом мы познакомились с друзьями Жени – позитивными шотландцами, которые приветствовали нас так, будто знали всю жизнь. В радиусе нескольких десятков километров царила атмосфера дружбы, любви и культурного единения.
Мы веселились до позднего вечера – ходили от сцены к сцене, стремясь побывать везде. Уже сидя за рулем «Бонневиля» и глядя на дорогу перед собой, я поймал себя на мысли, что тихо напеваю одну из услышанных на фестивале песен:
Just hold on me
If you find yourself starting to be
Nothing but a wholesome soul survival
Losing your time…
(Просто держись за меня,
Если ты начинаешь постепенно находить себя,
Помни: все, что угодно, кроме душевного покоя,
Просто потеря времени…
– The Snuts, «Seasons».)
* * *
1841
– Петр Алексеевич! – зычно воскликнул кто-то.
Уваров открыл глаза и уставился в потолок. Было едва за полдень, но Петр Алексеевич забылся сном – пожалуй, здесь, в Кисловодске, других развлечений, кроме чтения книг и дремы, не водилось: стояла невыносимая жара, и даже ветер не дарил живительной прохлады, а, напротив, обжигал кожу.
– К вам гости!
Уваров приподнялся на локте, чтобы взглянуть на невидимого горлопана, но тут же сморщился: резкое движение отдалось болью в правый бок.
«Проклятые черкесы с их ружьями…» – подумал Петр Алексеевич, потирая ребра ладонью.
На самом деле, конечно, Уварову следовало винить в случившемся только самого себя: в отличие от прочих участников «кружка шестнадцати», его никто не заставлял отправляться в самое пекло войны. Сам Петр Алексеевич поначалу никак не мог понять, отчего его товарищи уезжают на Кавказ один за другим, покуда Монго и Гагарин не рассказали о разговорах, на которые их вызывал Бенкендорф. В них он – разумеется, ничуть не настаивая – предлагал собеседникам отправиться в горы, дабы проявить лучшие свои качества, защищая Отчизну от грязных посягательств тамошних жителей. При этом Бенкендорф всячески подчеркивал, что отрицательный ответ от людей столь благородных кровей, как Гагарин, Монго и прочие, может быть расценен престолодержцем чуть ли не как государственная измена.
– А тебя – вызывали? – поинтересовался Столыпин, заехав в гости к Уварову незадолго до отъезда на Кавказ.
– Нет, – покачал головой Петр Алексеевич.
– Понятно… – протянул Монго.
– Что – понятно? – не понял Уваров.
Осознание догнало его мгновение спустя, и он, изменившись в лице, осторожно спросил:
– Думаешь, это Анна опять пожаловалась Бенкендорфу?
– Возможно… Впрочем, думаю, он и без ее подсказок давно о нас знал, просто до дуэли с де Барантом не обращал особого внимания. Что ж, остается мне только порадоваться за тебя, мон шер. – Монго выдавил улыбку. – Ни к чему тебе ужасы войны.
Столыпин уехал, оставив друга наедине с его невеселыми мыслями. На сей раз судьба в лице царя, графа Бенкендорфа и «любимой» кузины Анны лишила Петра Алексеевича не только Лермонтова, но и всего кружка шестнадцати.
«А ведь мы так сблизились за эти годы… Что с ними будет, на войне? Все ли вернутся? Вернется ли вообще кто-то?»
Бои на Кавказе шли с переменным успехом, а потому предсказать что-то не представлялось возможным, тем более что даже удачный ход очередного боя подразумевал потери – просто меньшие, чем у врага.
«А я сижу себе, читаю книги, пью чай, пока мои друзья рискуют жизнью…» – с такой мыслью Уваров засыпал, с ней и просыпался.
С ней же и просил разрешения отправить его на Кавказ добровольцем.
Противиться никто не стал, но уже по приезде в Грозный прапорщика Уварова настигло письмо от разгневанного дяди, который обвинял племянника в «малодушии» и «неблагодарности». Тем самым отец Анны косвенно подтвердил догадку Монго, что Хитрова каким-то образом поучаствовала в этой мутной истории – возможно, фактически обменяв службу других членов кружка на спокойную жизнь своего непутевого брата. Разумеется, в глазах родных Уваров выглядел идиотом – тебя всячески оберегают от смерти, а ты к ней сам же рвешься – но разве мог бы Петр Алексеевич потом смотреть в лица друзей, если бы остался в Петербурге? Конечно же, нет.
Увы, Кавказ принял Уварова плохо. Спустя месяц во время одного из боев его контузило, после лечения Петр Алексеевич вернулся – но, как выяснилось позже, лишь для того, чтобы вскорости вновь лечь на больничную койку: один из черкесов попал в него из ружья. Пуля, по счастью, не задела жизненно важных органов, но из-за болей вернуться на поле брани Уваров не мог. Июль он проводил в Кисловодске на водах – восстанавливал поврежденное здоровье – и весть о госте, решившем его навестить, застала Петра Алексеевича врасплох.
Когда же Уваров увидел, кто к нему пожаловал, удивление только усилилось – это был не Монго, не Гагарин или Жерве, и даже не Шувалов.
В дверях комнаты, грустно взирая на Петра Алексеевича, стоял никто иной, как Лев Пушкин – младший брат погибшего поэта. Возле Пушкина стоял дородный санитар, который, видимо, и зазывал прапорщика Уварова.
– Лев? – удивился Петр Алексеевич. – Какими судьбами?
С печальной улыбкой на устах Пушкин подошел к кровати, на которой лежал Уваров, и опустился на самый край – пружины протестующе скрипнули, но тут же смолкли. Многозначительно посмотрел на санитара, и тот вышел, закрыв за собой дверь.
– Привез тебе чрезвычайно дурную весть, – сказал Лев с трудом. – Лермонтов убит на дуэли.
Уваров обмер. Пожалуй, даже хорошо, что он не успел подняться, иначе точно не устоял бы на ногах от такой новости. Петр Алексеевич ощутил сквозящую пустоту внутри – будто это его самого, а не Лермонтова, неизвестный стрелок продырявил пулей из пистолета. Цвета вокруг померкли, мир словно разом перестал существовать; в нем остались только Уваров и эхо от слов Пушкина:
«Лермонтов… убит… на дуэли…»
Никогда нельзя подготовиться к смерти того, кто тебе дорог – уход из жизни родителя, супруги или друга непременно застанет тебя врасплох – однако же достойная, логичная причина может несколько усмирить с неизбежностью. Допустим, поручика Лермонтова мог тяжело ранить или вовсе убить на месте кто-то из горцев во время очередного боя за ничтожную пядь земли, и таковая кончина вызвала бы бесконечную грусть, но не стала бы настолько обидной.
«Убит… на дуэли…»
Уваров отчасти понимал, почему высший свет так любит дуэли – все изнывают от скуки, и такое событие оживляет не только самих спорщиков, но и весь людской рой на долгие месяцы. Если же кто-то в итоге окажется убит, обсуждать это будут годами – как, собственно, и вышло с Александром Сергеевичем Пушкиным. Но что же заставляет двух русских офицеров целиться друг в друга на войне, где и без того хватает способов лишиться жизни, в чем-то даже более простых и доступных, нежели дуэль.
Но факт оставался фактом.
Уваров шумно выдохнул и спросил:
– Как это вышло? С кем он стрелялся и где?
– Стрелялся с Мартыновым, у подножия Машука.
– Постой-ка… С Мартыновым? Но они же всегда были дружны!
– Да, это так. Но, видимо, вечные подшучивания Мишеля утомили самодовольного «Вышеносова». Хотя, полагаю, одной обидой выстрел вчерашнему другу прямо в грудь не объяснишь, да-с…
– Ты полагаешь здесь… что-то большее? – осторожно уточнил Петр Алексеевич.
– Я полагаю, тебе надо выслушать меня и самому сделать выводы, – ответил Лев.
– Я весь внимание, – сказал Уваров.
Запоздало спохватившись, он с трудом поднялся на кровати и сел, свесив ноги.
– Ссора случилась 13 июня, вечером, в доме Верзилиных, – начал Лев. – Совпадение или нет, не знаю, но большую часть участников нашего кружка выслали из Пятигорска с разными поручениями, как будто не желая, чтобы вечером они были рядом с Мишелем. Из всех, помимо Лермонтова, были только я, Сережа Трубецкой да Саша Васильчиков.
– Теперь понятно, отчего Мишель выбрал Трубецкого, а не Монго.
– Непонятно, отчего не меня, – с некоторой долей обиды в голосе сказал Лев.
«Наверное, после трагедии, случившейся с Александром Сергеевичем, просто не хотел втягивать его младшего брата в какие-то сомнительные истории», – мелькнула в голове Уварова мысль.
– Впрочем, то был его выбор, и не мне судить его за это, – тут же оговорился Лев. – В общем, мы собрались в доме Верзилиных, дабы почтить память декабристов, ведь с того ужасного дня, когда состоялась несправедливая их казнь и началось стремительное погружение нашей родины в беспросветное мракобесие, минуло ровно 15 лет. Пусть, как я уже сказал, нас было всего четверо, но проигнорировать столь значимую дату кружок попросту не мог. Мишель сокрушался едва ли не больше всех. Куда, вопрошал он, скатились мы с этим новым, николаевским, режимом? Кто сможет и сможет ли вообще поднять нас с этого дна, или мы врастем в ил забвения навечно? Больше всего, помню, Мишеля ужасало – смирение наших современников с тем, что лучше быть не может. Подобное отношение порождало безразличие ко всему, что происходит вокруг, а безразличие есть даже не вялое течение жизни, а ее полное отсутствие… Сидя в самом углу зала на креслах, мы слушали пламенные речи Мишеля и дымили папиросами, когда пожаловал Мартынов. А ты ведь помнишь, как этот narcissique poseur (самовлюбленный позер, франц.) любил наряжаться в одежды горцев?
– Помню, конечно. Собственно, мнится мне, от этого же Мишель и начал над ним подтрунивать, именуя его – Аристократ-мартышка или просто Мартыш.
– Из-за этого, да. И вот он опять пришел в черкеске и с кинжалом до колена. Мишель, разумеется, не нашел сил смолчать. Впрочем, говорил он более нам, но Мартынов что-то услышал и подошел, недовольный, требовать объяснений. Мишель поначалу улыбался – его забавляло, когда Николай злился, он находил это потешным – но тогда Мартынов не ограничился бурчанием. С красным от гнева лицом он сквозь зубы процедил: «Знал бы о вашем сборище Бенкендорф, сидели бы уже на гауптвахте!» Лермонтова это вывело из себя, и он принялся подначивать Мартынова: «Ну так пойди и донеси!» Мишель делал это так громко, что смутил Николая, и тот нас покинул. Мы решили, что дело кончено, но, когда мы уже собирались по домам, Мартынов вернулся и отозвал Мишеля в сторону. Они о чем-то поговорили довольно холодно, и Николай убрался восвояси, а Мишель вернулся к нам. Трубецкой спросил, чего хотел Мартынов? Лермонтов ответил, что он хочет дуэли, и он, Мишель, собирается это желание удовлетворить. Мы наперебой принялись убеждать нашего поручика взять слово назад, чем только разозлили его и ничего не добились. Он просил Трубецкого стать его секундантом, и тот не отказал. На этом мы и расстались, чтобы два дня спустя отправиться в Шотландку – ты ведь тоже бывал с нами в этой колонии, в семи верстах от Пятигорска? – чтобы отобедать там в ресторане Анны Ивановны перед грядущей дуэлью…