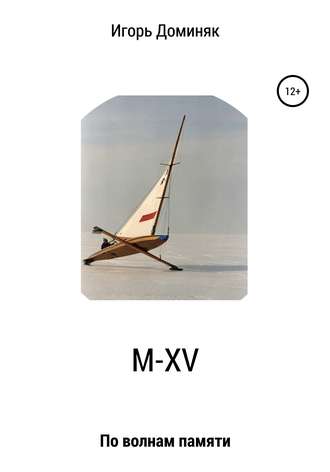 полная версия
полная версияМ-XV. По волнам памяти
62. Улучшение материальной части
Участвуя в гонках, всегда стремишься к улучшению результатов, в том числе за счет улучшения материальной части. Материальную часть, особенно на олимпийских классах яхт можно было улучшить только за счет получения остатков с «барского стола», т.е. того, что уже ведущим гонщикам не нужно, но и тут было все не просто. Запомнился эпизод, когда разыгрывался комплект знаменитых голубых парусов фирмы «Норс», под которыми Темир Пинегин в 1960 году стал олимпийским чемпионом. Эти паруса уже тогда были распороты, а затем сшиты вновь, и с каждого полотнища были сняты лекала (шаблоны) для дальнейшего пошива парусов в наших парусных мастерских. По результатам Первенства ВМФ эти паруса должны были достаться мне, но их отдали в яхт-клуб тихоокеанского флота Валере Баранову, который больше не приезжал и паруса на нашем горизонте больше не появились. Мне же, достался комплект парусов фирмы «Эльфстрем», из-под гонщика из Риги Ойяра Зиле. Паруса этой фирмы были великолепны для «финнов», так как Пауль Эльфстрем был многократным чемпионом мира и олимпиад на швертботах класса «Финн», а для «звездников», в то время они шить ещё не научились, поэтому это были худшие фирменные паруса. Я решил их перешить, и сделал это втихаря. Разразился страшный скандал, как я только посмел перешивать паруса самого Эльфстрема, но вскоре от меня отстали, так как результаты говорили сами за себя.
Так что путь яхтсмена и буериста тернист и не так сладок. Зачем перспективному гонщику отдавать хотя и устаревшую, но хорошую материальную часть, а вдруг он на этой матчасти тебя же и обгонит.
63. Возвращаюсь на «Дракон», но за команду гоняюсь на «Звезднике»
Осенью 1966 года я демобилизовался и продолжил гоняться на буере с Юрой Кондаковым, а летом 1967 года решил пересесть на класс «Дракон» на котором я все-таки отгонялся восемь лет. Тем не менее, тренеры просили меня выступить на Спартакиаде Ленинграда ещё на «Звезднике». Гонялся я на своем прошлогоднем «Звезднике», который уже побывал в руках у Юры Тулякова и мы с Васей Алыповым, испытали некоторые трудности по приведению его в надлежащий гоночный вид. Также мне приходилось вместо «Дракона» гоняться на том же «Звезднике» на Спартакиаде Ленинграда и на Чемпионате Ленинграда и в 1969 году. На Чемпионате Ленинграда заняли мы тогда третье место, и я этим очень горд, так как перед нами были только наши великие «звездаристы» Владимир Васильев и Борис Мирохин, призеры чемпионатов страны. В 1967 году я получил «Дракон» D-170 после моей жены Ариадны Симаковой, которая получила новую яхту таллиннской постройки по спецзаказу D-639.
В составе экипажа стал у меня гоняться Вася Алыпов, который на ленинградских гонках мог гоняться. Вторым пришел ко мне мой матрос ещё из Центрального яхт-клуба ДСО «Труд» (ЦЯК) и «Водника», Валера Блохин, а также новички; муж нашей «эмочницы» Риты Орловой Валя Кокушкин, очень много деталей сделавший для яхты, и приятель Васи Олег Васильев. Выделялась пара Олег Васильев и Валя Кокушкин, которые настолько сработались, что были моим лучшим экипажем. Началась интересная коллективная работа по усовершенствованию яхты, изготовления необходимых деталей и узлов, а также активные тренировки.
64. Шью паруса на «Дракон» для Ады
Моей жене Аде Симаковой выделили для пошива комплекта парусов рулон тбилисского лавсана. В шестидесятые годы в СССР только два предприятия выпускали синтетическую парусную ткань (лавсан) для пошива парусов. Химическая формула материала нити аналогична английскому тирилену и американскому дакрону, но из-за незнания секретов технологии изготовления ткани наш лавсан сильно отличался от импортных тканей, был мягче и сильно тянулся. Однако это был большой шаг вперед по сравнению с хлопчатобумажной парусиной, так как паруса из лавсана были легче, не намокали и не меняли форму от воды. Кроме того, паруса из лавсана не нужно было выхаживать, постепенно нагружая их ветром, от слабого до сильного. Парус из синтетической ткани можно было сразу использовать в гонках, так как форма паруса зависела только от закроя. В Тбилиси выпускали более толстый лавсан, годящийся для килевых яхт, а в Каунасе выпускали более легкую ткань, пригодную для более легких парусных судов или парусов на слабый ветер. Каунасский лавсан по качеству был значительно ближе к импортным тканям. Из выделенного Аде тбилисского лавсана я решил по своим чертежам и самостоятельно на своей машинке пошить комплект парусов на её яхту.
Даже трудно сейчас представить, какая это была мука. Во-первых, нужно было найти помещение, в котором можно было бы разбить плаз в натуральную величину, на нём раскроить полотнища, а затем сшить их дома на своей машинке. Далее, опять на плазе, нужно было расстилать сшитый из полотнищ незаконченный парус, закраивать шкаторины (кромки паруса) и далее завершать отделку шкаторин, нашивку боутов (усилений по углам), установку по углам паруса кренгельсов (металлических втулок) и фаловой дощечки.
Для установки и развальцовки кренгельсов Валя Кокушкин выточил все необходимые оправки, пробойники втулки и кольца.
При шитье на швейной машинке трудно исключить сдвиг одного слоя ткани, относительно другого, так как лапка препятствует продвижению верхнего слоя вперед, а нижний слой проталкивается толкателем вперед. На скользкой синтетической ткани очень трудно исключить сдвиг, даже если слои ткани, сшиваемые полотнища, мелкуешь, т.е. ставишь риски, которые должны совпадать на верхнем и нижнем слое. В 1967 году еще не было специальных двухсторонних клейких лент (скотчей) которыми склеивали закроенные полотнища, а потом сшивали.
Для того чтобы полотнища при сшивке не сдвигались, я их склеивал предварительно перед сшивкой силикатным клеем. В то время доступных клеев, пригодных для этой цели мы не имели, а силикатный клей это ведь жидкое стекло, поэтому капроновая нитка через несколько стежков рвалась.
Представляете, какое нужно было иметь терпение, чтобы с упорством идиота, на домашней электрической машинке, постоянно заправляя оборванную нить, шить грот и стаксель на «Дракон». С этой задачей я справился, заложив при закрое свою идею расположения полотнищ веером, ранее реализованную на буере ещё на хлопчатобумажном парусе, и показавшей отличные результаты. На гроте веером были выложены полотнища только относительно задней шкаторины, а на стакселе относительно задней и нижней шкаторин. При таком закрое парус с усилением ветра уплощался и открывал выход потока по шкаторинам. Паруса получились прекрасными, но Ада на чемпионате города не смогла их толком освоить.
65. На Адиной яхте под парусами, сшитыми моими руками
Предстояло первенство ЛОСПС (Ленинградского совета профессиональных союзов) 1967 года, на которое я со своим экипажем пошел на Адиной яхте под только что сшитыми мной парусами. В классе Б (под хлопчатобумажными и лавсановыми парусами) мы заняли первое место и я выполнил норматив кандидата в мастера спорта СССР.
В одной из гонок, при очень слабом ветре, мы врезались в группу женских яхт класса «Дракон», стартовавших на десять минут раньше. Наши женские лидеры Татьяна Попова и Валя Иванова кричат друг другу. Татьяна кричит: «Валя смотри, Симакова уже нас обходит!», а Валя ей отвечает: «Не волнуйся, это не она – это её половина». Ада в то время сидела дома с больной мамой, а девчонки из её команды ходили смотреть гонки на судейском судне и видели, как мы здорово гонялись.
66. Выполняю норму мастера спорта СССР по парусному спорту
Тренером тогда был у нас Иван Петрович Матвеев, который попросил у Ады дать мне её яхту для гонок на приз «Золотая осень» чтобы мне наверняка выполнить норму мастера спорта. Ада мне яхту не дала, так как девчонкам тоже хотелось всех «размазать по стенкам».
Пришлось мне гоняться на своей (бывшей Адиной) яхте под старыми хлопчатобумажными парусами. Мы, правда, не выиграли, а заняли второе место, Ада же со своим экипажем под мною сшитыми чемпионскими парусами заняла лишь 10 место. В гонках на приз «Золотая осень» в классе «Дракон» женские и мужские экипажи гонялись в одной зачетной группе. Таким образом, я выполнил норматив и вскоре получил звание «Мастер спорта СССР» по парусному спорту.
67. Получаю буер Толстихина с прекрасным, но не безгрешным шкотовым
Осенью 1967 года освободился буер Петра Тимофеевича Толстихина со шкотовым Володей Мироненко, оставшимся у нас в клубе. Тренеры отдали мне буер вместе с Володей. Мой шкотовый Юра Кондаков стал ходить с Колей Карповым (Колей-Борей).
Мне достался прекрасный буер с великолепным, опытным шкотовым. И результаты мои резко выросли.
Запомнился один забавный случай с Володей Мироненко. Гонялись мы на озере Разлив, проходил Чемпионат города, а поболеть и посмотреть гонки часто приезжали наши яхтсмены. Приехал поболеть и Коля Подчуфаров по прозвищу «Залепуха» из экипажа Коли Карпова. Коля «Залепуха» был большой любитель выпить и, конечно, притащил выпивку на лед для согрева. В предыдущей гонке мы победили, а между стартами мой Володя куда-то исчез.
Монотипы вызвали на следующий старт после проведенных гонок в других классах, а Володи нет. Я один подкатил буер на место старта в соответствии со стартовым номером для данной гонки, а Володи так нигде и не видно.
Буер на льду без присмотра оставлять запрещается, поэтому я не мог отойти и броситься искать. Скоро уже должны давать нам старт, я психую и вдруг двое волокут моего Володю по кличке «Обалдуй» совершенно пьяного и еле стоящего на ногах к нашему буеру.
При старте ведь буер нужно разгонять, а Володя еле на ногах стоит. Я Володе говорю, чтобы он сделал только шаг и сразу падал в кокпит. Он, конечно же, мычит, что все будет хорошо. Мы кое-как взяли старт и Володя хоть и пьяный, но работал как зверь и мы шли первыми. Я в азарте ему кричу: «Добирай, добирай, добирай ё моё….!», а он только с пьяной хитрой улыбочкой не добирает и поет: «Любил ли кто Тебя как я», я опять ору, а он тоже самое. Я возмущен и обещаю его прямо на буере отвезти в вытрезвитель. Так мы с ним и обменивались, но пришли первыми, и Виктору Поппелю, идущему за нами, нас обойти не удалось.
Хоть «Обалдуй» и был пьяным, но четко видел, что делается сзади, а на мои требования идти в отрыв не реагировал, так как в сильный ветер излишнее форсирование хода может привести к поломке, а тогда пропали бы ранее достигнутые результаты.
Володя Мироненко от природы был создан быть матросом на швертботе и шкотовым на буере, кроме того, был опытен, пройдя школу Петра Толстихина на швертботе класса «Летучий голландец» и на буере.
В 1968 году мы с Володей Мироненко выиграли Чемпионат Ленинграда, а на Первенстве Вооруженных Сил СССР заняли третье место. На Чемпионате СССР 1968 года на озере Юлемисто мы заняли третье место только из-за моей неготовности выигрывать у непререкаемых авторитетов, таких как Антс Рауд, Нигол, Владимир Гирс, Велло Юрье и др.
Ходом мы уходили от всех, на одном спуске обходили до восьми конкурентов, причем за счет работы Володи на шкотах мы на очень рыхлом льду с глубокой снежной кашей ходили практически без балласта.
Конечно, очень здорово помогал и знаменитый парус Ивана Петровича Матвеева из английской парусины, который мне дали для улучшения результатов. Парус был очень хитрый и не каждый мог его освоить. На Первенстве Вооруженных Сил на Киш озере в Риге под ним гонялся Коля Карпов, но занял лишь седьмое место, а мы под своими парусами – третье.
На следующий год в Калининграде под гротом моего закроя веером мы с большим преимуществом выиграли Чемпионат Вооруженных Сил 1969года. На удивление, меня в честь победы в воздух подбрасывали не одноклубники, а друзья-конкуренты из таллиннского яхт-клуба ВМФ во главе со шкотовым Велло Юрье и его родным братом Вяйно Юрье.
68. Козни мерителя
После такой убедительной победы в Калининграде при контрольном обмере перед Чемпионатом СССР 1969 года в Таллинне, меритель Тетсман выбил у меня почву из-под ног.
По правилам, обмер парусов на «Монотипах» осуществлялся на перевернутом буере, при обтянутом гикашкоте. Все участники, особенно эстонские, прошли обмер без приключений, но меня Тетсман замучил окончательно и вынудил испортить парус путем перешивки. У меня с такой силой набивали гикашкот, что мой самый результативный парус из хлопчатобумажной ткани вытягивался по задней шкаторине на лишние пять сантиметров. На мои удивления по этому поводу он отвечал, что я главный претендент на победу, а он, как главный меритель, должен быть уверен, что даже после гонки, если мой парус померить, то он будет в норме.
Ни один хлопчатобумажный парус в сухую погоду после гонок не мог остаться в пределах допустимого, а поэтому, следуя здравому смыслу, никто такой обмер и не проводил.
Чего я только не делал; и мочил заднюю шкаторину паруса, и максимально набивал гротофал, но все было безрезультатно. Скоро старт, а у меня буер с моим непобедимым парусом для сильного ветра не в обмере. Пришлось мне срочно отрезать кусок фалового угла и ставить другую фаловую дощечку с верхней кромкой, перпендикулярной передней шкаторине. Обмер я в последний момент прошел, но идею веерного пошива испортил, парус потерял свои качества, и только один раз в весьма сильный ветер нам удалось прийти первыми, а в итоге мы заняли лишь восьмое место. Выиграл Чемпионат СССР Велло Юрье со своим братом и шкотовым Вяйно Юрье, над которыми в Калининграде мы одержали весьма убедительную победу.
На следующий год меня вынудили с Володей Мироненко расстаться. Володя был большим любителем выпить и работавший тогда с нами тренер Валентин Меркулов потребовал замены моего шкотового. Результаты мои сразу снизились, а Володя через несколько лет скончался от сердечной недостаточности.
69. Конец Толстихинского буера
На буере в зимнюю спортивную навигацию 1970 – 1971 года я стал гоняться с Олегом Федоровым в качестве шкотового. Но Олег гонялся на моем буере Чемпионат Ленинграда и умудрился разбить буер, столкнувшись на одной из гонок с буером Юрия Фунтикова.
Я в это время сдавал зимнюю сессию в институте, и Олег гонялся рулевым, а шкотовым к нему посадили служившего у нас матроса спортвзвода Сергея Перфильева.
Слава богу, что столкновение обошлось без жертв и увечий, правда, Юра Фунтиков после этого перестал гоняться на буере, видимо, слишком остры были впечатления от этого столкновения.
Помню, как приехал я на следующий день в Разлив посмотреть на обломки своего буера (бывшего Толстихинского) и посмотреть последующие гонки. Тренер сборной яхт-клуба «Труд» Дмитрий Николаевич Коровельский на старте подходит ко мне и говорит: ну что ж Игорь Александрович, видимо Вы в ближайшее время не будете призерами. Однако мы вооружили мой первый корпус и заняли на чемпионатах ДКБФ и Вооруженных Сил СССР третьи места, а на Чемпионате СССР седьмое место.
70. Прощай «Дракон», хочу «четвертьтонник»
В июле 1971 года у нас с Ариадной Симаковой родился сын, Ада уже два года не гонялась из-за болезни мамы, а я стал командиром и продолжал гоняться на её «драконе» до 1973 года.
Класс «Дракон» был снят с Олимпийских Игр, уровень гонок у нас в стране значительно снизился, многие соревнования перестали проводиться.
В этой ситуации я захотел получить в командование крейсерско-гоночную яхту четвертьтонного класса для участия в гонках и иногда в походах. Однако у нас в клубе ВМФ гражданские люди нужны были только как спортактив, зарабатывающий голы, очки, секунды, а на крейсерские яхты, не дающие очков, назначали только военных. Я мог бы пойти заместителем командира на многие крейсерско-гоночные яхты, но заместителем командира я практически никогда не был и ждал своего часа в роли командира. Кроме того, заместитель в экстремальной ситуации не имеет права вмешиваться в решения командира а, стиснув зубы, выполнять иногда неверные команды я не хотел. У нас в клубе только три командира крейсерско-гоночных яхт соответствовали моим критериям в части морской практики, они приглашали меня к себе в заместители, но двое из них увлекались выпивкой, а третий имел тяжелый характер, особенно проявлявшийся в бытовой обстановке, поэтому я предпочитал ходить по берегу и ждать своего часа.
Я двенадцать лет ждал своего часа и только в 1984 году начальник яхт-клуба Иван Киселев назначил меня командиром таллиннского четвертьтонника «Веста» для обеспечения круглогодичных тренировок членов буерной секции.
71. Большие ремонты яхты и попытки погоняться
Заместителем командира на «Весту» я пригласил своего друга ещё с детской спортивной школы и гонщика на «Монотипе» Андрея Голубцова.
Экипаж подобрался из моих надежных друзей буеристов и бывших буеристов. Корпус яхты оказался с несколькими сгнившими флорами и большим участком сгнившей обшивки на правом борту. Нам пришлось очень серьезно поработать над ремонтом корпуса.
Ошибка предыдущего командира яхты заключалась в том, что он, будучи старшим механиком военного корабля, никогда дел с деревом не имел, а поэтому трюмную часть яхты покрыл грунтом по металлу. Грунт по металлу не дает дереву дышать, воду он пропускает, а испариться ей из дерева не дает. Таким образом, дерево под этим грунтом во многих местах сгнило.
Нам пришлось циклями снять грунт со всех покрашенных им мест, заново покрыть все свинцовым суриком на натуральной олифе и таким образом приостановить процесс активного гниения.
Наконец-то я получил яхту, на которой при желании можно было гоняться, однако, на деревянном тяжелом таллиннском четвертьтоннике конкурировать с польскими стеклопластиковыми яхтами «Конрад-25» было весьма затруднительно.
Для улучшения ходовых качеств яхты пришлось провести некоторые доработки. На задней кромке фальшкиля мы установили заостряющийся обтекатель, для улучшения управляемости уменьшили площадь скега, площадь которого превышала площадь пера руля. Также для улучшения управляемости и повышения ходовых качеств необходимо было удлинить гик и увеличить площадь грота, что нами было сделано через несколько лет.
С таллиннскими четвертьтонниками мы постепенно на гонках стали справляться, кроме яхты «Клич» под командованием Олега Румынского (бывшего финниста), который заменил на ней штатный уродливый фальшкиль на фальшкиль от «Соллинга», и уже давно ходил с гиком от «Фолькбота» и большим гротом. Когда нам удавалось обойти пластиковые яхты, мы этим очень гордились.
Перед навигацией 1985 года нам пришлось проделать ещё более грандиозные ремонтные работы. У нас отгнила и практически отвалилась транцевая доска, и тогда мы решили при ремонте бортовых поясов нарастить борт, увеличив длину корпуса на 80 сантиметров. Соответственно нарастили палубу и оформили ахтерлюк над образовавшимся ахтерпиком. У яхты образовался подзор, корма поднялась, вышла из воды и стала меньше тянуть за собой воду, поэтому ходовые качества яхты мы улучшили.
72. Из-за работы пропускаю летние навигации
В 1986 году меня назначили техническим руководителем работ по дооборудованию радиотехническими средствами аэродрома на дальнем Востоке.
Аэродром должен был использоваться в качестве запасного аэродрома для посадки орбитального космического корабля «Буран» при пилотируемых полетах. В связи с этим я постоянно находился в командировке, прибывая в Ленинград только на переотметку командировки, приурочивая свой приезд к Чемпионату СССР по буерному спорту, проводимого в марте месяце. После гонок, я какое-то время находился в Ленинграде, частично участвуя в весеннем ремонте яхты, а в майские праздники убывал обратно на Дальний Восток до ноябрьских праздников.
Из-за моих длительных командировок, которые должны были продолжаться ещё несколько лет, с 1989 года Андрей Голубцов уговорил меня отказаться от командования и стал командиром яхты. Но тут же летом вдруг обстоятельства резко изменились, и моё руководство, оценив мои достижения на оборудуемом объекте, решило перебросить меня на новую опытно-конструкторскую разработку.
Таким образом, с середины лета 1989 года я обрел оседлый образ жизни, работая в Ленинграде. Андрюша не горел желанием уступить мне моё место командира, а бороться за место командира на «Весте» я не стал, так как там существенно изменился состав экипажа, а ходить в море с людьми, не совсем соответствующими моим представлениям, не очень хотелось.
До 1995 года опять ходил летом по берегу и только зимой продолжал гоняться на буерах.
73. Возвращение в яхтенную жизнь с огромными ремонтами
С 1995 года я стал ходить наемным капитаном на яхте «Сана» проекта ЛЭС 750К, принадлежавшей страховой компании. Яхта 1990 года постройки несколько лет простояла на открытом воздухе с наброшенным на корпус слабеньким чехлом, пропускавшим воду, и лежащим прямо на палубе. Поэтому палуба уже была в плохом состоянии, имела синюшный вид и протекала.
Яхта была построена с существенными недостатками, которые обнаружились только после нескольких лет эксплуатации. Корпуса яхт ЛЭС 750К имели диагональную обшивку и строились на болване из четырехмиллиметрового соснового шпона с гвоздевой опресcовкой, однако наш корпус был изготовлен из полос четырехмиллиметровой березовой фанеры. Как известно, фанера в торец не клеится, под каким бы углом она не располагалась, поэтому стык палубы с бортом не был герметичным, а проникающая вода в торец многослойной березовой фанеры вызывала быстрое гниение борта. Кроме того, на всех корпусах данного проекта стеклопластиковый моноблок рубки с кокпитом был фланцами установлен на палубную рейку, а у нас фланцы моноблока стояли ниже палубного настила на фанере, к которой сверху якобы приклеивается палубная рейка. Сверху этот образовавшийся тоннель с выступающими головками болтов крепления был закрыт дубовой планкой, закрепленной шурупами. Таким образом, вода попадала в тоннель под планкой и по фанере, намазанной клеем ВИАМ-Б3, протекала к бортам, вызывая гниение, как бортов, так и палубной рейки снизу. Считалось, что палубная рейка приклеена к фанере, но она приклеена только в местах прижатия на бимсах и полубимсах, поэтому вода благополучно находилась между фанерой и палубной рейкой, вызывая гниение палубной рейки, бортов и привальных брусьев.
Однажды я обнаружил сгнивший трехметровый кусок верхней части борта вместе с ватервейсом и привальным брусом. Вот тут-то мне и пришлось покувыркаться. Я нахально сострогал угол борта вместе с гнилым участком привального бруса и ватервейсом под пологим углом к борту, чтобы получилась как бы стыковка на ус. Далее я пропитал все специальной пропиткой (эпосилом), а затем наклеивал несколько слоев десятимиллиметровых дубовых досок шириной порядка трехсот миллиметров, изготовленных мной из реечек с выбранными сучками и склеенными на ус. Приклеивать доски к борту было очень сложно, так как зацепиться струбцинами было не за что. Пришлось вдоль борта устанавливать вертикальные брусья, закрепляя их штырями к земле, а верхние концы крепить к различным палубным деталям на том и другом борту, а затем клиньями между брусками и устанавливаемой доской осуществлять прижатие. Прижимать было очень сложно, так как при забивании клиньев у одного бруска, другие клинья выскакивали. Последующие слои досок я приклеивал таким же образом. В дальнейшем, при ремонте форштевня и прилегающей к нему сгнившей обшивки, я последующие слои тонких дубовых досок прижимал саморезами к первому приклеенному слою. После приклеивания, этот многослойный дубовый пирог застрогал, восстановив форму корпуса. Дубовый ватервейс получился автоматически.
На следующий год сгнили куски обвязки вокруг стеклопластикового моноблока, тут то я и обнаружил тоннель для гуляния воды. Я изготовил новую планку (обвязку) из реечек, склеенных в соответствии с изгибом моноблока на цулаге. Обвязку установил, заполнив все пространство тоннеля герметиком, и только тогда течь палубы прекратилась и внутри яхты стало комфортно.
Вообще яхта была изготовлена безобразно: все металлические детали на палубе были установлены без герметика, поэтому вода затекала, и начиналось гниение. Форштевень сгнил из-за неудачной конструкции оковки крепления штага (путенса), устанавливаемого в пропил форштевня, и накрытого металлическим брештуком с прорезью для путенса и опять, безо всякого герметика.
В общем, в течение многих лет я боролся с протечками палубы и не прекращал серьезных ремонтных работ. Причем понять, откуда проникает вода, было невозможно, так как палубная рейка настелена на фанеру и приклеена только в местах прижатия на бимсах и полубимсах. Вода, попавшая в одном месте, могла протечь между фанерой и рейкой и вытечь совершенно в другом месте.
74. Хорошо ходить в море с приятными людьми

