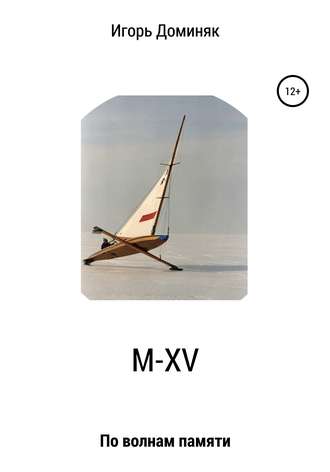 полная версия
полная версияМ-XV. По волнам памяти
Ходили мы в будние дни по вечерам после работы в темноте, только при свете огней города, на горизонте. Иногда нам составлял компанию на «Монотипе» ещё один энтузиаст Юра «Карась», воспитанник Константина Борисовича Каракулина, состоявший в экипаже яхты «Нева». Мы как могли, ориентируясь по силуэтам буеров на фоне городских огней, ходили по этой плешине.
36. Яхт-клуб «Волна»
В воскресенье к нам присоединялись буеристы из яхт-клуба «Волна» завода «НИИМРа» имени Коминтерна, находящегося непосредственно перед этой отмелью на западной оконечности Васильевского острова.
Яхт-клуб «Волна» был создан при заводе усилиями тренера Игоря Владимировича Поддуйкина и туда ушли работать, строить буера и гоняться одни из лучших буеристов нашего города. На заводе буеристам были предоставлены все возможности для постройки буеров и изготовления всех необходимых деталей из металла, включая изготовление комплектов коньков из нержавеющей стали. Буерная команда яхт-клуба «Волна» была в следующем составе рулевых:
на двадцатках («двадцатиметровиках») Юрий Ветров и Валентин Суворов;
на «двенадцатиметровиках» Лев Виноградов и Анатолий Коновалов;
на «Монотипах-XV» Николай Красноперов и Владимир Гвардин.
В этом составе команда яхт-клуба «Волна» выиграла командный чемпионат СССР 1960 года, а в 1961 году заняла третье командное место.
В 1962 году команда «Волна прекратила свое существование; тренер Игорь Владимирович Поддуйкин стал работать в 55 яхт-клубе Лен. ВМБ (ВМФ), Ветров, Суворов и Коновалов перешли в центральный яхт-клуб ДСО «Труд» Ветров на буер 20-метрового класса, Суворов на монотип, Коновалов на 12-метровик. Виноградов перешел в 55 яхт-клуб ВМФ, а Гвардин и Красноперов перешли в ДСО «Водник», где для них построили на верфи ВЦСПС два монотипа. Построил эти буера Николай Красноперов. шлюпочник судоверфи.
37. Опять несправедливость
Когда подошло время ехать в Ригу на первенство Центрального Совета (ЦС) ДСО «Труд» по буерному спорту у меня опять начались неприятности.
В то время экипаж на «двенадцатиметровиках» состоял из двух человек, несмотря на то, что на многих буерах был только один кокпит для рулевого. Из нашей команды только у меня был тяжелый буер устаревшей конструкции с двумя кокпитами, один для рулевого, другой для шкотового хотя управление мы с Пашей сделали тоже только для рулевого.
И вот меня посылают на первенство ЦС ДСО «Труд» одного, без шкотового, и это в той ситуации, когда Паша сделал на заводе полностью новое рулевое управление с двумя баранками только под рулевого, новые коньки, а также мы совместно совершили описанных выше 27 тренировочных выходов, в то время как никто из моих одноклубников не сделал ни одного выхода.
Мне, восемнадцатилетнему мальчишке даже буер одному не поднять за поперечный брус, чтобы поставить буер на козелки, не говоря уже о том, что меня ставили в неравные условия с моими конкурентами, особенно в части подготовки буера и точки коньков. Как я один должен мерить параллельность коньков, или будучи мальчишкой, просить кого-нибудь из взрослых помочь мне, когда они тоже заняты? А как я мог поехать без моего Паши, который так много сделал для буера и обеспечил вместе со мной такое количество тренировочных выходов?
В общем, меня ставили в неравные условия с моими одноклубниками, а ведь это отбор на Чемпионат Страны. Я в очередной раз поделился своими неприятностями с Геннадием Семеновичем Назаровым, который уже работал в «Воднике». Геннадий Семенович нашел время, встретился с директором Центрального яхт-клуба и объяснил мою ситуацию. Кир Николаевич Иванов вынужден был вмешаться, и справедливость восторжествовала – меня отправляли вместе с моим шкотовым Пашей Михайловым.
38. Неприятности продолжаются
Но на этом мои неприятности не закончились, перед самым отъездом, когда мы были уже освобождены от работы, и на руках были билеты на поезд, я заболел с температурой 39,5о. В этой ситуации, когда справедливость была восстановлена, я не мог не поехать, подведя моего Пашу и моих доброжелателей. Мама и тетя настолько прониклись моими делами, что не смогли противостоять моей абсолютной убежденности в необходимости ехать. Меня, чуть живого, еле стоящего на ногах, мама с тетей под руки посадили в поезд. В поезде мне захотелось как можно скорее лечь на свою верхнюю боковую полку, заваленную какими-то чужими вещами. Взрослые члены команды уже организовывали небольшое застолье, а я, снимая чужие вещи со своей полки, уронил «маленькую» водки. Вот тут-то мне и досталось от шкотового Виктора Шапочкина Бориса Кулаженкова по прозвищу «Поганька», так и звали его «Боб Поганька». Так я, чуть живой «гонщик», добрался до Риги, там мы поселились в гостинице «Темпо» и поехали разгружать, собирать и вооружать буера.
39. Вот и мне дали прозвище
Вечером в гостинице было собрание команды в одном из номеров. Так как я был совсем слаб, особенно после разгрузки и сборки буеров, то лежал я до последней минуты, и пришел на собрание последним. Входя, я сказал «Здрасти», так как кого-то мог в течение дня и не видеть и не здороваться. Весь коллектив разразился хохотом и с тех пор меня стали звать «Здрасти».
Вообще у многих буеристов и яхтсменов были прозвища: у Виктора Шапочкина (гонялся на двадцатках, а затем на восьмиметровиках) – «Кепкин», у Владимира Кошелева (гонялся на двадцатках, а затем на восьмиметровиках) – «Малява» из-за высокого роста, Юру Ветрова (дважды чемпион СССР на восьмерках, затем гонялся на двадцатках и в конце на монотипах) называли «Юный», Бориса Хабарова (дракониста и монотиписта) – «Индеец», Льва Виноградова (многократного чемпиона СССР на двенадцатиметровиках и восьмиметровиках своей конструкции)– «Тигра» и «Уксус», двадцаточника и чемпиона СССР из ДОСААФ В. Дмитриева – «Билли Бонс» из-за повязки на одном глазу, Анатолия Лебедева (строитель яхт и буеров гонялся на двенадцатиметровиках и крыльях, чемпион СССР на знаменитом лебедевском крыле) – «Толян», Николая Красноперова (строитель яхт и буеров гонялся на монотипах и восьмиметровиках) – «Милый», Толю Коновалова, великого яхтсмена буериста и парусного мастера – «Степаныч», его шкотового на летучем голландце Володю Яковлева – «Хоттабыч», Женю Кузнецова (гонялся на финнах и двенадцатиметровиках) – «Же Палыч», монотиписта Юру Юдина – «Колбасник», Виктора Владимировича Горлова, чемпиона на R-5.5 и на двадцатках – «Удав», Эдуарда Яновича Стайсона, великого тренера и гонщика на драконах и на двадцатках – «Яныч», Славу Можаева, матроса экипажа Стайсона на драконе – «Морж», Петра Гореликова, известного финниста и яхтсмена – «Пека», Володю Васильева , чемпиона на двадцатках и на звездниках – «Лысый», а потом – «Вова-Вася», Эдика Шугая, постоянного шкотового В. Васильева на двадцатке и на звезднике – «Колобашка», Виктора Торопина, гонявшегося на яхтах R-5.5 – «Стеньга», Колю Карпова (эмочника, дракониста и монотиписта – «Коля-Боря», Петра Тимофеевича Толстихина, (гонялся на летучем голландце и на монотипе) – «Петух» или «военно-морской Петух», Евгению Сергеевну Пылкову, известную яхтсменку и тренера ДСПШ за глаза звали «Тетя Ж-а», Бориса Валерьяновича Добровольского, начальника гавани в яхт-клубе ВЦСПС – «Клизмач», Владимира Сембирцева, шкотового на двадцатках и на звездниках – «Нос», гонщиков на двенадцатиметровиках Николая Ивановича Матвеева с Сергеем Владимировичем Виттом называли «Компотниками», Игоря Фурина, шкотового Николая Ивановича Матвеева – «Тарапунько», Ивана Константиновича Иванова, гонявшегося на двенадцатиметровиках и на драконах – «Иван-Фальшкиль», Володю Мироненко, шкотового Толстихина на летучем голландце и на монотипе и потом моего шкотового на монотипе – «Обалдуй», Владимира Гвардина, дракониста и монотиписта из-за певческого голоса – «Рашид», Колю Подчуфарова матроса на драконах из экипажей И.П. Матвеева и Коли Карпова – «Залепуха», кронштадтского гонщика на монотипах, круглолицего Колю Тербета – «Лунь», Толю Григорьева, гонщика на двенадцатиметровике – «Пиротехник», владивостокского шкотового Юрия Нисковского на монотипе Колю Смирнова – «Чик-пок», Володю Осипова из экипажа В. Гвардина на монотипе – «Шпиндель», Лешу Федорова, великого матроса из экипажей И.П. Матвеева на драконе, а затем Бориса Мирохина на звезднике– «Дядька», Игоря Большакова строителя крыльев и монотипов, гонявшегося на летучих голландцах, крыльях и монотипах – «Барсик», московских гонщиков Валентина Замотайкина – тоже «Барсик», Виктора Тинеева – «Масик», Бориса Будникова – «Беня», Славу Воронкова – «Фомич», рижанина Розенберга – «Гунча», Олега Екимова, гонявшегося на эмках, драконах, двенадцатиметровиках и монотипах – «Трубач», Колю Яковлева, яхтсмена и буериста на DN-е – «Фантомас», Андрея Никандрова , известного яхтсмена и буериста на монотипе – «Акула», известного буериста на DN-е и монотипе Олега Васильева – «Чебурашка».
В ВМФ после того, как я в 1973 году отрастил бороду меня стали звать «Борода» или «Бородка».
40. Отбор проиграл, отправлен домой
Первые гонки я проходил в полуобморочном состоянии, поэтому результаты были неутешительными. Однажды я перевернулся и провисел вниз головой порядка двадцати минут, пока не подошел мой шкотовый Паша, не откинул фиксатор баранок не дающий им на ходу подниматься от натяжения гикашкота, и не вынул меня.
Но мне в какой-то мере повезло, так как лед на Киш озере растаял, и нам пришлось разбирать буера, ждать вновь заказанных грузовиков, грузить и увязывать корпуса, мачты, поперечные брусья и переезжать на озеро Югла, там опять разгружать и собирать буера. Мне это было очень трудно, но с помощью дружного коллектива все получилось, и я вместо осложнений, даже очухался за время перерыва в гонках, и стал выступать вполне прилично. Правда по сумме гонок я не вошел в сборную ДСО «Труд» для участия в Чемпионате СССР 1959 года и, в данном случае, без всяких ко мне придирок, вполне официально был отправлен домой в Ленинград.


Рига, озеро Югла. Первенство ЦС ДСО «Труд». Старт гонки.
Я на буере 12 №57, 12 №109 – И.К. Иванов, 12 №70 – Е.П. Кузнецов
12 №77 – Владимир Титов
41. Для меня «свободники» неподъемны
Гонки на буерах свободных классов предполагали постоянный поиск новых конструкций буеров, новых технических решений и значительного количества коньков различных конструкций. Щитовые коньки нужны и толстые и тонкие, короткие и длинные из разных сталей на мороз, на сильный мороз, на оттепель, а еще нужно было иметь не один комплект деревянных коньков с широким полозом для рыхлого льда.
Причем в те годы на каждый Чемпионат Страны команды обязательно привозили несколько буеров новейших конструкций. У меня возможностей в строительстве буера и изготовления коньков не было, а общество, мне, проигравшему, ничего бы делать не стало.
В то время мне даже снились стеллажи с коньками, которые, я обнаруживал как клад, провалившись в пустоты между слоем льда и дном, образовавшиеся на отмелях после снижении уровня воды в Финском заливе.
Таким образом, я понял, что на буерах свободного класса, где основную долю выигрыша определяет материальная часть, мне делать нечего.
42. Пересаживаюсь на «Монотип»
Единственным вариантом для успешного выступления в гонках оставался класс буеров «Монотип-XV» в котором роль материальной части значительно снижена, так как буера в полном комплекте должны были соответствовать единым чертежам и правилам постройки и обмера. На «Монотипе» можно было иметь один комплект ножевых (щитовых) коньков и на этой материальной части, занимаясь только настройкой и парусами, при соответствующем мастерстве, при незначительном снежном покрове на твердом льду, показывать приличные результаты.
Таким образом, я решил осваивать «Монотип-XV», однако все было не так просто. Даже освободившийся «Монотип» Ромки Моргилевича, после его гибели, отдали, Валентину Суворову. В.Д. Обухов сказал, что для меня нет «Монотипа», а если мне так уж хочется, то я могу взять списанный буер со свалки и им заниматься. Корпус я нашел от Юрия Королева, ленинградского асса прошлых лет, а остальное я подбирал по крохам. Корпус был, конечно, старым, но удивительно легким, так как, я, будучи стройным и худеньким юношей, умудрился один перетащить его со свалки в мастерскую. В общем, каким-то образом нам с Пашей удалось буер собрать, и мы начали гоняться. Видимо мы обратили на себя внимание, так как один из членов тренерского совета Виктор Владимирович Горлов однажды на тренерском совете предложил обратить на меня внимание и не зажимать молодую поросль, а при случае улучшить мою материальную часть.
43. Остатки с барского стола
Осенью следующего, 1960 года В. Поппель и Ю. Юдин получали новые буера с нашей судоверфи ВЦСПС, и им было предложено отдать мне то, что им не понадобиться, чтобы улучшить комплект моего буера.
Юдин отдал мне корпус и мачту, а Поппель отдал мне поперечный брус. Два паруса должен был отдать Виктор Поппель, и тут-то и начался цирк. Новые два паруса отдавать было жалко, поэтому Виктор Тимофеевич решил отдавать мне по одному во время гонок свои старые паруса, а сам шел в гонку на новых. У него был, один знаменитый парус из английской парусины, показывающий великолепные результаты. Из английской парусины был только ещё знаменитый парус у Ивана Петровича Матвеева, а также у Юры Юдина. Дает мне Поппель один парус, и я гонку у него выигрываю, он парус отбирает и дает другой парус, я опять у него выигрываю. Тогда он дает ещё парус, я опять выигрываю. В конце концов, Поппель дает мне знаменитый английский парус, и я такого фитиля ему привожу, что он плюется и отдает мне два новых паруса с нового буера.
Новые паруса нужно ещё подгонять под специфику своего буера и перешивать, добиваясь максимальных ходовых качеств, вот мне и был сделан этот подарок. Я потом довольно долго приставал к нашей известной парусной мастерице тете Шуре и мы с ней занимались перешивкой моих парусов. Никто мне своих секретов не выдавал, поэтому двигался методом проб и ошибок.
В то время в Центральном яхт-клубе были три знаменитые личности – это парусница тетя Шура, боцман Константин Терентьевич Туз и кладовщица тетя Катя Стогова, у которой мы получали имущество, и потом до последней мочки по описи все сдавали в конце навигации.
44. Рост мастерства в весенних тренировках
Весну 1961 года мы провели в тренировочных гонках на озере Разлив. Все буерные сборные команды уехали на Чемпионат СССР, а дома остались только резервный состав и новички. Дмитрий Николаевич Коровельский для Политехнического института организовал на судоверфи ДОСААФ постройку нескольких «Монотипов», на которых стали ходить его подопечные. Из тех студентов, осваивавших «Монотип» помню только Костю Байкова, а одного из них иногда вижу в Центральном яхт-клубе, но фамилию не помню, а контактов с ним нет, так как я в другом клубе.
Дмитрий Николаевич собирал тогда на Разливе всех желающих участвовать в гонках и давал старт тренировочным гонкам для буеров всех классов одновременно. В этих гонках на «Монотипах» я имел абсолютное лидерство, и мне даже стало не очень интересно, но потом к нам присоединился Юра Лобыничев на чемпионском буере двадцатиметровике Виктора Владимировича Горлова, и тут развернулась настоящая борьба. Двадцатиметровики были буерами свободного класса, а «Горловская» двадцатка была чемпионской и доведена до совершенства. Ходом Лобыничев у меня выигрывал, но я его подлавливал на тактике и поэтому мы с ним финишировали ноздря в ноздрю. Один раз, чтобы лечь на другой галс, я так близко под кормой у Лобыничева делал поворот, что носом чуть снес кусочек дерева на закруглении хвоста его буера. За это полагается баранка, но зато я на другом галсе выиграл, ибо идти одним галсом с буером, имеющем большую скорость, просто бессмысленно. Эти тренировки мне очень много дали; позволили подшить паруса, настроить буер и повысить свое мастерство. На городских гонках после возвращения в Ленинград участников Чемпионата страны мы с Пашей выглядели совсем неплохо, однако мои злоключения на этом не закончились.

После финиша. Озеро Разлив, 1962 год.

Мы с Пашей перед стартом. Озеро Разлив 1962 год.
Под № 179 буер Павла Иванова (шкотовый Анатолий Кукушкин)
45. Злоключения продолжаются
Когда мы осенью, перед следующей навигацией 1961-1962 годов, грузили буер и мачту для перевозки на озеро Разлив, мачту прямо с машины у нас отобрали. Прибежал Юра Юдин, принес вместе со шкотовым неизвестно какую мачту чуть ли не «из под топора» и, по указанию В.Д. Обухова, забрал мою (бывшую Юдинскую) мачту. Юдин ездил на матч Городов в Хаапсалу и там, в сильный ветер сломал мачту. Сами понимаете, как мне было приятно везти совершенно не подготовленную мачту на территорию под открытым небом. Но трудности, когда они не доходили до полного абсурда, нас только укрепляли и делали в гоночном смысле ещё злее.
Мачту мы все-таки подготовили и на городских гонках стали иногда приходить в числе призеров, а весной на Чемпионате Ленинграда 1962 года я и мой товарищ и конкурент досаафовец Борис Герасимович Лалыко, выполнили норму Мастера Спорта СССР.
В марте 1962 года нам предстояло гоняться на первенстве ЦС ДСО Труд, проводимого у нас в Стрельне. При подготовке к гонкам мне удалось получить грот от яхты звездного класса из тонкой английской парусины фирмы «Карху» для пошива из него паруса на мой «Монотип». Вот с парусным мастером тетей Шурой мы его и шили. Тетя Шура удивительно положительно ко мне отнеслась и у меня до сих пор храниться подаренный ею на память старый парусный гардаман, неоднократно выручавший меня при ремонте и пошиве парусов.
На первенстве ЦС ДСО «Труд» при очень заснеженной тяжелой дороге мы заняли второе место, выиграл Боря Хабаров, а Павел Иванов, Юра Юдин и Виктор Поппель оказались сзади. На Чемпионат СССР ДСО «Труд» выставляло две команды по два «Монотипа» в каждой, но мне в сборной места не нашлось.
Дело все в том, что Юра Юдин и Паша Иванов были призерами Чемпионата страны ближайших лет, а Поппель должен был гоняться на Чемпионате СССР в рамках зимней подготовки экипажей яхт Олимпийской сборной. Оправдания были такие, что я ещё не проявил себя на выезде, да ещё при большем количестве участников. Интересно, как себя проявить на выезде, если тебя не вывозят, а выигрыш Чемпионата Страны на восьмиметровиках, а потом, после улучшения самочувствия, неплохие приходы в классе двенадцатиметровиков на первенстве ЦС ДСО «Труд» на озере Югла не были учтены. В конце концов, под нажимом тренерского совета на старшего тренера мне разрешили ехать в Ригу на тренировочный сбор, и, если я там себя проявлю, то возможно меня включат в состав участников Чемпионата Союза.
На моё несчастье, дорогу в Риге на Киш озере настолько завалило снегом, что не удалось провести ни одной тренировочной гонки. Все двадцать дней сбора мы занимались подготовкой материальной части, особенно тщательной точкой коньков. Дорога на Киш озере так и не открылась, и Чемпионат было решено проводить на реке Даугава.
В период проведения мандатной комиссии все тренеры команд интересовались моей судьбой, заявит ли ДСО «Труд» на Чемпионат молодого гонщика. Меня не заявили, а тренеры Иван Петрович Матвеев из ВМФ, Николай Михайлович Ермаков из Трудовых резервов и Геннадий Семенович Назаров из Водника стали приглашать меня в свои клубы. В этот момент я окончательно понял, что в ДСО «Труд» мне больше делать нечего и принял решение перейти в яхт-клуб Балтийского морского пароходства (БГМП) ДСО «Водник» к моему любимому тренеру-наставнику Геннадию Семеновичу Назарову.
46. Трудности перехода в «Водник»
Перейти в ДСО «Водник» было не просто, так как мастеру спорта разрешение на переход в другое общество давала только Федерация парусного спорта Ленинграда, а «Труд» тут же не согласился с моим переходом. Можно перейти без разрешения Федерации, но с потерей гоночного года, то есть без выступления на соревнованиях. На Федерации я представителю «Труда» объясняю, что сколько можно меня закапывать, значит, я Вам не нужен, но все таки, преимуществом в один голос, было принято решение о моем переходе.
47. Начинаем с нуля
Теперь предстояло все начинать с нуля. Буер мне дали хороший после Николая Красноперова, который построил для БГМП два «Монотипа»; для себя и для Владимира Гвардина номер 141 и 140. Мой шкотовый Паша Михайлов всей этой борьбы и мытарств с переходом в яхт-клуб «Водник» не выдержал, и мне предстояло шкотовым взять второго своего матроса с яхты Валеру Блохина. Пришлось подгонять паруса, искать коньки, настраивать буер, учить шкотового и выигрывать отбор на Чемпионат Страны. Но с этой задачей мы с Валерой благополучно справились и добились права участия в тренировочном сборе и самом Чемпионате СССР 1963 года в Таллинне.
48. Освободиться на гонки не так просто
В это время я был успевающим студентом Ленинградского электротехнического института им. Ульянова-Ленина. При освобождении от занятий для участия в тренировочном сборе и Чемпионате СССР возникли серьезные трудности. Так как я хорошо учился, то ходатайство от общества декан мне подписал, однако И.О. ректора (ректор был в загранкомандировке), проректор по учебной работе, с матерным оттенком объяснил мне, что они готовят инженеров, а не спортсменов и ни о каком освобождении не может быть и речи. Я не мог не поехать, зачеркнув пять лет борьбы за справедливость и за право участия в Чемпионате СССР.
Я написал заявление по собственному желанию и пришел с ним к декану. Декан, очень приятный человек, посчитал меня не совсем нормальным. Я объяснил декану, что все равно поеду, так как не могу предать пять лет борьбы, а при этом меня исключат из института за не посещаемость. Если меня отчислят из института по собственному желанию, то я потеряю, конечно, год, но осенью смогу восстановиться и продолжить учебу. Декан согласился с моими доводами и пожелал мне успехов. Таким образом, мы с Валерой Блохиным поехали в Таллинн и там участвовали в тренировочном сборе и самом Чемпионате СССР 1963 года.
49. Великие яхтсмены ещё не великие буеристы
Члены олимпийской сборной СССР по парусному спорту, в обеспечении круглогодичной тренировки, должны были участвовать в Чемпионате Страны по буеру; Темир Пинегин участвовал от ВМФ, а Валентин Манкин от ДСО «Водник». Вот на тренировочном сборе я как мог, помогал Валентину Манкину освоить «Монотип». Дело все в том, что буер и яхта совершенно разные спортивные снаряды и имеют разные принципы управления парусом, особенно на попутных курсах. Спуск по ветру с верхнего знака до нижнего при слабом ветре и при тяжелой дороге требовал большого искусства и сходу не давался даже парусным знаменитостям. Буер даже на идеально гладком льду не может идти чисто по ветру, так как убегает от ветра и парус обезветривается за счет появления встречного потока воздуха (лобовой составляющей ветра). Буер по ветру может перемещаться только галсами идя курсом бакштаг, а так как скорость на этом курсе в три раза быстрее скорости ветра то лобовая составляющая велика и вымпельный ветер т.е. результирующая вектора истинного ветра и вектора лобовой составляющей (встречного ветра, равного скорости движения буера) представляет собой вектор по направлению соответствующий курсу бейдевинд, а по скорости значительно сильнее. Поэтому парус на курсе бакштаг добран также втугую, как при ветре на курсе бейдевинд, но скорость при этом значительно выше, чем при движении к верхнему знаку курсом бейдевинд.
Увалиться после огибания верхнего знака, набрав необходимую скорость, чтобы идти курсом бакштаг с туго выбранным парусом часто для новичков является трудно преодолимым препятствием, особенно в тяжелую (заснеженную) дорогу и в слабый ветер.
Увалиться после огибания верхнего знака новичку бывает затруднительно и часто буер останавливается, а разгоняют буер бегом курсом полный бейдевинд (примерно 45 градусов к ветру) или галфвинд (90 градусов к ветру). В слабый ветер, и особенно в тяжелую заснеженную дорогу часто наблюдается картина, когда буера не могут никак увалиться и рулевые бегают с буером поперек дистанции, либо вообще поднимаются выше верхнего знака.

