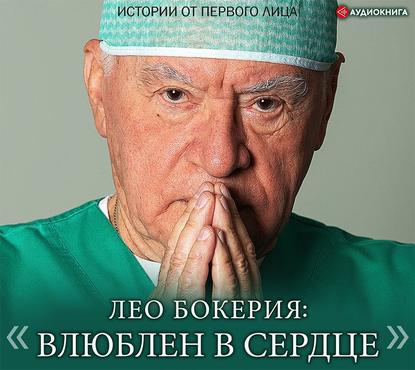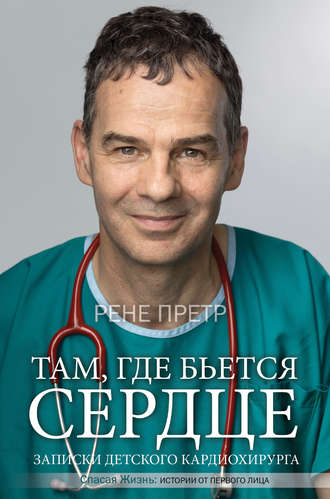
Полная версия
Там, где бьется сердце. Записки детского кардиохирурга
«В «Бельвю» не видели… и вовсе нет».
В то время – в начале девяностых – над городом нависало чувство опасности. «Крэк», это ползучее бедствие, опустошал целые кварталы и распространялся со свирепством средневековых эпидемий. Нам этот наркотик поставлял огромное количество жертв, пострадавших от насилия, которое он порождал. Нью-Йорк стал одной из мировых столиц преступности – особенность, которую он выставлял напоказ со смесью гордыни и обреченности. Эта метрополия не без гордости поддерживала в себе парадоксальное сочетание модернизма и декаданса – и в нашем блоке это было заметнее всего.
Мы вернулись в раздевалку, сорвали пропитанные кровью халаты, побросали их комом в большие баки и надели чистые. Немного посидели на скамейке, пошутили, посмеялись. Атмосфера футбольной раздевалки. Вскоре нужно будет спуститься в блок, разобраться с накопившимися вызовами, затем вернуться к делам, которые прервали громкоговорители, и, наконец, навести порядок на этажах. Меньше чем через час состоится визит руководства. Уж они ничего не захотят слышать о беспокойной ночи. Они перешагнут порог нашей берлоги в положенный час, сочтут нашу последнюю операцию совершенно обыденным делом и будут ожидать, что им предъявят начищенное до блеска отделение.
И все же, если выйти за пределы скорой помощи, город оказывался пьянящим, таким огромным, таким живым, что ему удавалось убедить меня: я в центре мироздания. Это убеждение поддерживал его магнетизм и что-то вроде пульса – едва уловимого, но постоянного и ощутимого. Я любил подниматься на крышу небоскреба Эмпайр-стэйт-билдинг, который был совсем рядом, дышать воздухом над этими зданиями и пытаться постичь безмерность его архитектуры. Лучшим моментом для этого было наступление темноты, когда сумерки подчеркивали контрастность его красок. Меня впечатлял северо-восточный угол, там, где Бронкс. Ведь я знал, что там прямо сейчас царят крайние меры, решительные злодеяния, окончательный переход от замыслов к делу. В то время Южный Бронкс слыл местом насилия, разрухи и запустения. Как потрескивает воздух над пустыней, так и над его улицами, казалось, подрагивала тоненькая дымка – там тоже было слишком горячо. Я смотрел в ту сторону и думал: «Вот прямо сейчас в этом самом Бронксе что-то происходит».
Еще мы любили прогуливаться вокруг Сент-Маркс Плейс – туда было удобно ходить с Татьяной в коляске. Это место, еще не утратившее богемности, источало кипучую атмосферу. В воздухе плыли последние отголоски андеграунда шестидесятых, тени Энди Уорхола и Джимми Хендрикса. Яркие наряды, граффити, латиноамериканские мелодии. А еще – одурманивающие запахи, дилеры и угрожающее поблескивание ножей по мере того, как мы подходили к Алфабет-сити. Мы избегали этих улиц, где уже не было фонарей – верный знак, что здесь действуют другие правила и законы. Что здесь другое командование.
Конец обхода. От руководства поступило только несколько неприятных замечаний насчет повязок, которые вчера вечером не заменили. Затем они слегка утомленным взглядом окинули нашего пациента, еще «совсем тепленького», со стянутым животом. Отсутствие критики с их стороны мы сочли за комплимент.
Мы пошли немного выдохнуть в кафе недалеко от Первой Авеню. Большое Яблоко еще сверкало огнями, его улицы уже гудели, ругались таксисты, то и дело взревывали сирены. Теперь я закалился шумом улицы и сиренами скорой помощи, меня больше не задевали ни акустические атаки, ни сомнения новичка. Я стал безразличен к их воплям, как кузнецы поневоле становятся глухи к ударам своего молота по наковальне.
Начинался новый день. Наш утренний пациент сейчас, должно быть, спал.
Мы еще займемся им – без спешки.
Два года спустя я вернулся к себе в университет и в женевскую больницу. Да, я предпочел их предложение – обучение на кардиохирурга – похожему варианту из Нового Света. Тяжелый выбор, достойный трагедии Корнеля, так как я знал – мое решение окончательно пришпилит мою семью к одной точке на карте. Каким бы чарующим ни было это Большое Яблоко, постоянно создававшее для меня декорации боевика, где я был актером, наполнявшее меня ощущением, что в любой момент может случиться нечто необычайное, – «в «Бельвю» не видели… и вовсе нет» – оно не заставило меня забыть об очаровании старой доброй Европы. Ни меня, ни моих близких. Я достаточно вкусил чар «города, который никогда не спит», чтобы во мне надолго остался его отпечаток. Тот отпечаток, который и поныне, после стольких лет, напоминает, что я был частичкой его истории, той, которая и поныне, после стольких лет, вызывает у меня такие живые и трогательные воспоминания.
Вот как недавно, когда я слушал оперу Моцарта «Дон Жуан» в Поррантрюи – городке, где я учился в лицее. Постановка в старой церкви была грандиозной, певцы исполняли свои роли очень убедительно. Вскоре дело дошло до дуэли коварного соблазнителя и доблестного Командора. Они скрестили шпаги, и Дон Жуан пронзил живот своего соперника. Тот рухнул, и оба запели ту арию, где Командор в агонии, теряя кровь и силы, чувствует, как его душа покидает тело. И тут – вспышка из прошлого! Слова «Я чувствую, что умираю» моего раненого из «Бельвю». Он тоже чувствовал, как жизнь покидает его, как им овладевает смерть. В голове на ускоренной перемотке замелькали кадры, как мы его спасали. Та шахматная партия с классическим дебютом, пустеющие песочные часы и наши умелые действия, чтобы не дать им опустеть совсем. Несмотря на драму на сцене и на смятение актеров, на моих губах возникла легкая улыбка. Я не мог не думать с некоторой лихостью: «Эх, жаль, что там не было «Бельвю». Мы бы этого Командора вытащили!».
Становление хирурга
I knew then, as I know now,that after every operation I performed,every decision I made,every crisis I met,I would be a bit moreof a surgeon than I had been.«The making of a Surgeon»[13]Уильям A. Нолен (1928–1986).Нью-Йорк, Женева,
1988–1996
Я обернулся к Изабель, дежурному анестезиологу. Как я и ожидал, ее глаза выражали легкий скепсис. Чтобы отвлечь ее и не дать усилиться этому чувству, я сказал ей скорее утвердительно, чем вопросительно:
– Иза, ты же сможешь его удержать, пока я буду шить?
– Сложно сказать, Рене, реально уже предел. Тебе еще долго?
В ее глазах появилось беспокойство, которое меня как раз ненадолго оставило: хотя я был еще только практикантом, до сих пор все мои операции проходили успешно, и хорошие результаты приумножили мою уверенность.
– Двенадцать минут, ну самое большее пятнадцать.
Я хотел быть оптимистом.
– Если не дольше, то, пожалуй, получится. Но больше у тебя не будет ни секунды. Здесь ты работаешь без страховки.
– Я знаю, Иза, но если мы все сосредоточимся и будем действовать эффективно, должно получиться.
Несколько минут назад я поставил зажим на артерию левого легкого, заблокировав поток крови и направив ее всю в правое. Ребенок переносил это хорошо: количество кислорода, циркулирующего в крови, не снижалось, оставаясь стабильным. Сигналы нашего пульсоксиметра – аппарата, который крепится к подушечке пальца и измеряет уровень кислорода в крови – не меняли своей тональности и не становились ниже, как это бывает, когда уровень падает. Операция без помощи аппарата искусственного кровообращения – без внешней оксигенации крови – казалась выполнимой.
Ребенка привезли из Африки. Он страдал тяжелой формой тетрады Фалло – знаменитой «синей болезни». Он действительно был сумеречно-синего цвета и едва приехал, как сорвался в критическое состояние, вызывающее крайнее беспокойство. Его состояние дестабилизировалось из-за долгого путешествия и неумолимо приближалось к фатальной асфиксии. Чтобы противостоять этой угрозе, нужно было срочно поставить шунт – тогда через несколько недель можно будет провести полноценную операцию.
О, эта тетрада Фалло, классика из классики!
Это заболевание, описанное в 1888 году в Марселе Артуром Фалло, – само воплощение «синей болезни», как ее назвали из-за внешнего вида больных детей: их кожные покровы, ногти и слизистые отражают сине-фиолетовый цвет крови.
Кровь имеет прекрасное свойство менять свою окраску в зависимости от уровня кислорода. Цветовой спектр распределяется от карминово-красного, когда кровь на выходе из легких полностью насыщена кислородом, до густо-синего, по мере того как молекулы кислорода покидают ее. Так, именно артериальная кровь придает розовый оттенок нашей коже, губам, подушечкам пальцев. Если с ней смешивается венозная кровь, к ней примешиваются синеватые оттенки, делают ее темнее и меняют цвет тканей, через которые она проходит.
При тетраде Фалло легочная артерия, которая соединяет сердце и легкие, слабо развита. Синяя венозная кровь, не находя нужного выхода в направлении легких, проходит через межжелудочковую перегородку непосредственно в другую половину сердца. Там она смешивается с небольшим количеством красной крови, насыщенной кислородом, прошедшей через легкие, и эта смесь вбрасывается в организм. Чем сильнее сжат узкий проход к легким, тем интенсивнее сине-фиолетовый цвет кожных покровов, тем сильнее цианоз.
Без лечения некоторые из этих детей умирают уже через несколько дней после рождения, когда артериальный канал (опосредованный источник крови для легких) закрывается. Другие погибают в раннем детстве, иногда в подростковом возрасте, и очень немногие из них становятся взрослыми. Словно язычок пламени под стеклом, их жизнь словно задыхается. Она никогда не сияет ярко, не горит прямо и сильно, а однажды начинает дрожать – и затухает.
Эта жестокая участь детей – смерть на медленном огне – заставила врачей искать решения, даже самые немыслимые. Элен Тауссиг и Альфреду Блелоку из больницы Джона Хопкинса в США, штат Балтимор, пришла мысль создать дополнительный источник крови для слабо орошаемых легких у детей со слишком темным синим цветом кожи. С технической стороны – Блелок перебросил артерию, предназначенную для кровоснабжения левой руки, к легочной артерии, анатомически находящейся близко, чтобы кровь из нее шла не в руку, а в легкие.
Результат был поразительным. Получив дополнительный приток крови, ребенок на глазах у хирурга стал меняться, сменив цвет с темно-синего на розовый. Все закричали, что случилось чудо, заговорили о выходе из тьмы на свет, и эту знаменательную дату – 29 ноября 1944 года – назвали точкой старта кардиохирургии. Этот переброс артерии получил название «шунт». Он распространился по всему миру и надолго стал спасительным лечением «синей болезни».
Я снял зажим, чтобы кровь снова могла циркулировать в каждом легком, а я получил бы время еще раз обдумать варианты. Обращение к внешней оксигенации артериальной крови было бы, конечно, надежнее, но ценой серьезного вмешательства в организм и значительного осложнения нашей операции. Установка шунта без такой поддержки будет легким, едва заметным вмешательством.
При таких сильных асфиксиях успех операции зависит от быстроты ее исполнения. Так что я воспользовался моментом, чтобы повторить основные шаги с моими ассистентами Ари и Ирен и с операционной сестрой Жослин. Работа всей бригады должна быть скоординированной и плавной. Я хотел, чтобы основное движение, эта широкая волна, шло со спокойной силой, без перебоев и в хорошем ритме.
Каждый освежил в памяти свои действия, и я почувствовал уверенность в своем решении: мы уложимся в отведенное время. Я снова повернулся к Изабель:
– Медикаменты готовы?
Она кивнула без особого воодушевления. Я еще раз посмотрел на две пока еще нетронутые артерии, набрал полную грудь воздуха и стал распоряжаться:
– Так, у нас тоже порядок? Нитки, инструменты готовы? Да? Тогда начали!
Именно в таких четких решениях и действиях в самом сердце проблемы и кроется сила хирургии. Именно схватка с болезнью, а то и с судьбой, всегда завораживала меня и определила мой путь с самого начала, когда я еще мало что знал об извилистых путях медицины.
Конечно же, у нас был семейный врач, но мы не часто его видели, и я никогда по-настоящему с ним не разговаривал. На самом деле, основным медицинским консультантом в нашем доме был ветеринар. Надо признать, что он совершал достопамятные подвиги непосредственно на ферме и подручными средствами. Я до сих пор помню, как в детстве наблюдал недоверчивым от изумления взглядом, как он делал, под местной анестезией, кесарево сечение молодой корове, кое-как привязанной к водосточной трубе, а та стояла на месте с невероятным терпением. Разрезав кожу, затем матку, «наш акушер» непринужденнейшим движением извлек теленка, высвободил плаценту и зашил все необходимые ткани. Помню его сапожные иголки с огромным ушком и нитки, скрутившиеся жесткими кольцами. «Кетгут! Кошачьи кишки!» – радостно провозглашал он, показывая на них. И добавлял, накладывая швы:
– Коровы все выдержат. Хоть плюньте в рану, они даже не заразятся. А вот лошади – совсем другое дело! До того хрупкие! Стоит только посмотреть на разрез, как вы занесете инфекцию!
Но не этот красочный эпизод убедил меня в фантастических возможностях хирургии. Моя решающая встреча с медициной на местах произошла в начале моей учебы во время фельдшерской практики.
Я снова зажал легочную артерию и артерию левой руки. Несколько секунд ожидания: сигнал пульсоксиметра не изменился. Первая артерия раскрывается скальпелем на пять миллиметров, рассечение, переброс второй в разрез. Начало шва, тонкой и гладкой нитью. Ари подхватывал нить, как только игла проходила сквозь ткани, чтобы затянуть шов через край. Все идет ритмично, гладко и ровно.
И вдруг, хотя мы не сделали ничего неуместного или слишком резкого, пульсоксиметр принялся стонать. Частота сигналов замедлилась, звук стал тише, словно он терял силы. Уровень кислорода в крови, и так совсем низкий, еще упал, и сердце, задыхавшееся все сильнее, начинало сдавать. Это его стоны передавал нам прибор, стоны мотора, глохнущего от неимоверных усилий. Изабель ввела адреналин, чтобы поднять кровяное давление и разорвать порочный круг, который вот-вот замкнется. В ее голосе звучала тревога:
– Рене, я скоро уже не смогу его удержать. Быстрее, скоро будет остановка.
Меня направили в отделение хронических больных. Это шло слегка вразрез с моими идеализированными представлениями о медицине, и тогда я констатировал, что эта наука скорее ухаживает за больными, чем лечит их. В двадцать лет такой вывод об относительном бессилии медицины меня немного разочаровал, тем более что он вступал в резкое противоречие с ковбойскими подвигами нашего ветеринара. В конце практики я спросил главного хирурга, можно ли присутствовать на одной из его операций. Он согласился, и я впервые пересек порог операционной.
Я сразу же почувствовал в некотором роде сакральный характер этого святилища, закрытого для внешнего мира. Нужно было пройти через тамбур, чтобы проникнуть в эту тайную пещеру, переодеться, переобуться, надеть шапочку и маску. Облик людей полностью менялся, приобретая что-то клановое, как в одежде, так и в их миссии. В тот день я присутствовал на первой моей операции: удалении аппендицита. С самого начала меня поразила холодная решимость хирурга. Безо всяких преамбул он направился прямо к цели, одним движением скальпеля сделал четкий и глубокий разрез и все тем же острым лезвием высвободил виновный орган. Властным решением он был извлечен из тела. Затем хирург зашил оставшийся обрубок кетгутом – наименование этой нити, связанное со столь героическими воспоминаниями, заставило мои мысли вернуться на десять лет назад.
На следующий день подросток заявил, что поправился: лихорадка, боль в животе, рвота – все прошло! Казалось, их извлекли так же решительно и естественно, как аппендикс. Юноша вернулся целым и невредимым к своей прежней жизни.
Могущество хирургии, которая вступала в рукопашную схватку с болезнью, резала по живому, извлекала без церемоний провинившуюся часть, чтобы действительно вылечить, а не просто ухаживать, было потрясающим. А в образе великого волшебника-хирурга, свободном от границ, обходящем любые основополагающие правила таким вторжением в живое тело, было что-то завораживающее.
Мне оставалось три стежка, чтобы замкнуть шов, и по-хорошему еще надо было завязать узел, прежде чем снимать зажимы. Я еще прибавил темп. Я прекрасно видел и еще лучше слышал, что эта жизнь уходит. Цвет тканей был таким темным, что кислорода в них, похоже, не было почти совсем. Сигналы прибора, такие редкие, такой зловещей тональности, заставляли нас остро переживать последние удары сердца. Мы чувствовали его неизбежную остановку…
Колдовство владело мной несколько дней.
Потом, я же видел, как практикующий врач работает руками. Я видел, как его ловкие пальцы обходят любые западни, чтобы достичь своей цели. Я был родом из мира, где все еще преобладал ручной труд. Я видел в движениях оперирующего хирурга определенную хореографию, конечно, более изящную, чем у нас, но по сути довольно похожую.
Этот опыт стал откровением: я открыл для себя полезную профессию, которая меняла ход вещей и где ловкость рук играла основную роль.
После этого удаления аппендицита я не просто укрепился в своем отчасти случайном решении изучать медицину, а приобрел уверенность, что мой путь – именно хирургия.
Я протянул нитку от последнего шва Ари. И сразу же, даже не завязывая, отпустил зажимы на легочной и подключичной артериях. Наконец в легкое проникает кровь – дополнительная кровь, благодаря шунту. Двухсекундная задержка – зловещая тишина – прежде чем пульсоксиметр издал новый звук, совершенно похоронной тональности. Я уже готовился начать массаж сердца, но тут раздался второй сигнал, затем третий – тоже глухие и неуверенные. Затем четвертый, пятый, быстрее и выше. Тональность поднималась. Наконец-то! Вместе с ней – сила и частота сигналов. Еще несколько секунд, и теперь сердечный ритм окончательно пошел по нарастающей. Под действием адреналина сердце заработало даже с перегрузкой, тональность ушла в верхние частоты, по мере того, как кислород насыщал кровь и сердце вновь обретало силу. И вместе с тем ткани, такие темные и тусклые, приобрели цвет, отсветы, яркость. За тридцать секунд все преобразилось, все тело ребенка из темно-синего стало нормального розового цвета.
Тогда я очень осторожно завязал узелки швов, так как под действием надувшейся артерии они легко могли порваться. Закончив с узлами, я обрезал кончики ниток. Опасность окончательно отступила. Угрожающая тень, которая зримо приблизилась к нам и обдала холодом, замерла. Теперь она медленно рассеивалась.
Эта плавная и чистая хореография, эта решимость сразу дали мне понять, что становление хирурга проходит через долгую и тягостную тренировку рук, пальцев, сознания, и только оперируя раз за разом, можно приобрести это техническое мастерство и понимание органических характеристик различных тканей, их состава и основных свойств.
И именно это я продолжаю делать ежедневно и неустанно после возвращения в Женеву. Я провожу, то как ассистент, то как оперирующий хирург, операцию за операцией… на сердце. Да, на сердце, поскольку я сменил специализацию! А все из-за больницы Бельвю. Все из-за Гросси и Спенсера. Из-за сердца. Потрясение, которое я испытал, когда увидел, как после моего первого аортокоронарного шунтирования сердце набирает силу, было сильным, слишком сильным, чтобы я мог остаться невредимым. И эта встряска осталась со мной навсегда. А еще это было моим вторым откровением. Одним из тех, что заставляют людей менять траекторию. Из тех, что заставляют отказаться от всех этих органов, хотя они были такими увлекательными, и посвятить себя отныне лишь одному: сердцу. И виновниками моего обращения были Джин Гросси и Фрэнк Спенсер, которые увлекли меня в свою область и открыли мне в Нью-Йорке двери кардиохирургии.
Слова заведующего хирургическим отделением нью-йоркского университетской больницы Фрэнка Спенсера оказались для меня пророческими. Он утверждал: «Сердце – это наркотик. Не пускайте к нему кого попало, кто его тронет – подсядет».
Это со мной в тот день и произошло.
И вот тогда у меня затряслись руки, живот свело каменной судорогой, ноги подкосились. Мы переглянулись в некотором ступоре, все еще оцепенев от этой злобной силы, которая сейчас развеивалась. На этот раз Изабель даже не пыталась скрыть упрек во взгляде.
– Черт, меня чуть кондратий не хватил!
Я чуть неловко повел плечом в знак согласия. И признался:
– Не тебя одну! Ох, Иза, не тебя одну.
Больше никому говорить не хотелось. Понятно, что в воздухе еще плыла эта смесь страха и облегчения от того, что разум остался при нас, но главным было другое. Вот это отчетливое и яркое, предельно ясное чувство, которое возникает, когда молния ударила слишком близко. Когда снова все спокойно, но ты еще на какое-то время ослеплен и оглушен. В операционной тоже все снова стало тихо. И в это верилось с трудом. Ничто не выдавало драму, которой мы чудом избежали. Сердечный ритм был нормальным, тон – гармоничным. Кровяное давление в норме, кровь идеально насыщена кислородом, лучше, чем когда бы то ни было.
Нам понадобилось еще некоторое время, чтобы продолжить операцию. Мы словно окаменели. Затем мы начали закрывать грудную клетку в том сосредоточенном молчании, которое обычно следует за большим испугом. Мне было плохо. Я слишком рискнул, и спасением этого ребенка я был обязан только огромной удаче. Внутренности все еще буравил ненасытный спрут. Я сбежал из операционной, оставив Ари и Ирен зашивать последние слои, и упал на стул в помещении, где мы пили кофе. Горло пересохло, во рту стоял вкус ржавчины.
«Кардиохирургия? Это просто, – говорил Спенсер. – Считай: десять лет – десять часов»: в течение десяти лет – работать по десять часов в день! Я опять счел формулу «а-ля Бельвю» преувеличенной, но опыт доказал мне ее правильность.
Придерживаясь этого режима, я уверенно двигаюсь вперед и чувствую, как профессия входит в меня и крепнет. Я продолжаю следовать заветам великого Фрэнка, который уделял большое внимание критике каждой проведенной операции сразу же после ее завершения, каким бы ни был ее исход. Он предписывал нам делать заметки после каждой сложной операции и, когда опять предстоит что-то подобное, перечитывать их перед операцией, «потому что память уже утратила детали, а именно они отличают хорошее от превосходного». И наставлял: «Проводите больше времени в операционном блоке. Оперируйте сами и смотрите, как оперируют другие!»
Я пережил опыт, который дезориентирует. Из тех, что заставляют задуматься о правильности выбранного курса. Я прекрасно знал, и по здравому смыслу, и по небогатому еще опыту, что мы не всегда оказываемся великими спасителями в безнадежных ситуациях. А еще я знал, что порой мы направляем в пропасть судьбу, которой не так уж грозила опасность. Я слышал о подобных драмах, а несколько пережил сам, но всегда на расстоянии, в качестве ассистента. Как Ари и Ирен сегодня, без прямого участия. И к тому же речь шла прежде всего о пациентах уже в летах, которые говорили о своей жизни в прошедшем времени.
А здесь на меня резко обрушилось осознание моей ответственности за ту драму, которой мы чудом избежали. За то, что необдуманно пошел на риск. За безумие. В этот раз именно я разыграл на шахматной доске опаснейший дебют белыми. Это я пригласил смерть на операцию, куда ее обычно не зовут. А она материализовалась. Она возникла внезапно, как те грозовые тучи, черные от дождя, которые вдруг омрачают ясное небо и охлаждают знойный воздух. Тяжелая, ледяная, всепоглощающая тень. Она заговорила зловещими стонами нашего пульсоксиметра, сгустила краски агонии. Сбросить ее покрывало удалось лишь последним рывком уже задыхающегося организма. И большим везением.
Эти принципы поддерживали меня. Чем больше было прочищенных сосудов, вскрытых грудных клеток, исправленных сердец, тем легче было мне в новой области, тем крепче становилась моя уверенность.
И меня пропитывала философия «cardiac attitude»[14], это невероятное сочетание дерзости и скромности, такое необычное в огромном мире хирургии. Я был одержим ею.
Окаменев от ужаса, я воображал, как снимаю простыни, укрывающие этого ребенка, и обнаруживаю его мертвым. Потухшие глаза. Расширенные зрачки, уже высохшие, без блеска. Мертвенно-бледная кожа, безжизненное тело, которое вскоре окоченеет. Мой ужас при этом зрелище! И ведь этого можно было избежать, и ведь именно я был в этом повинен! Все зависело от таких мелочей! Дело решилось одним колебанием воздуха: соскользнувшая игла при проходе сквозь артерию, нить, обвившаяся вокруг инструмента, резкого или просто неточное действие, неловкое движение. Это видение из глубин Дантова ада становилось таким страшным, таким невыносимым, что я хотел вычеркнуть его из своего сознания, из самого своего тела, пока оно не оставило там чересчур глубокий след. Я весь встряхнулся, как уличный пес, вылезший из воды, и не смог сдержать хрип. Сиплый стон.