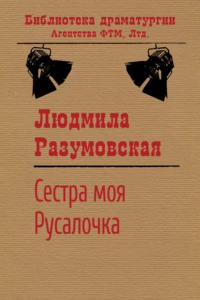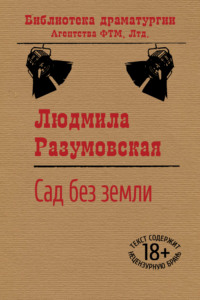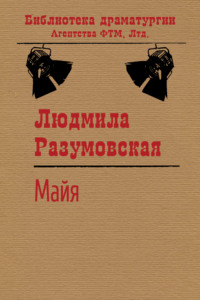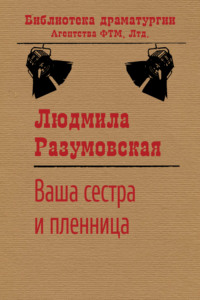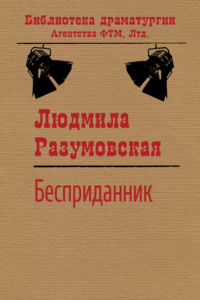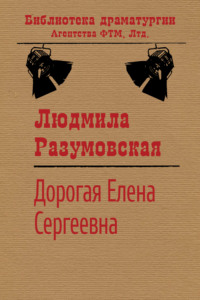Полная версия
Апостасия. Отступничество
Отец Валериан быстро взглянул на Петра, и в глазах его впервые промелькнуло что-то похожее на скорбное осуждение.
– Как вы, однако, выражаетесь… смело.
– Я, знаете ли, поклонник Руссо, – продолжал Петр с туго набитым ртом, не замечая батюшкиного осуждения, – и считаю, что человеку не нужны подпорки в виде богов. Я лично держусь того мнения, что человек от природы добр, а все зло – это, извините, от условий жизни. Мы, социалисты, боремся именно за изменение условий. А нас за это, изволите видеть, ссылают! Казнят! Вы находите это справедливым?
– Вот вы, молодой человек, говорите, что о народе страждете, атеизмом да социализмом его просвещаете, а того не ведаете, что народ наш одной только верой и жив, только ею вот уже тысячу лет и спасается. Отнимите у него веру – тогда берегитесь! И сами пропадете, и народ погубите. Да только ведь простой народ вас все равно отвергает. Сколько уж и до вас тут приезжало… всяких. Народ наш в Бога пока что еще, слава Тебе, Господи, верует, и хоть грешит порой, тяжко грешит, но кается и в идеале своем правду Божию взыскует.
– Ничего! – бодро воскликнул Петр. – Тьму народного невежества мы развеем, а вас, батюшка, упраздним. А насчет вашего «греха», то уж, извините меня, я этого не по-ни-ма-ю! Вот в чем лично я должен каяться? Или вот она? Застращали людей грехом. Опутали их, словно сетью. Вот бедный человек барахтается в сетях и вопит: грешен, батюшка, признаю, грешен! Только выпусти меня на волю, я тебе в чем хочешь покаюсь!
– Сколько вам годков, Петр… простите, как вас по батюшке?
– Двадцать один… Почти. Какое это имеет значение?
– Да так… вспомнилось. Иоанн Васильевич в семнадцать на царство венчался, Михаил Федорович в шестнадцать государем всея Руси стал… а вы-с всё в игрушки играть изволите.
– Вы, конечно, не обижайтесь, отец Валериан, – вступилась за обиженного супруга Наденька, – но у нас на женских курсах тоже никто в Бога не верит. Это даже как-то странно…
– Без веры-то жить, милые мои, нельзя. Во что-нибудь да ведь и вы веруете?
– В социализм! – выпалили, не сговариваясь, оба супруга и, взглянув друг на друга, рассмеялись. – В революцию! В прогресс!
Ну что на это скажешь? Запечалилась, заскорбела душа у попа. Что же это с Россией будет, ежели такие учителя у нее завелись? Ежели такие-то неразумные учить ее станут? А похоже, к тому все идет. Ох, не дожить бы!..
А Наденька с Петром тоже ушли от отца Валериана недовольные, и как-то оба сразу решили: больше к попу не ходить. Ну его, мракобеса!
Быстро пробежал медовый месяц. В конце ноября получила Наденька тайные известия из Петербурга и ночь целую не спала: то плакала, то смеялась. Петр терзался, не знал, что и думать. А наутро объявила ему Наденька, что немедля собирается и едет в Петербург.
Ошеломленный супруг умолял объяснить, что случилось. Наденька сперва не хотела ничего говорить, но потом взяла да и выпалила. В Петербург, мол, приехал Натан Григорьевич, они вместе с Троцким и другими товарищами Совет рабочих депутатов утвердили и власть у царя хотят окончательно отобрать, а потому Наденьке оставаться здесь никак невозможно, а нужно срочно доставать лошадей и на крыльях любви лететь в столицу.
– А как же полиция?.. – растерянно спросил Петр.
– А что полиция? – пожала плечами Наденька. – Ну скажешь им что-нибудь.
– Что сказать?
– Ну не знаю… придумай. Что я ушла гулять и не вернулась. Волки в лесу съели! – И Наденька весело захохотала.
Петр замолчал. Молча смотрел, как Наденька, что-то напевая, собирала вещи.
Наконец потерянно спросил:
– Что же, ты меня теперь совсем оставляешь?
Наденька перестала петь, глянула на Петра исподлобья, а потом бросилась его целовать.
– Петечка! Миленький! Ну ты же понимаешь, это всего только шутка! – жарко зашептала она.
– Что – шутка?.. Я же люблю тебя…
– Ну, Пе-тя-я… – капризно протянула Наденька.
– И ты… говорила, что… любишь…
– Ну, глупенький… Ну да, конечно, люблю. Но я тебе уже сто раз объясняла… Это все равно все понарошку! Просто так. Чтоб веселее! Понимаешь? Ах, какой ты у меня еще маленький и глупенький! Ты что это?.. Ты что, Петечка, плачешь?.. Вот еще новости! – И Наденька надула губки.
– Если ты уедешь… я застрелюсь! – выдохнул Петр.
А Наденька, вконец рассердившись на разнюнившегося «супруга», хотела уже выкрикнуть: «Ну и стреляйся!» Но вид у Петра был такой несчастный, что она невольно вдруг его пожалела и, вздохнув, предложила:
– Ну, если хочешь, поедем вместе… Только, ты же понимаешь, я все равно ухожу от тебя к Натану Григорьевичу!
Бежать из ссылок в царские времена было легко. И среди тюремщиков, и среди охранников-солдат, среди всех, кто так или иначе соприкасался с осужденными, всегда находились члены партий эсеров, эсдеков или на худой конец кадетов да и просто душевно сочувствовавшие революции. Бегали единично, и малыми группами, и даже десятками человек. Бежали за границу, а многие оставались нелегалами здесь же, в России, меняя по нескольку раз паспорта. Документы доставали легко, а теперь, при завоеванных свободах и правах личности, и совсем стало несложно отбиться от никуда не годящейся власти.
Увы, как ни торопилась Наденька в Петербург, как ни спешила на свидание с дорогими ее сердцу товарищами, она опоздала. 3 декабря был арестован весь цвет Совета рабочих депутатов, руководимый прославленной тройкой: Парвусом, Троцким и Носарем. Чашу терпения правительства переполнили газетные публикации (а Парвус с Троцким беспрепятственно издавали полумиллионные тиражи) с призывом отрезать у правительства источник существования – финансовые доходы – и популярно объясняли, как это сделать. Более того, они прямо объявили царское правительство банкротом и призывали население к немедленному изъятию собственных вкладов, требуя выдавать деньги золотом. Началась паника, грозившая уже всамделишным финансовым кризисом. Этого уже даже и наилояльнейшие к революционерам власти, только что объявившие всевозможные свободы (печати, митингов и собраний) для своего упразднения, переварить не смогли, засадили всю компанию в «Кресты» и повели законное следствие.
Временно приютившие нелегальных супругов, сбежавших из Ферапонтова поселения, друзья помогли им обзавестись необходимыми документами, и Наденька сразу же отправилась в тюрьму знакомиться с Львом Давидовичем и узнавать новости о Натане.
Троцкий оказался совсем молодым человеком (всего-то двадцати шести лет от роду, а уже европейская знаменитость, уже вождь!) с шапкой густых темных волос (почти красавец!). Наденьке он показался страшно интересным и сразу понравился. Он был прекрасно, даже элегантно одет, в белоснежном воротничке и манжетах. Обилием цветов камера напоминала салон, на столе – масса книг, газеты, рукописи и красивые коробки конфет, кокетливо перевязанные ленточками, – подношение поклонниц. Вот и Наденька пришла к Троцкому с букетом и коробкой шоколада. К нему вообще шел нескончаемый поток. Петербургская публика спешила засвидетельствовать молодому страдальцу свое почтение и благодарность за сумасшедший яд публикаций, впрыскивающих в их вяло скучающие головы порции взбадривающего адреналина. «Пролетариат не хочет ни полицейского хулигана Трепова, ни либерального маклера Витте, ни волчьей пасти, ни лисьего хвоста!» Ну разве можно было не прийти в восторг от подобных пассажей? Припечатал так припечатал! Обыватели рвали газеты из рук и с упоением обгладывали развязные строчки журналиста, радуясь, как лихо надавали по шапке властям эти ничего не боящиеся умницы-социалисты.
Навещали Троцкого в узах и свои товарищи, и иностранцы, и, разумеется, интеллигентные женщины, и даже дамы из общества. Вот и сейчас Троцкий был не один. В полоборота к Наденьке на стуле сидела красивая молодая женщина, едва ответившая на Наденькин поклон кивком головы. Впрочем, она тут же стала прощаться, и они с Троцким о чем-то тихо переговаривались у дверей.
Проводив даму, Троцкий обратился к Наденьке:
– С кем имею честь?..
– Меня зовут Надежда Ивановна Перевозщикова… я сейчас по фальшивому паспорту… – прибавила она доверительно и мило улыбнулась. – Сбежала из поселения. И прямо к вам.
– Вот как? – Троцкий взглянул на нее с симпатией и тоже улыбнулся. – Похвально.
– Я приятельница Натана Григорьевича… – Наденька произнесла эти слова со значением, словно пароль. – Я хотела бы знать…
– Натана Григорьевича?.. Натан Григорьевич сейчас в Москве и, кажется, пока еще на свободе.
– Правда? – засияла Наденька. – Ах как вы меня обрадовали! Я немедленно, сегодня же отправлюсь в Москву!
– Таки сегодня? – снова по-товарищески улыбнулся ей Троцкий. – Не боитесь слежки?
– Ах, я ничего не боюсь! – воскликнула Наденька и простодушно взглянула на Троцкого своими голубыми, по-детски распахнутыми глазами. – И вы ведь тоже ничего не боитесь?
Лев Давидович усмехнулся.
– Царское правительство обречено, – сказал он веско и поглядел затуманенным взором вдаль. – Оно безвольно и дряхло, трусливо и недееспособно. Оно давно утратило энергию действия и не имеет в самом себе силы властвовать. Оно слишком зависит от общественного мнения, желая всем угодить, а общественное мнение создаем мы. В этом их роковая ошибка. Чем больше они уступают, тем сильнее мы на них давим. Они не понимают, что мы не удовлетворимся никакими полумерами, никакими уступками, никакими улучшениями. Наша цель – захват власти! Когда власть будет в наших руках, мы не станем считаться ни с чем. Мы будем жестко проводить ту политику, которую сочтем нужной для удержания и завоевания мировой власти, невзирая ни на какие мнения. Мы и сами мнения упраздним. Вы спросите, а как же завоеванная свобода? На это я отвечу, что свобода – вздор. Никакой свободы не существует. Тот, кто это понимает, способен властвовать. Сильно и мощно, беспощадно к врагам. Властвует тот, кто сильно желает власти, а мы – умеем желать! Нам не страшны ни ссылки, ни виселицы, ибо, захватив власть, мы сами сошлем и повесим всех, кто посмеет нам возражать. А хотите анекдот? – неожиданно спросил Троцкий. – Представьте, вчера утром является ко мне сам начальник тюрьмы и, краснея и ежась от неловкости, сует мне мою книгу и просит подписать. «Для дочерей, – конфузливо объясняет он, – дочери-курсистки, узнав, что вы тут, умоляют… что тут поделаешь, уж подпишите, будьте добры». Подписал. Причем нагло так. Таким-то девицам с уверенностью в победе над прогнившим царизмом и прочее. Он прочел и – представьте – даже не поморщился. А я ему и говорю: «А вы скажите вашим дочерям, пусть они придут ко мне в камеру, я с ними с удовольствием побеседую». Старик чуть с ума не сошел от радости, целоваться полез, еле отбился. Ну и как вы думаете, на чьей стороне сила?
– Я передам ваши слова Натану, – сказала Наденька, благоговейно скрестив руки на груди.
– Натан и сам это знает. Все наши партийные разногласия – не в целях, а в тактике борьбы, – продолжал Троцкий. – Вы что-нибудь слышали о перманентной революции?
– Ну так… в общих чертах… – слукавила барышня и покраснела.
– А я вам скажу конкретно. У нашей революции не будет конца.
– Как?.. – распахнула глаза Наденька.
Троцкий загадочно улыбнулся.
– Россия – это только первая ласточка, Надежда Ивановна, наш эксперимент, если угодно – наш первенец! А дальше по этому пути пойдут пролетарии всех стран. Завоевание пролетариатом власти не завершает революцию, как ошибочно думают некоторые наши товарищи, а лишь открывает новый ее этап. Ибо социалистическое строительство мыслимо лишь на основе непрекращающейся классовой борьбы в национальном и международном масштабе. Эта борьба будет неизбежно приводить к внутренней гражданской и внешней революционной войне, в которой все хоть сколько-нибудь имущие классы будут истреблены неимущим пролетариатом. Социалистическая революция начинается на национальной арене, развивается на интернациональной и завершается на мировой.
– Значит, все-таки когда-нибудь завершается? – спросила Наденька с надеждой.
– Да, завершается. После окончательного торжества нового мирового порядка на всей планете.
– И вы уверены, что все так… и будет?
Ах какая наивная! Троцкому даже захотелось потрепать ее по щеке.
– Все будет именно так, милая барышня. Потому что это научно и потому что мы этого хотим! Мировой пожар не за горами!
Неизвестно почему, Наденьке вдруг представился ее отец, его фабрики, заводы, пароходы, его дома, объятые огнем мирового пожара (как была объята огнем помещичья усадьба, в поджоге которой Наденька сыграла столь роковую роль), и ей вдруг стало жаль и отца, и всего, им наработанного, но она, разумеется, ничего не сказала об этом Троцкому и тут же осудила себя за, оказывается, неизжитую в себе проклятую буржуазность. И чтобы окончательно понравиться этому смелому и отважному человеку, отнесшемуся к ней с таким революционным доверием, Наденька прошептала:
– Я тоже этого хочу. И я тоже ничего не боюсь. И я готова отдать за это жизнь.
13
После подавления революции тысяча девятьсот пятого года многие сотни интеллигентов, так или иначе причастных к тем событиям, временно переселились за границу – не столько спасаться от преследования полиции, сколько в отдохновении копить силы для новой борьбы и спокойно пережидать, пока власти успокоятся и фортуна («феличита») снова повернет к ним свое сияющее лицо. Ехали, как водится, в Париж, в Женеву, в Лондон, но и не только. На географической карте мира появилась новая точка, притягивавшая к себе как магнитом всех мыслящих и прогрессивных, жаждущих грядущего переустройства мира.
Разумеется, сам по себе сказочной красоты остров Капри так и остался бы жить-поживать в своей древней дреме, если бы не поселился на нем великий русский писатель Максим Горький, – и паломники осадили остров.
После декабрьской неудачи девятьсот пятого года (за эту неудачу и всадили пулю в спасителя Москвы генерала Мина бомбисты) отправился Горький с актрисой Андреевой по повелению партии за границу собирать деньги на новую революцию. А заодно отговаривать правительства западных стран давать кредиты царю – душителю свободы русского народа.
Европа встретила его восторженно, как жертву и борца против тирании, чем очень растрогала Алексея Максимовича. «Не давайте денег Романовым на убийство русских людей!» – требовал Горький от немецких, французских и американских банкиров. Американцы писателя послушались. А вот несерьезные французы, не спросив Горького, все ж таки кредиты дали. Алексей Максимович очень разгневался, да так, что выразился совсем даже недипломатично в газетах: «Великая Франция… понимаешь ли ты всю гнусность своего деяния? ‹…› Твоим золотом прольется снова кровь русского народа! ‹…› Прими и мой плевок крови и желчи в глаза твои!» Очень сильно выражался Алексей Максимович, когда речь шла о самом дорогом для него и святом деле – революции.
Рассердившись на американцев за то, что они оказались такими несовременными, кондовыми моралистами (святее Папы Римского), – вопрос о гражданских отношениях писателя с актрисой их волновал гораздо сильнее, чем возможность окончательной победы революции в отдельно взятой стране, – и прогневавшись на французов за самостоятельность их решения в вопросах займа, Горький с Андреевой уехали на Капри. Жить и работать. Помогать революции.
Чудный, дивный, благословенный открыточный остров Капри – иссиня-желто-зеленый! Куда ни кинь взор – красота немыслимая, непереносимая (куда там русским березкам!). Так и просятся на перо «Сказки об Италии». И Горький пишет. Много. (Но все в основном о России, только о России! О борьбе!) А Мария Федоровна переводит. Прекрасная жизнь!
Итальянцы встретили Горького с южным страстным восторгом; казалось, вся страна ликует, осчастливленная избранием себя в место жительства трижды прославленного и знаменитого. Где бы ни появлялся писатель – темпераментные, голосистые итальянцы снимают шляпы и поют Интернационал. Трогательно. Поблагодарил в газетах: «Меня глубоко волнуют симпатии, выраженные мне итальянским пролетариатом».
И кто только не перебывал у них в гостях из своих! Шаляпин! Бунин! Станиславский! Плеханов! Дзержинский! Богданов! Ленин!..
С Лениным Горький познакомился недавно и сразу полюбил этого маленького, лысого, картавого, но такого «матерого человечища». И Ленин полюбил Горького, хотя вообще к интеллигенции относился согласно ее достоинству.
– Что у нас есть? – любил повторять Владимир Ильич в гостях, потирая руки и подсчитывая потенциальную революционную силу в стране. – Во-пег’вых, во-втог’ых и в-тг’етьих – почти вся г’оссийская и даже миг’овая печать. А миг’овая печать находится в евг’ейских г’уках. Каждый уважающий себя евг’ей является пг’отивником Г’оссийской импег’ии, ибо никогда не пг’остит чег’ту оседлости и евг’ейские погг’омы, устг’аиваемые цаг’ским пг’авительством. Что еще? Вся интеллигенция и часть наг’ода; все земство, часть гог’одских дум, все ког’пог’ации: юг’исты, вг’ачи и так далее. Нам обещали поддег’жку социалистические паг’тии… За нас вся Финляндия… За нас угнетенная Польша, Кавказ и изнывающее в чег’те оседлости евг’ейское население…
– Еще студенчество, – глядя на Владимира Ильича преданными, влюбленными глазами, робко подсказала Наденька.
Она вместе с Натаном Григорьевичем, как и многие из их партийных соратников, оказалась на Капри. После свидания с Троцким Наденька тотчас отправилась в Москву (бедный Петруша поплелся за ней следом – никак от него не отвязаться!), нашла Натана и прямо подоспела к знаменитому Декабрьскому восстанию, подавленному проклятым Мином! Тогда же они познакомились и подружились с Горьким. Вместе покидали толстозадую Россию – «страну рабов, страну господ» (и Петр за ними хвостиком), но в Америку с Горькими не поехали, остались в Европе.
Все последнее время, когда она снова непредсказуемой прихотью судьбы соединилась с Натаном Григорьевичем, Наденька была необыкновенно, светло счастлива. (Петр волочился за ними повсюду в качестве фиктивного мужа, он жестоко и молча страдал от ревности и унижения, но разорвать эти противоестественные отношения был не в силах.) Натан же Григорьевич только пожимал плечами, нисколько не ревнуя и потешаясь над незадачливым супругом. Правда, при первой встрече он задал Наденьке неожиданный и совсем уж нескромный вопрос:
– А признайся, девочка, ты мне изменяла с этим своим дефективным Петрушей?
– Ну-у… Натан… – надула губки Наденька и шутливо набросилась на него: – А ты? А ты?!
– Ладно, ладно, девочка, не сердись, я ведь все понимаю. – И он по-отечески поцеловал Наденьку в головку. (О сыне они оба не вспоминали.)
А Наденька и не сердилась, только таяла от умиления. Она любила Натана, как и всех революционеров вообще, независимо от их пола; любила она сейчас и Владимира Ильича, одновременно невольно скашивая глаза в сторону дымящей папироской Андреевой. И ее, революционную подругу Горького, Наденька особенно любила. (Ах, хороша! А ведь давно за тридцать. И как держится! Королевой!) Наденьке до Андреевой далеко, но она старается запоминать и даже вечером, когда остается одна, копирует ее позы, жесты, интонации. А не пойти ли и ей в актрисы? – мелькает у нее шальная мысль. Ах, хорошо бы!.. Но как же тогда революция? Без нее, без Наденьки?.. Нет, нет, все отбросить! Ничто не сравнится с революцией! Все жертвы – ей! Все для нее! О чем это опять Владимир Ильич?
– Если мы не сумеем воспользоваться нашим истог’ическим пг’еимуществом, гг’ош нам цена, товаг’ищи, – продолжал Ульянов, играя в шахматы с Пешковым. – Вам шах, Алексей Максимович!
– Позвольте, Владимир Ильич… – загудел Пешков. – Мой конь… и моя тура…
– А тепег’ь мат! – счастливо залился смехом Владимир Ильич, потирая руки. – Мат, мат и мат! Если бы мы с вами иг’али на деньги, пг’ишлось бы вам, уважаемая Маг’ия Федог’овна, остаться на бобах!.. Кстати, Алексей Максимович, вег’немся к нашим баг’анам. Ваши литег’атуг’ные гоног’аг’ы побивают все миг’овые г’еког’ды. Поздг’авляю! С вашей стог’оны было непг’остительным легкомыслием довег’иться этой политической пг’оститутке Паг’вусу…
– Но, позвольте, Владимир Ильич, мне рекомендовали Парвуса как честнейшего человека, преданного партийца и…
Ильич снова захохотал. Смеялся он таким тоненьким, заливчатым, заразительным смехом, что поневоле все присутствующие, глядя на него, тоже начинали улыбаться и посмеиваться.
– Аг’хичестнейший! – заливался Владимир Ильич. – Укг’ал у паг’тии сто тг’идцать тысяч заг’аботанных вами маг’ок!.. Аг’хичестнейший!.. Мы тут посовещались с товаг’ищами и г’ешили пг’едложить вам в литег’атуг’ные агенты нашего хог’ошего дг’уга Натана Гг’игог’ьевича, не возг’ажаете?
– Ну отчего же, Владимир Ильич? Я с удовольствием… Если Натан Григорьевич берется за это дело…
– Бег’ется-бег’ется! – засмеялся Владимир Ильич. – За свои услуги он бег’ет всего двадцать пг’оцентов, шестьдесят пг’оцентов вы будете по-пг’ежнему отчислять на нужды паг’тии, остальное, Маг’ия Федог’овна, вам на булавки! – И Владимир Ильич снова заразительно засмеялся.
Мария Федоровна пыхнула сигареткой и кивнула.
– Пог’азительная у вас супг’уга, Алексей Максимович! Феномен! Позвольте, Маг’ия Федог’овна, вашу г’учку. – И Владимир Ильич с неподдельным чувством приложился к руке возлюбленной Горького.
Мария Федоровна была довольна. Вот уже несколько лет она – гражданская жена великого русского пролетарского (модного и в России, и за границей) писателя. «Не хуже Чехова!» – мстительно думала бывшая актриса Московского Художественного театра. Ее давнее соперничество с Книппер завершилось наконец своеобразной победой. Когда-то она и со Станиславским рассорилась из-за этой некрасивой артистки, которая почему-то нравилась обоим руководителям самого престижного московского театра. Мало того что Книппер доставались все лучшие роли, она не успокоилась, пока не получила в мужья Чехова! И хотя у самой Марии Федоровны был такой поклонник, о котором с придыханием говорили не только в театре, но и по всей Москве, первенство Книппер было нестерпимо! И когда Мария Федоровна на театральном балу получила от Горького в подарок напечатанную поэму «Человек» с надписью: у автора-де крепкое сердце, из которого она может сделать каблучки для своих туфель, – она поняла, что час ее торжества настал. Бедный Савва!.. Савву было, конечно, жаль, но… ведь он все понимает! Он не обидится. Он по-прежнему будет ей верен и покорен и по-прежнему будет давать деньги на… РСДРП. Ну и, конечно, самой Марии Федоровне. И даже выпишет на ее имя страховой билет в сто тысяч на случай своей смерти… Злые языки потом судачили, что, дескать, Савва вовсе не сам в помешательстве ума застрелился, а застрелил его партиец Леонид Красин, чтобы эти самые завещанные Марии Федоровне денежки поскорее в партийную кассу прибрать. Но – кто же это докажет?.. А деньги Мария Федоровна и в самом деле получила и партии отдала. Феномен!
Ни она, ни Горький не хотели разводиться – зачем? У обоих от законных браков было по двое детей (правда, пятилетняя дочь Алексея Максимовича неожиданно умерла, бедный Горький очень плакал!). А Екатерина Павловна и сынишка их Максимка приезжали, очень все подружились, и вообще все складывалось как-то по-домашнему мирно и хорошо.
Ужасно Марию Федоровну смешило, когда Ильич почтительно называл ее «товарищ Феномен», имея в виду, с одной стороны, ее необычайную женскую привлекательность, а с другой, ее преданность партии. Как будто эти вещи несовместимы! Как будто женский ум не способен соединить хорошенькую шляпку с коммунистическими идеями всемирного единения и братства пролетариата!
В один из приездов Ленина Горький читал ему свою «Исповедь», где герой – бывший крестьянин и бывший послушник Матвей, разочаровавшись в религии, решил, что отныне его бог – это пролетариат и что теперь он будет служить исключительно рабочему классу. А находившийся рядом Луначарский тут же и поддакнул, мол, вера в коммунизм должна стать «пятой религией» передового класса. Разумеется, Ленин сразу же поставил обоих на место, заявив, что нельзя придавать научному коммунизму статус религиозного опиума, а долг пролетарского писателя вообще заключается преимущественно в том, чтобы пополнять революционную кассу. (Разумеется, сказано это было в самой ненавязчивой и шутливой форме, так что Горький даже и не обиделся. Хотя в другом месте и в другое время Ильич жестко требовал от своих соратников: «Тащите с Горького сколько можете!»)
Вот и теперь Горькому захотелось прочесть близким друзьям свой новый рассказ.
Рассказ подходил к концу, Горький прослезился.
Все уже знали эту особенность великого писателя, и никто не попенял ему за излишнюю для революционера слезливость. («Над вымыслом слезами обольюсь», – сказал поэт, и кто ему возразит?) Только Владимир Ильич с одобрением заметил, что рассказ Горького «аг’хиталантлив!», и велел Марии Федоровне его тотчас же перевести на немецкий, французский и итальянский и, пока есть на Горького спрос, поскорее «в печать! в печать!». (А денежки соответственно – «в паг’тийную кассу»!)