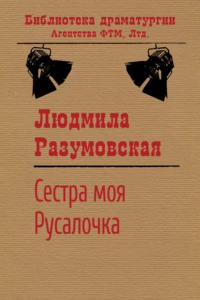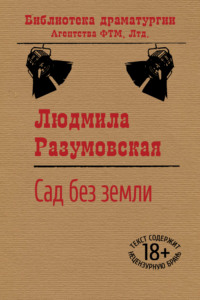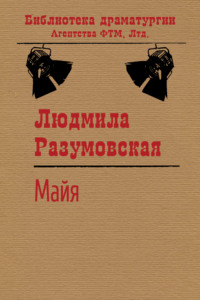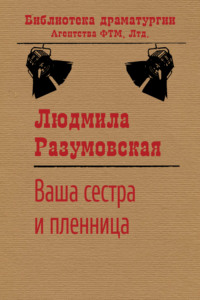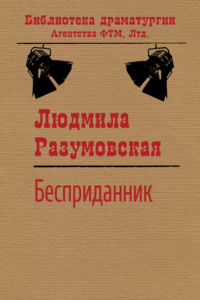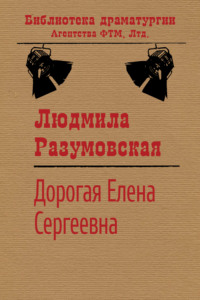Полная версия
Апостасия. Отступничество
В центре древнего Киева творилось что-то невообразимое. Казалось, весь город вышел на улицы и, пасхально облобызавшись, мгновенно оделся в кумач. Мелькали красные юбки, красные шарфы, красные розетки, красные платочки, красные цветы, с балконов свисали красные ковры, в воздухе реяли красные флаги. На недоуменно столбенеющих полицейских набрасывались со смехом и, празднично примиряясь, пытались нацепить и на их презренный мундир красный символ свободы, а они конфузливо отворачивались бормоча:
– Господа, что вы делаете? Не положено, господа…
Да как же не положено, когда свобода! И господа с веселым, беззлобным гоготом шли дальше, пьянея от всеобщего дерзкого веселья, от того, что никто с этого дня не смеет нанести свободной личности никакого вреда – ни этот полицейский, ни начальство, ни сам добровольно ограничивший себя царь!
Но на это жизнерадостное, бескорыстное, детское веселье стала вдруг накидываться словно бы какая невидимая черная тень, в легкомысленное веселье толпы будто плеснули гнилыми помоями, и ее радужно светящиеся нотки стали прорезывать совсем иные, мутные и озлобленные. На остановившиеся трамваи взбирались какие-то люди и, размахивая кумачом, что-то выкрикивали, словно выплевывали в толпу, беспощадно-ругательное и угрожающее, и ничего нельзя было разобрать, кроме одного настойчивого и все покрывающего требования «долой!».
«Да зачем же теперь „долой“, когда всем такая свобода и радость?» – еще добродушествовала толпа. Кого теперь-то «долой!», когда сам царь отвесил полной мерой своему народу чаемые свободы слова, собраний, совести и прочее, и прочее, и прочее… Когда царь обещал думу! Совет с лучшими, выбранными из народа людьми! И не только совет, но и послушание ей! Ибо без думы и закона теперь царю уже не принять! Вот как добровольно умáлил себя царь! И за это ему полное «ура!», а не «долой!».
Ан нет! Его-то, оказывается, и долой! Ибо он-то и есть первейший враг и злодей! И обманщик! А все свободы – для видимости! Для пускания пыли в глаза! И потому мы все равно требуем! И чтобы немедленно! Учредительное собрание! И всем политическим скорее возвратиться домой!
А-а-а! Вот оно что!.. Значит, царская свобода – для бомбистов?.. Так, значит, приходится понимать, что струсил царь?..
А какой-то человек, появившийся на думском балконе, вдруг ухватился за царскую корону и стал остервенело отрывать ее от решетки. Наконец ему удалось осуществить задуманное. Подняв высоко, он водрузил себе царскую корону на голову и, кривляясь, закричал:
– Теперь я царь!
Потом снял с головы и, плюнув на нее, швырнул вниз. Корона грохнулась наземь и покатилась по каменной мостовой. Многотысячная толпа одновременно ахнула и на мгновение замерла, и в этой жуткой тишине вдруг раздался истошный бабий вопль:
– Жиды сбросили царскую корону!..
С молчаливым ужасом приняла этот вопль толпа и ответила сдержанным возмущенным гулом.
А на думский балкон выскочил другой, маленький, всклокоченный человек и что есть силы завопил:
– Люди добрые! Жиды изорвали все царские портреты! Глядите! Что они делают! Глаза! Императорам российским! Ножами! Православные! Да куда же вы смотрите!
Толпа взревела и бросилась в думу.
Конная часть, до сей поры в оцепенении стоявшая в стороне и не мешавшая изъявлению народной радости по поводу конституции, наконец очнулась и, стараясь не допустить эксцессов, стала теснить в сторону негодующих граждан, желавших прорваться в думу для справедливого отмщения. Тогда из самой думы прогремело несколько выстрелов по военным. Военные встрепенулись и дали несколько устрашающих залпов по думе. Толпа стала разбегаться. Успевшая прорваться в думу часть народа была потрясена устроенным в ее стенах шабашем. В актовом зале все портреты российских царей и императоров были сорваны со стен, изорваны в клочья, у многих выколоты глаза, а на некоторых были оставлены человеческие испражнения. Участники царского погрома куда-то успели испариться, и ворвавшаяся толпа, не найдя предмета для выплеска своей ярости, устремилась из думы к окраинам Киева, где проживало еврейское население…
Военные сдерживали разбушевавшиеся «конституционные» страсти как могли.
Вечером папочка, как обычно, громыхал речами. Глебушка сидел притихший, не сознаваясь, что тоже участвовал в «праздновании конституции». Елизавета Ивановна уже давно ни в чем не перечила мужу, сознавая всю бесполезность словопрений, Павел также не возражал отчиму, памятуя матушкину фразу о смирении. Из домашних главе семейства смела противоречить только одна их старая кухарка Авдотья, прислуживавшая еще девчонкой батюшке Тараса Петровича, отцу Петру. Подавая вечером ужин, она не переставала бурчать под нос насчет «жидов», которые совсем обнаглели, и надо же! Один такой наглец посмел напялить на свою наглую рожу царскую корону! (Авдотья тоже была в тот час у городской думы.) И что же это они себе позволяют! Эдак они и в самом деле, что ли, мечтают захватить власть над Россией, один, мол, так и кричал: теперь мы будем вами править! Мы дали вам Бога, дадим и царя! И куда это смотрит наш царь-государь? И прочее свое глупое, деревенское, бабье.
Тарас Петрович, питавший слабость, как и большинство русской интеллигенции, к угнетенному еврейскому племени, не выдержал и на этот раз обратил весь свой праведный гнев на представительницу всегда защищаемого им простого народа.
– Вы, Авдотья Никитишна, – назвал он ее по имени-отчеству и на «вы», что делал только в исключительных случаях наивысшего недовольства старой кухаркой, – живете в интеллигентной семье, а тоже городите черт знает что! «Жиды! Жиды!» – передразнил он Авдотью. – И слово-то какое мерзкое придумали – «жиды»! Чем это вам «жиды» насолили?!
– Дак как же, батюшка, их называть, когда они жиды и есть? Я, положим, русская, кацапка, с-под Курска, а они – жиды, уж не знаю, откуда такие явились. Бабы на базаре говорили – с самого, мол, Польского царства, еще при матушке-Екатерине. Уж на что умная была государыня, а тут маху дала, проморгала. На кой ляд нам были эти поляки да жиды!
– Наитёмная вы женщина, Авдотья Никитишна! – задрожал от гнева профессор. – Другому с такими мыслями я бы и руки не подал, а с вас – что взять. Коснейте в своем невежестве. Вот он, наш простой русский народ, о котором мы все так печемся! Глядите! Примитивус петикантропус!
– А ты, Тарас Петрович, – назвала, в свою очередь, Авдотья профессора на «ты», – больно-то не заносись, чай, сам-то не княжеских кровей, батюшка-то твой отец Петр всю жизнь лаптем щи хлебал, даром что поп.
Такой дерзости Тарас Петрович не смог простить даже представительнице простого народа.
– Авдотья! – крикнул он, выходя из себя. – Замолчи сейчас же! Старая ты дура! И не смей в моем присутствии рассуждать! Тупая твоя голова!
– Мне что… – отвечала будто и довольная такой отповедью кухарка. – Мое дело – господ накормить… А что жиды царя спихнуть хотят, так это вам каждый на базаре скажет…
Прищурившись, Глебушка через стол смотрел, как плавилась и ярилась папочкина круглая лысая голова, как заалели маковым цветом щеки профессора и покраснел нос, как собрались на лбу бисеринки пота и задрожал подбородок, как возмущенно подпрыгивало на переносице золотое пенсне и уже разевался, как у выброшенной из воды рыбы, готовый к гневной отповеди рот… Ой, что сейчас будет!.. И Глебушка зажмурился. Но Тарас Петрович, так и не найдя истребительных слов для сей негодной старухи, только махнул рукой и, выходя из-за стола, от всего сердца швырнул салфетку.
Брат Павел, едва сдерживая улыбку, тупился в свою тарелку. Мамочка терпеливо делала вид, что ничего особенного не происходит. И только Авдотья, убирая посуду со стола, не могла сдержать ехидной своей и победительной ухмылки.
* * *А в эти же дни Лева Гольд писал из Одессы своему товарищу в Петербурге:
«…Говоришь, подлецу Трепову удалось не допустить беспорядки в столице? Что ж, за это ему не миновать свинцового подарка от наших товарищей. У нас не то, революционная Одесса не подкачала. Университет забастовал с начала сентября, профессора все (почти) были за нас (один даже передал на самооборону сто пятьдесят пистолетов!). А тем (единицам), кто осмелился быть против, объявляли полную обструкцию и прогоняли из аудиторий. На сходки сбегалось столько публики, что приходилось устраивать по нескольку в день, чтобы все поучаствовали. Эсер Тэпер (из наших, ты его должен знать) сказал выдающуюся речь против самодержавия. Да и другие тоже. А в октябре прекратили занятия вообще все учебные заведения, включая гимназии. Причем желторотые гимназисты оказались самыми большими радикалами – ха-ха!.. Собрали колоссально денег на вооруженное восстание. А восемнадцатого октября, в день объявления Манифеста, дурак Каульбас приказал войскам не высовывать носа на улицы, чтобы дать возможность беспрепятственно порадоваться населению. Тут уж мы на свободе порадовались вовсю! Представь: наши поймали дворнягу, нацепили ей на голову „царскую корону“, а к хвосту приладили триколор! Собака бегала как ненормальная и мела русским флагом одесские улицы. Наши смеялись до упаду, а у тех только морды багровели. Тут же производили сбор денег „на избиение царя“, а в думе изорвали большой портрет Николашки. С проезжающих на панихиду священников сбили шапки, а уж городовым от нас досталось – будут помнить! Многих поколотили, а кого и совсем отправили на тот свет. Не удалось, правда, вечером заставить рабочих объявить забастовку, пробовали даже стрелять в них, но их было больше, и они разогнали наших. А на следующий день вышли толпы рабочих, к которым привязывалась всякая дрянь с портретами Николашки, флагами, иконами и „Боже, царя храни“. Недалеко от Соборной площади наши стреляли и убили какого-то мальчишку, несшего икону. Вообще наши стреляли из-за каждого угла и очень удачно, так что поубивали многих, ну и, конечно, тут уж они рассвирепели и начался погром…»
* * *А в Петербурге в это же самое время Сергей Юльевич Витте также раздражался до крайности.
Дал ему царь Николай полный карт-бланш на проведение реформ, поверив, что долгожданные свободы принесут наконец мир и успокоение в стране. Да Витте и сам в это верил свято. Общество жаждало вступить на европейский конституционный путь – ну хорошо, слава Тебе, Господи, убедил царя, вступаем, чего ж вам еще?
А еще, на другой день после манифеста, развязно требовали приглашенные к Витте газетчики: удалите войска! Объявите немедленную амнистию политзаключенным! Отмените смертную казнь бомбистам! Иначе забастовки взорвут всю страну, и вообще, если угодно знать, студенты повсюду уже собирают деньги на гроб Николаю Второму!
Глаза у новоиспеченного премьер-министра все больше округляются, дрожит подбородок, он почти задыхается от неслыханной наглости пришельцев, которым только что чуть не заискивающе подавал руку, и, путаясь, не находит правильных слов:
– Г-господа… Дайте же мне передышку… помогите… Царь добровольно уступил… Будем же благодарными…
– Никакой передышки царскому правительству не дадим! И никакой благодарности от нас не ждите. Мы вообще не верим никакому вашему правительству! Пока не удовлетворите законные требования революционного народа, ни одна из газет не выйдет! И чтобы немедленно господина Трепова из генерал-губернаторства взашей!
Боже мой, да кто же это громче всех распаляется? Проппер! Издатель «Биржевки» Проппер! Невесть откуда явившийся в Петербург голодранец, которому он, Витте, всячески способствовал и помогал!..
– Вы обезумели, господа… Я всегда стоял за евреев… но это… невозможно… – пробормотал бледный Сергей Юльевич. «Ступайте вон!» – хотелось заорать премьер-министру, затопать ногами, запустить в развязно стоявших перед ним господствующих представителей прессы графином. И еще грознее, и еще пронзительнее: «Немедленно! Все вон!» Но он сдержался и только бессильно и совсем тихо произнес: – Я вас больше не задерживаю, господа.
Презрительно переглянувшись, господа откланялись и с нескрываемым чувством превосходства удалились.
«Надо стрелять!.. Надо всех стрелять… надо вешать!» После ухода газетчиков Витте сидел, зажав ладонями виски, и в его либерально-демократической голове впервые засверлила спасительная мысль о необходимости антиреволюционного насилия.
А в Москве, как и в других городах империи, в это самое время проходили всерадостные банкеты, на которых шумно и вдохновенно праздновалась победа прогрессивных сил над исчерпавшим себя, гнилым самодержавием. Главного бенефицианта, умнейшего Павла Николаевича Милюкова, председателя партии кадетов, прибывшего из северной, зыбкой столицы в хлебосольную, любвеобильную, праздно-сытую, вседовольную Москву, качали усердно, так что у качавших мужей вспотели лбы и подмышки, и, изрядно подустав, качавшие поставили его на стол и приказали говорить победительную речь.
Павел Николаевич откашлялся и, взглянув на товарищей вприщур из-под очков, ошарашивающе заявил:
– Господа, я считаю, никакой победы нет и праздновать еще рано.
Пронесся общий вздох, похожий на стон.
– Ну да, самодержавие отступило, – продолжал также, умно прищурившись, профессор истории, – но оно еще крепко сидит на троне. И хотя трон зашатался… Впрочем, пусть он стоит. Без трона, господа, в этой стране нельзя. Но контроль над троном… – Тут Павел Николаевич еще раз хитро взглянул из-под очков на единомышленников, застывших в ожидании завершения сакраментальной мысли их лидера. – Контроль над троном должен быть в руках… народа. В наших руках, господа!
Что тут поднялось! Кричали, хлопали, топали и снова качали. Контроль над троном понравился всем. Контроль над троном означал, что вот все тут собравшиеся – присяжные поверенные, адвокаты, профессора, журналисты и издатели, чиновники и прочая образованная публика – наконец-то станут выше царя!
– Да здравствует законодательная дума! – закричал кто-то из банкетирующих.
– Да здравствует партия кадетов! – подхватили голоса. – Да здравствует Павел Николаевич Милюков, ура!
Павел Николаевич все еще стоял на столе и, щурясь и раскланиваясь во все стороны, улыбался грядущему неминуемому контролю над троном.
* * *Царский манифест яблоком раздора разделил страну на две неравные части: тех, кто рвался сокрушить Русское государство, и тех, кто, как мог и умел, пытался его защитить. Вторых было больше. Несоизмеримо больше. Пока больше. С хоругвями, с иконами, раздраженный неслыханными наглыми оскорблениями, стрельбой и убийствами, шел простой народ против тех, кто оскорблял, унижал и порочил его тысячелетние святыни, его веру и любовь ко Христу, – против всех революционеров – разрушителей Отечества. И так было не только в Киеве и Одессе, так было по всей стране. И это было началом гражданской войны, той разгромившей национальную Россию войны, которую инфернально накликал спустя десять лет Ульянов-Ленин.
Миллионы против сотен. Большинство против меньшинства. Но эти миллионы еще не знали, что приходит время торжества всякого рода меньшинств. Что меньшинство возьмет в недалеком будущем верх и начнет невиданный в истории духовный и телесный террор над побежденным большинством.
Эти миллионы простых (черных) людей, выступившие в защиту святых своих идеалов, назовут себя черносотенцами, а противники их сумеют сделать так, что это имя навсегда станет в глазах общества позорной кличкой, и когда русский человек не побоится признать себя любящим Родину патриотом, тут же ему и влепят за это пулей в лоб: «черносотенец» тире «погромщик»! (А чуть позже, потом, «шовинист!», а потом наконец и «фашист!».) Это будет означать то, что в «приличном» обществе вам не подадут руки.
Так отучали (и отлучили) русских людей от любви к Богу, Царю и Отечеству.
12
Меж двух озер, Бородаевским и Паским, на высоком холме стоит чудо – белый монастырь в честь Рождества Богородицы, в пятнадцатом веке основанный сподвижником Кирилла Белозерского преподобным Ферапонтом, да через сотню лет Дионисием с сыновьями всего за месяц расписанный. А меж двух озер синим лебедем плывет пасхально-радостная, с белыми лилиями да желтыми кувшинками нарядная речка Паска. Бережки песчаные – заходи, бери воду хоть человек, хоть скотинка, пей-купайся. Впрочем, для пития источник святой от самогó преподобного сохранен, еще и вкуснее, целебнее. Напротив монастыря, на другой стороне Паски, сельцо небольшое, тихое. А вокруг – поля, луга, леса нетронутые, безграничные, со всеми дарами Божиими: птицей, зверьем, ягодой… Стоит себе градом Китежем, раем земным пять веков Ферапонтово, а сколько раю тому на земле стоять, про то один Господь ведает.
Вот в какую глушь несусветную сослали Наденьку с ее молодым супругом – еле добрались. На Покров снег, как уж исстари полагается, выпал, да в день и растаял, одна каша в пути. Вспоминались Наденьке европейские дороги мощеные, ухоженные, жаловалась Петру, что все внутренности у нее растрясло, хоть выходи из телеги да пешком топай – меси пудовую грязь. А солдат, что их сопровождает, как ни в чем не бывало, покуривает, с мужичком-возчиком про какую-то свою «жисть» беседует, ничего не понимают темные, что за их счастье бьются такие, как Наденька, светлые головы, – ох, тоска! Но Наденька не унывает и она – как солдат революции – везде на боевом посту! И напрочь дремучих пробует просвещать, да только слишком отстал народ (вздыхает: не навсегда ли?) от передовых звездных мыслей.
Приехали!.. Огляделись на невзрачное место. Унылая пора – поздняя осень, ни то ни се, голо, пасмурно, сыро. Да светит ли когда здесь и солнышко? И у кого ж тут избу чистую, чтобы без клопов да тараканов, снять? А вот у самого доброго хозяина Матвея Васильича, вон их дом, аккурат за северной оградой монастыря, где все батюшки местные проживают, Поповка и называется.
Ну, слава Богу, хоть изба порадовала. Просторно, чисто. Печка русская на полкомнаты жаром пышет. Половички пестрые домотканые, стол вышитой скатертью покрыт, лавки по стенкам выскобленные. В красном углу иконы потемневшие (ну, это лишнее!). Кровать новая, городская, металлическая, с горкой подушек, белым покрывалом застеленная… «Ой!» – спохватилась вдруг Наденька, кровь прилила к щекам. Кровать-то одна! Как же они с фальшивым мужем Петром спать станут? Иль у хозяйки спросить еще матрасик? Да ведь стыдно и спрашивать такое! Как это, подумают, муж с женой врозь спят? О-о! Вот еще непредвиденность! Надо с Петром посоветоваться, а впрочем… Петр ждет не дождется своего часа, влюблен по уши! Что уж теперь, сама напроказила – венчаны! Да и Петруша… такой симатичный, такой милый… А Натан?.. А Натан – это святое. Это на всю оставшуюся жизнь. В светлом потом.
Так и порешила Наденька: с Петром, так уж и быть, как положено мужу и жене, временно спать, а Натан Григорьевич – за пределами суетного сего жития, это – святое, сокровенное, на веки вечные.
И покатились дни. Сперва медленно, а потом все быстрее, все шибче. И не так уж уныла стала казаться в Ферапонтове с молодым мужем жизнь. Даже весело. Нестарая хозяйка – красивая Наталья кормила сытно, вкусно, прибирала комнату чисто, улыбалась ласково. Наденьке и пожаловаться грех: молодые спали, гуляли, пили, ели да похваливали. Сам хозяин ни во что ихнее не мешался и жил молча. Детей – помехи молодым – не было, о чем хозяйка, не скрываясь, скорбела.
В ноябре снег лег плотно. Ударили ранние морозы, наладился санный путь. Раз в неделю ездили за пятнадцать верст в Кириллов отмечаться в полиции – все развлечение. А потом и с кирилловскими ссыльными завели дружбу – еще веселее. То Наденька с Петром к ним нагрянут, то новые знакомцы – сюда: чаи пьют, газетные новости обсуждают да мечтают о революции. А если уж совсем станет скучно, идут к местному батюшке, отцу Валериану, послушать его деревенские байки да покушать матушкиных пирогов с капустой, да грибами, да рыбой (отменно пекла попадья!).
– И как это вы, отец Валериан, можете верить в бессмертие души, воскресение Лазаря и прочую подобную чепуху! – обычно начинал свою пропагандистскую беседу со священником Петр.
– Так ведь, батюшка мой, – ответствовал поп, лукаво поглядывая на своих новых прихожан (Наденька с Петром иногда заходили от скуки на пять минут в храм), – человек может веровать в любую глупость. Хотя бы и в ту, например, что Бога нет. А как мы не только веруем, но и знаем…
– Да как же вы можете это знать? – вскипал Петр. – Наука! Наука бессильна доказать бытие Божие! А вы говорите: знаю!
– Наука – бессильна… это верно. А Бог силен являть Себя и такому немощному и грешному сосуду, каковым является сотворенный Им человек.
– Вы имеете в виду себя? – съехидничал Петр.
– «Вкусите и видите, яко благ Господь», – сказал царь Давид псалмопевец. Значит, Господа можно, как бы это… вкусить. Познать… Да-с. Опытно. Каждому в принципе возможно…
Но Наденьке неинтересно богословствовать, и она перебивает батюшку:
– А что, отец Валериан, не скучно вам в этом медвежьем углу?
– Мне скучать матушка моя не дает да поповны. Пятерых Бог послал. Всех замуж поотдавать, а у кого на суженого нет судьбы, ту на монастырские хлеба определить. Слыхали, поди, Синод повелел снова у нас монастырь открыть. Женский. Уж и мать-настоятельница из Леушинского к нам прибыла, а с ней сестры.
– Патриарх Никон у вас тут, что ли, в монастыре отбывал срок? – спросил Петр.
Батюшка погладил бороду и не спеша ответил:
– Да вот, батюшка мой, пришлось и патриарху нашему по злобе сатанинской страдание здесь принять. Видели остров каменный в виде креста посереди озера, нет? Ну, как снег сойдет, поглядите. Своими ручками низложенный патриарх десять лет камни на себе таскал, в озеро на лодке свозил. Больно уж прогневал он Алексея-то Михайловича, царя Тишайшего.
– Так вы считаете, Никон был прав?
– В чем?
– Ну-у… – замялся Петр. – А из-за чего у них весь сыр-то-бор?
– Это долгий разговор, из-за чего сыр-бор… А только я так понимаю, если бы не Никон, был бы у нас в России и посейчас патриарх.
– Это почему? – удивленно вскинула бровки Наденька.
– Превзойти захотел, – вздохнул отец Валериан. – Саму государеву власть. Оно-тко, конечно, власть духовная превыше всего на свете стоит. Однако же и Господь сказал: «Царство Мое не от мира сего». Не властвует Христос над царями мира сего грешного, и Сам для Себя отверг власть мирскую. А патриарх Никон именно ее-то и возжелал. Пока царь во младенцах ходил, послушно под уздцы в неделю Ваий осляти водил, а на осляти Никон во образе Самого Христа восседал. Вот она, симфония-то, на краткое время и вознеслася на небеси осанной. А как возмужал царь, горько ему стало Никоновы причуды, да ругательства, да гордыню, да властолюбие терпеть. Видано ли дело, патриарх сам своей волей с Московского патриаршего престола сошел, а другого выбирать – не смей! И есть патриарх на Руси, и нет его – вот диво! А как собрал Алексей Михайлович Собор в одна тысяча шестьсот шестьдесят шестом году решить спор, так греки соединенно с нашими митрополитами единогласно Никона и осудили, из патриаршества и священства извергли, а вопрос о приоритетах полностью решили в пользу власти светской, царевой, значит… Хоть и не без корысти суд свой произвели, однако уж с тех пор так.
– А почему вы говорите, если бы не Никон, то у нас и сейчас был бы, по-вашему, патриарх?
– А кто был наследником Алексея Михайловича, помните?
– Кажется, Федор… – Петр вопросительно взглянул на Наденьку.
– Феодор, сынок его от первой супруги, раненько скончался. Как соловецкую братию, не пожелавшую новую обрядность принять, по его приказу за ребра, яко овечек, на крюках подвесили, так и помре. А после него братец его Петр Алексеевич, по прозванию Великий, что от другой жены, Натальи Кирилловны Нарышкиной, царствовал. Так?
– Ну так…
– А как вы думаете, нужен Петру Великому какой-нибудь еще патриарх, который стал бы власть делить да за первенство власти с царем бороться? Оно, положим, такие Никоны раз в сто лет родятся, но уж тут царь обезопасить себя захотел. И не только себя, но и царскую власть вообще. От любых поползновений будущих Никонов. А посему патриаршество взял да своей царской волей, ничтоже сумняшеся, и упразднил! Уж хорошо ли, нет ли – судите сами. Вот, милостивые мои государи, и весь вам мой сказ, – заключил батюшка и громким голосом воззвал: – А что, матушка Марья, готовы ли твои пироги? Мы уж тут, чай, с молодыми оголодали!
Вошла румяная, круглая матушка с подносом.
Отец Валериан взглянул на разносолы и вседовольно произнес:
– Оханьки! Опять, матушка моя, каяться в гортанобесии искушаешь!
– Кушайте, кушайте во славу Божию. Сейчас нет поста, кушайте, – улыбалась попадья.
Отец Валериан благословил трапезу. Петр и Наденька, не перекрестив лба, быстренько уселись за стол. Матушка, украдкой вздохнув, вышла из комнаты.
– Я, отец Валериан, как вы понимаете, не признаю ни царя, ни Церкви, – сказал Петр, набивая матушкиным пирогом рот. – Один удав съел другого, вот и все. Я имею в виду Никона и Алексея.