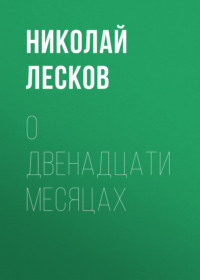Полная версия
Неразменный рубль: Повести и рассказы
– Ну, и с Богом, коли так, – отвечал он крестьянам, протянул мне руку и, долго посмотрев мне в глаза, сказал:
– Что, брат?
– Что?
– Какову штучку-то отколол?
– Повесился.
– Да; сказнил себя. Ты от кого узнал?
Я рассказал, как было.
– Умница баба, что спосылала за тобою; я, признаться, и не вздумал. Да ты еще-то что знаешь? – понизив голос, спросил Александр Иванович.
– А еще я ничего не знаю. Разве еще что есть?
– Как же! Он тут, брат, было такую гармонию изладил, что унеси ты мое горе. Поблагодарил было за хлеб за соль. Да и вам с Настасьей Петровной спасибо: одра этакого мне навязали.
– Что же такое? – говорю. – Сказывай толком!
А самому страсть как неприятно.
– Писание, братец, начал толковать на свой салтык, и, скажу тебе, уж не на честный, а на дурацкий. Про мытаря начал, да про Лазаря убогого, да вот как кому в иглу пролезть можно, а кому нельзя, и свел все на меня.
– Как же он оборотил на тебя?
– Как?.. А так, видишь ли, что я в его расчислении «купец – загребущая лапа» и гречкосеям надо меня лобанить.
Дело было понятно.
– Ну, а что же гречкосеи? – спросил я Александра Ивановича, смотревшего на меня значительным взглядом.
– Ребята, известно – ничего.
– То есть начистоту, что ли, всё вывели?
– Разумеется. Волки! – продолжал Александр Иванович с лукавой усмешкой. – Всё, будто не смысля, ему говорят: «Это, Василий Петрович, ты, должно́, в правиле. Мы теперь как отца Петра увидим, тоже его об этом расспрошаем», а мне тут это все больше шутя сказывают и говорят: «Не в порядках, говорят, все он гуторит». И прямо в глаза при нем его слова повторяют.
– Ну, что ж дальше?
– Я было это хотел так и спустить, будто тоже не разумею; ну, а теперь, как такой грех случился, призывал их нарочно будто счеты поверить, да стороною им загвоздку добрую закинул, что эти, мол, речи пустотные, их надо из головы выкинуть и про них крепко молчать.
– А хорошо, как они это соблюдут.
– Небось соблюдут, со мной не дурачатся.
Мы вошли в избу. На лавке у Александра Ивановича лежали пестрая казанская кошма и красная сафьяновая подушка; стол был накрыт чистой салфеткой, и на нем весело кипел самовар.
– Что это ему вздумалось? – проговорил я, усевшись к столику вместе с Свиридовым.
– Поди ж ты! С большого ума-то ведь чего не вздумаешь. Терпеть я не могу этих семинаристов.
– Третьего дня вы с ним говорили?
– Говорили. Ничего промеж нас не было неприятного. Вечером тут рабочие пришли, водкой я их потчевал, потолковал с ними, денег дал, кому вперед просили; а он тут и улизнул. Утром его не было, а перед полденками девчонка какая-то пришла к рабочим: «Смотрите, говорит, вот тут за поляной человек какой-то удавился». Пошли ребята, а он, сердечный, уж очерствел. Должно, еще с вечера повесился.
– А больше ничего неприятного не было?
– Ничегошеньки.
– Может, ты не сказал ли ему чего?
– Еще что выдумай!
– Письма он никакого не оставил?
– Никакого.
– В бумагах ты у него не посмотрел?
– Бумаг у него, кажется, и не было.
– А все бы посмотреть, пока полиция не приехала.
– Пожалуй.
– Что у него сундучок, что ли, был? – спросил Александр Иванович у стряпки.
– У покойника-то? – сундучок.
Принесли маленький незапертый сундучок. Открыли его при приказчике и стряпке. Ничего тут не было, кроме двух перемен белья, засаленных выписок из сочинений Платона да окровавленного носового платка, завернутого в бумажку.
– Что это за платок такой? – спросил Александр Иванович.
– А это как он, покойник, руку тут при хозяйке порубил, так она ему своим платочком завязала, – отвечала стряпка. – Тот он самый и есть, – добавила баба, посмотрев на платок поближе.
– Ну, вот и все, – проговорил Александр Иванович.
– Пойдем посмотреть на него.
– Пойдем.
Пока Свиридов одевался, я внимательно рассмотрел бумажку, в которой был завернут платок. Она была совершенно чистая. Я перепустил листы Платоновой книги – нигде ни малейшей записочки; есть только очеркнутые ногтями места. Читаю очеркнутое:
«Персы и афиняне потеряли равновесие, одни слишком распространивши права монархии, другие – простирая слишком далеко любовь к свободе».
«Вола не поставляют начальником над волами, а человека. Пусть царствует гений».
«Ближайшая к природе власть есть власть сильного».
«Где бесстыдны старики, там юноши необходимо будут бесстыдны».
«Невозможно быть отлично добрым и отлично богатым. Почему? Потому что кто приобретает честными и нечестными способами, тот приобретает вдвое больше приобретающего одними честными способами, и кто не делает пожертвований добру, тот менее расходует, чем тот, кто готов на благородные жертвы».
«Бог есть мера всех вещей, и мера совершеннейшая. Чтобы уподобиться Богу, надо быть умеренным во всем, даже в желаниях».
Тут есть на поле слова, слабо написанные каким-то рыжим борщом рукой Овцебыка. С трудом разбираю: «Васька глупец! Зачем ты не поп? Зачем ты обрезал крылья у слова своего? Не в ризе учитель – народу шут, себе поношение, идее – пагубник. Я тать, и что дальше пойду, то больше сворую».
Я закрыл Овцебыкову книгу.
Александр Иванович надел свой казакин, и мы пошли на поляну. С поляны повернули вправо и пошли глухим сосновым бором; перешли просеку, от которой начиналась рубка, и опять вошли на другую большую поляну. Здесь стояли два большие стога прошлогоднего сена. Александр Иванович остановился посреди поляны и, вобрав в грудь воздуха, громко крикнул: «Гоп! гоп!» Ответа не было. Луна ярко освещала поляну и бросала две длинные тени от стогов.
– Гоп! гоп! – крикнул во второй раз Александр Иванович.
– Гоп-па! – отвечали справа из леса.
– Вот где! – сказал мой спутник, и мы пошли вправо. Через десять минут Александр Иванович снова крикнул, и ему тотчас отвечали, а вслед за тем мы увидели двух мужиков: старика и молодого парня. Оба они, увидя Свиридова, сняли шапки и стояли, облокотясь на свои длинные палки.
– Здорово, христиане!
– Здравствуй, Ликсандра Иваныч!
– Где покойник-то?
– Тутотка, Ликсандра Иваныч.
– Покажите: я не заприметил что-то места.
– Да вот он.
– Где?
– Да вот он!
Крестьянин усмехнулся и показал вправо.
В трех шагах от нас висел Овцебык. Он удавился тоненьким крестьянским пояском, привязав его к сучку не выше человеческого роста. Колени у него были поджаты и чуть не доставали до земли. Точно он на коленях стоял. Руки даже у него, по обыкновению, были заложены в карманы свитки. Фигура его вся была в тени, а на голову сквозь ветки падал бледный свет луны. Бедная это голова! Теперь она была уже покойна. Косицы на ней торчали так же вверх, бараньими рогами, и помутившиеся, остолбенелые глаза смотрели на луну с тем самым выражением, которое остается в глазах быка, которого несколько раз ударили обухом по лбу, а потом уже сразу проехали ножом по горлу. В них нельзя было прочесть предсмертной мысли добровольного мученика. Они не говорили и того, что говорили его платоновские цитаты и платок с красною меткою.
– Вот тебе и все: был человек, как его и не было, – сказал Свиридов.
– Ему гнить, а вам жить, батюшка Ликсандра Иваныч, – проговорил старичок заискивающим сладеньким голоском.
Он тоже говорил, что ему гнить, а Александрам Ивановичам жить.
Душно тут было, в этом темном лесном куточке, избранном Овцебыком для конца своих мучений. А на поляне было так светло и отрадно. Месяц купался в лазури небес, а сосны и ели дремали.
Париж.
28-го ноября 1862 г.
Житие одной бабы
(Из гостомельских воспоминаний)
Викентию Коротынскому
Ивушка, ивушка,Ракитовый кусток!Что же ты, ивушка,Не зелена стоишь?– Как же мне, ивушке,Зеленой быть?Срубили ивушкуПод самый корешок.Русская песняЧасть первая
IМаленький мужичонко был рюминский Костик, а злющий был такой, что упаси Господи! В семье у них была мать Мавра Петровна, Костик этот самый, два его младшие брата, Петр и Егор, да сестра Настя. Петровна уж была-таки древняя старуха, да и удушье ее все мучило, а Петька с Егоркой были молодые ребятки и находились в ученье, один по башмачному мастерству, а другой в столярах. Оба были ребятки вострые и учились как следует. Дома оставалась только сама Петровна с Настей да с Костиком. Все они в ту пору были еще крепостными и жили в господском дворе. Панок их был у нас на Гостомле из самых дробных; всего восемнадцать душ за ним со всей мелкотой считалось, и все его крестьяне жили тут же в его дворе на месячине, – земли своей не имели. Житье было известно какое – со всячинкой; но больше всего донимала рюминских крестьян теснота. Пускай правда, что мужик не привык к кабинетам – всё у него в одной избе, – да по крайности там уже всё своя семья, а тут на рюминском дворе всего две избы стояли, и в одной из них жило две семьи, а в другой три. Теснота, ссоры промеж себя, ябеда с сердцов друг на друга, сквернословие, – такое безобразие шло, что не приведи Бог! Дети тут так и росли в этой срамоте, и Костик тут вырос, глядючи, как покойный отец сухотил весь век свою жену, пока не вогнал ее в удушье. А Мавра Петровна отличная была женщина. Она была взята из однодворок и пошла в крепость с нужды горькой, потому что у нас в округе иные вольные в ту пору еще хуже крепостных живали: бедность страшная. Старик Минаич рассказывал, что в молодые годы Петровна была первая красавица по всему Труфанову, и можно этому верить, потому что и в пятьдесят лет она была очень приятная старуха: росту высокого, сухая, волосы совсем почти седые, а глаза черные, как угольки, и такие живые, умные и добрые. Доброте ее меры не было: всем она все прощала. Муж ее тиранил, увечил, и пьяница к тому же был; а она, как овечка Божия, все ему угождала, и слова от нее на мужа никто не слыхал. Все, бывало, его ублажает: «Антонович да Антонович, такой-сякой немазаный, утихомирься ты, перекрестись, испей водицы!» Ни жалобы, ни свары от нее он никогда не видал. А как помер ее муж, так она его оплакала горькими слезами и на могилку все ходила и голосила голосом: «Касатик ты мой миленький! на кого же ты меня покинул? Кто меня приголубит? Кто меня пожалеет?» Словно как и в самом деле она от него жалость какую в своей жизни видала.
Как умер Антоныч, Мавра Петровна сама стала о детях печалиться. От Костика ей никакого почтения не было: разбойник разбойником вышел. Видит Петровна, что никакого пути так не будет, упросила своего панка отдать Петьку и Егорку в ученье по мастерству. Панок согласился – ему это выгодно было, потому что он малоземельный был, а мастеровой человек больше может оброку платить. Насчет же воли теперешней тогда хоть и ходили у нас слухи, да только никто ей не верил, ни господа, ни крестьяне. Скажешь, бывало, кому: «Вот скоро воля будет», – так только рукой махнет: «Это, – говорили, – улита едет, – когда-то будет!» Отвела Петровна своих сыновей и сама их к местам определила: Петьку на четыре года, а Егорку на шесть лет. У нас не берут на короткие сроки, потому что года два сначала мальчика только «утюжат», да «шпандорют», да за водой либо за водкой посылают, а там уж кой-чему учить станут.
Как вернулась Петровна домой, стала она думать и о Насте. А Насте в ту пору уж семнадцатый годок пошел. Вся она была в мать и характером в нее пошла, только еще, кажется, была безответнее. Собой она была не красавица, никто на нее не заглядывался, а таки пригожая была девушка. Высокая была, черноволосая, а глаза черные, щечки румяные, губки розовые; сухощава только была, тем и не нравилась, не зарились на нее ребята. У нас все в моде, чтоб девка была, что называется, «размое-мое», телеса чтоб были; ну, а у Насти этих телес не было, так ее и звали Настька-сухопарая. У нас все всякому своя кличка приложена, и мужикам, и бабам, и девкам: Гришка-жулястый, Матюшка-раскаряка, Аленка-брюхастая, Анютка-круглая, Настька-сухопарая – всё так. Иной раз за этими кличками и крещеное имя совсем забудут. Зовут все девку «круглая» да «круглая», а как придется по имени назвать – никто и не знает. И клички же бывают! От иной с души мутит, а иную и сказать срамно; а с привычки-то ничего. Впрочем, Настя не то чтобы уж кощей костлявый была, только телес этих много не имела, а то ничего – девка была пригожая.
Думала, думала Петровна, что ей с Настей делать? и надумала просить свою пани, чтобы та взяла ее в горницу. В магазин в ученье Петровна боялась отдать дочку. «Девка безответная, – думала она, – только ленивый ее не набьется; а там еще подведут под такое, что ”за срам голова згинет“», – не отдала. «В хоромах все-таки лучше; по крайности на глазах у меня, а от сквернословия от здешнего подальше». Так и сделала. Стала Настя днем жить в комнате у барыни, а ночевать ходила к матери. Чулан тут у них в сенях был из дощечек отгорожен в уголке; там их рухлядь кое-какая стояла: две, не то три коробки, донца, прялки, тальки, что нитки мотают, стан, на котором холсты ткут, да веретье – больше у них ничего не было. В этом чуланчике они спали лето и зиму. У нас в Гостомле есть много народу, что от тесноты в избах целую зиму спят по чуланам да по пунькам либо по подклетям. Чуланчики такие, вроде деревенских часовен, погородят из хворостового плетня, либо просто на дворе, либо под сараем, и это называют «пуньками». Как женится кто в семье, сейчас и заводится такой пунькой – для молодой жены. «Вот, мол, тебе, касатка, удобьице! живи, радуйся, назад не оглядывайся!» И живут в этих апартаментах, пока детвора пойдет. А тогда уж с ребятками на зиму мать переходит в избу. Тут и старики, тут и муж с женой, тут и девушки взрослые, все это и на виду и на слуху, – такое безобразие. А куда денешься-то? Тут оно и «снохачество» это у нас заводится, тут и дети невесть чему до поры до времени поизучиваются, а опять-таки подеться некуда! Теснится народушко на просторной Руси, и трудно ему рассмотреть в волоковое окно свои нечисти.
Костик спал в господской конюшне. Говорили, что он там коммерцией занимался: овес у лошадей выгребал да продавал; жеребца господского на гуменник выводил к крестьянским кобылам, – по полтиннику за лошадь брал. У нас охотники до лошадей, и коневье все рослое у мужиков; а жеребцов не держат, потому что беспокойства с ними много; ни пахать на нем, ни в табун его выпустить нельзя. Да и в дворе тоже кому за ним смотреть? Иную пору в дворе остаются одни бабы, – где им водиться с жеребцом? – ни вывесть его, ни запречь. Вырвется, других переранит и сам изранится, а то и совсем еще забежит. А у нас народ теплый, «в глазах деревня сгорит». Об нас по целой по России ходит поговорка, что «Орел да Кромы – первые воры, а Карачев на придачу». А что по обапольности, так наших мужиков было распоряженье и на ярмарки не пускать, потому что купцы даже ездить отказывались. Баловство было большое в нашем народе, и исстари-таки оно трясется у нас на Гостомле. Но я в другой раз расскажу, как и отчего все это распочалось и выросло. Теперь говорю только, что у нас воровство, кажись, и за грех не почиталось; а если кто неловко украдет да поймают, так до суда редко доходило, сейчас свой суд короткий: отомнут ребра, так что век не человек, да и пустят на карачках ползать. Сами о себе гостомельцы, бывало, говорят: «Наш народ шельма прожженная».
Так и жил Костик и держался от семьи, словно волк какой, все стороною, особничком. Правда ли, не правда ли, что он торговал и овсом, и водкой, и господскими жеребцами, Бог его знает, потому что в маленьком хуторе все один другого поедом ели, избрехались, несли друг на друга всякую всячину, – а только деньги у него были. Толковали, что рублей со сто он имел, и надо полагать, что это правда, потому что дворник с курского шоссе ему был должен и кузнец с почтовой станции. Это все знали, потому что Костик и с дворником и с кузнецом тесную компанию водил; а он не любил зря с кем попало компанствовать. Не то чтобы он горд был или чванлив, а так все любил знаться с теми, с кем можно дела какие-нибудь делать. Спроста он ничего не делал. По обапольности у него все было знакомство с садовниками, да с шинкарями, да с дворниками с большой дороги, да с мельниками – всё с таким народом. С своими он был неразговорчив, разве только как пьяный вернется, так кому-нибудь буркнет слово; а то все ходит понурою да свои усенки покусывает. Обшивала и обмывала его Настя, а почету ей или хоть внимания, хоть слова ласкового никогда от него не было.
Вздумал Костик жениться на двадцать шестом году. Он был старше Насти лет на восемь. Выбрал он себе жену отличную, звали Аленой. Она была из соседнего хутора, из крестьянской семьи. Смиренная была девушка и работящая. Сделалось это дело; привез Костик молодую жену от венца в барской бричке и стал жить с нею в том чуланчике, где мать с сестрою жили. Остепенился будто сначала, а тут дочь у него родилась, да неблагополучно. Бог ее знает, чем-то повредила бабка Алену при родах. Ребенок медленно шел, так она повела Алену в печку, спаривала там ее, встряхивала, косу ее заставляла жевать, изгадила бабу так, что никуда она не стала годиться. А у нас в городе жил старичок, к купечеству он был приписан, но ничем не торговал, а занимался леченьем; звали его Сила Иванович Крылушкин. Удивительный был старичок: добрый такой, что и описать нельзя. Про его доброту святую целая губерния знала. И такой он был благообразный, такой миловидный, что, бывало, как положит он кому-нибудь на голову свою бледную руку, так и хочется поцеловать эту руку. Точно патриарх святой. В лечении он был очень искусен, и больных к нему навозили с разных сторон, из сел и из городов. Лечил он всех у себя в доме, и все больше одними травами, которые сам и собирал весною. От всяких болезней лечил Сила Иванович и всегда успешно. Народ говорил, что «Крылушкину Бог помогает», и верил в него как в слугу Божьего. Мавра Петровна тоже знала про Крылушкииа и не раз у него бывала. И стала она приставать к сыну: «Свези да свези ты жену к Силе Ивановичу». А он все отпирается, что денег нет.
– Бога ты, Костя, не боишься! Денег у тебя для жены нет. Неш она у тебя какая ледащая, или не тебе с ней жить, а соседу? Глянь ты: баба сохнет, кровью исходит. Тебе ж худо: твой век молодой, какая жизнь без жены? А еще того хуже, как с женою, да без жены. Подумай, Костя, сам!
Думал, думал Костик и надумался. Разобрал, что худо жить с больной женой – невыгодно. Повез Алену к Крылушкину. Вернулся оттуда злющий-презлющий, – денег ему жаль было, что отдал за жену Крылушкину. А и денег-то всего Крылушкин двадцать пять рублей на ассигнации взял. У нас и до сих пор народ все еще на ассигнации считает. Не говорят, например, «рубль серебром», а «три с полтиной старыми». Стал Костик без жены все разъезжать по ночам верхом на барской лошади к своим приятелям по обапольности, и познакомился он у почтового кузнеца с однодворцем Прокудиным. Прокудин был человек пожилой и достаточный: имел он у себя одиннадцать лошадей, которых посылал в извоз, и маслобойню, на которой бил конопляное масло. Дело это у нас очень выгодное, потому что конопли кругом море, а мужички народ и недостаточный и таки беззаботный. Выдерет конопли, обмолотит, ссыплет в анбарчик, и черт ему не брат, – цены своему товару не сложит. Купцы, зная это, уж и не ездят в деревни, пока не станут чиновники собирать подушных. Потому что не укупишь тут у мужика ничего. Пойдет один на другого опираться: «Да мы-ста не знаем; да какие цены, Бог е знает; как люди, так и мы. Вон наши большаки еще не продавали». Только от них и добьешься. А как потребуют подушное, так тут забирай у них, почем хочешь. Купцы на этом большую пользу для себя имеют; но больше в этом деле корыстуются свои сельские большаки, то есть этакие богатенькие мужички, что капиталец кой-какой имеют или свои маслобойни. Прокудин был не из самых богатых; только еще на разживу пошел. Собрал деньжат с извоза и маслобойню выстроил, а на торговлю-то уж не осталось. Он бил масло из чужой конопли из-за платы да из-за жмыха. Плата у нас за выбивку масла пустая, потому что много уж очень маслобоен, но жмых дорог в хозяйстве: им и лошадей кормят и свиней, да и люди его, по нужде, к муке подмешивают. Однако дело это с маслобойней не тешило Прокудина. Все хотелось ему так же, как другие, бить масло из своей конопли, потому что тут барыша бывает рубль на рубль.
– Так-то бы оно, Константин Борисыч, было бы, к примеру, антиреснее, – говорил он Константину, сидя с ним за штофом у почтового кузнеца.
– Это точно, что глаже было бы, – отвечал Костик.
Смекнул это дело Костик, отобрал свои деньги с процентов у кузнеца и у дворника, и составили они с Прокудиным компанию. Прокудин был темный мужик, ну да и Костик не промах. Попытали они было сначала друг друга за дверь вывести, да и бросили, увидавши, что нашла коса на камень. Дело у них с самого с зимнего Николы пошло крупное – на рубль два наживали. Костик всякий вечер уходил на маслобойню и по целым ночам там сидел. Учитывал он Прокудина лучше любого контролера. Так прошла зима, свезли масло в Орел, продали его хорошей ценою, поделили барыши, и досталось Костику на его долю с лишком двести рублей. Стали мужики соседние Костику кланяться и стали его называть Константином Борисычем. Алена тем временем выздоровела и домой вернулась, только все молилась мужу: «Не тронь ты меня, Борисыч; дай мне с силой собраться». Это Костика сердило, и все он попрекал жену ее леченьем. А она, я вам сказал, безответная была – все молчала. У нас много есть таких женщин по селам, что вырастает она в нужде да в загоне, так после терпит все, словно каменная, и не разберешь никак: не то она чувствует, что терпит, не то и не чувствует. Настя тоже была терпеливая, только эта все горячо чувствовала. Бывало, скажет ей Петровна: «Плоха я становлюсь, Настасьюшка! На кого я тебя покину? Хоть бы мне своими руками тебя под честной венец благословить». А она так и побледнеет: «Живи, – говорит, – матушка! живи ты; не хочу я замуж; я с тобою буду». – «Дитя ты мое глупое!» – скажет, бывало, Петровна, да и закашляется. Совсем стало ее одолевать удушье, а осенью, как начались туманы да слякоть, два раза так ее прихватило, что думали, вот-вот душа с телом на ро́сстали. Снежок в эту осень рано выпал; к Михайлову дню уж и санный путь стал. На Михайлов день у нас праздник. Петровна выпросила у барыни Настю, и пошли они к обедне, и Костик пошел, только особо, с мирошником Михайлой. В церкви, как отошла обедня, Прокудин запросил их к себе на обед. Петровна было отказывалась: «Дело, – говорила, – мое слабое, где мне по гостям ходить? Благодарим на добром слове, на привете ласковом!» Но Костик глянул на мать, глянул на сестру, они и пошли. Сестра его страсть как боялась, а мать хоть и не боялась, но часто по его делала, «абы лихо спало тихо». Зашли все к Прокудину. Угощенье было богатое: пироги, щи со свежиной, похлебка с потрохами, гуси жареные, солонина духовая с хреном, гусиные полотки, а после закуски разные: орехи, подсолнухи, столбики с инбирем и круглые прянички, а детям коньки пряничные. При этом, разумеется, было и выпито вдоволь и водки, и пива, и домашней браги, и меду сыченого. Костик так нахлебтался, что на ногах не стоял и молол всякий вздор. Настя с молодками да с девушками на верхнем полу сидели. Ее все расспрашивали, что да как там у вас в господском доме? Какие порядки? Кто ябедой или переносами занимается? Какова невестка? Гуляет она с кем или нет? Но у Насти, бывало, ни о ком худого слова не вытянешь. Тихая была девка и на словах будто не речиста; а как нужно увернуться, чтобы кого словом не охаять, так так умела она это сделать, что никому и невдомек, что она схитрила. Петровну Прокудин усадил в красный угол и все за ней ухаживал и дочерей к ней подводил, и внуков, и сына Григорья. Григорью было лет двадцать. Несуразный он был парень: приземистый, голова какая-то плоская, нос крошечный с пережабиной и говорил так гугняво, неприятно. В деревне все считали его дурачком и звали Гришкой-лопоухим. «Вот мой и наследник! – сказал Прокудин, указывая Петровне на Гришку. – Вот для кого и бьюсь и стараюсь. Умру, с собой не возьму ничего, все ему останется».
Вечером запрег Прокудин сани и отправил гостей домой; лошадью правил Гришка, а Костик пьяный во все горло орал песни, и все его с души мутило. Рада была Настя, что домой вернулась; надоело ей это гостеванье и пьянство. К работе мужичьей она была привычна, потому что у нас мелкие панки в рабочую пору всех на поле выгоняли, даже ни одной души в доме не останется. Настя умела и жать, и гресть за косой, и снопы вязать, и лошадью править, и пеньку мять, прясть, ткать, холсты белить; словом, всю крестьянскую работу знала, и еще как ловко ее справляла, и избы курной она не боялася. Даже изба ей была милее, чем бесприютная прихожая в господской мазанке; а безобразие, пьянство да песни пьяные страсть как ее смущали. Она очень любила, коли кто поет песню из сердца, и сама певала песни, чуткие, больные да ноющие. Большая она была песельница, и даже господа ее иной раз вечером заставляли петь. Только она им не пела своих любимых песен, эти песни она все про себя пела, словно берегла их, чтоб не выпеть, не израсходовать. Пойдет, бывало, за водою к роднику, – ключ тут чистый такой из-под горки бил, – поставит кувшины под желоб, да и заведет: