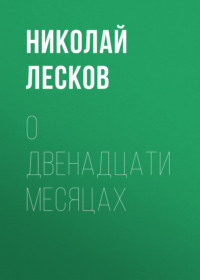Полная версия
Неразменный рубль: Повести и рассказы
И в этих-то памятных мне с детства местах пришлось мне еще раз совершенно неожиданно встретиться с убежавшим из Курска Овцебыком.
Глава пятая
Много воды уплыло с того времени, к которому относятся мои воспоминания, может быть, весьма мало касающиеся суровой доли Овцебыка. Я подрастал и узнавал горе жизни; бабушка скончалась; Илья Васильевич и Щеголиха с Нежданкою побывшилиеь; веселые слимаки ходили солидными иноками; меня поучили в гимназии, потом отвезли за шестьсот верст в университетский город, где я выучился петь одну латинскую песню, прочитал кое-что из Штрауса, Фейербаха, Бюхнера и Бабефа и во всеоружии моих знаний возвратился к своим ларам и пенатам. Тут-то я свел описанное мною знакомство с Василием Петровичем. Прошло еще четыре года, проведенные мною довольно печально, и я снова очутился под родными липами. Дома и в это время не произошло никаких перемен ни в нравах, ни во взглядах, ни в направлениях. Новости были только естественные: матушка постарела и пополнела, четырнадцатилетняя сестра прямо с пансионерской скамьи сошла в безвременную могилу, да выросло несколько новых липок, посаженных ее детскою рукою. «Неужто же, – думал я, – ничто не переменилось в то время, когда я пережил так много: верил в Бога, отвергал Его и паки находил Его; любил мою родину, и распинался с нею, и был с распинающими ее!» Это даже обидно показалось моему молодому самолюбию, и я решился произвести поверку – всему поверку – себе и всему, что меня окружало в те дни, когда мне были новы все впечатленья бытия. Прежде всего я хотел видеть мои любимые пустыни, и в одно свежее утро я поехал на бегунцах в П-скую пустынь, до которой от нас всего двадцать с чем-то верст. Та же дорога, те же поля, и галки так же прячутся в густых озимях, и мужики так же кланяются ниже пояса, и бабы так же ищутся, лежа перед порогом. Все по-старому. Вот и знакомые монастырские ворота – тут новый привратник, старый – уж монахом. Но отец казначей еще жив. Больной старик уже доживал девятый десяток лет. В наших монастырях есть много примеров редкого долговечия. Отец казначей, однако, уже не исправлял своей должности и жил «на покое», хотя по-прежнему назывался не иначе, как «отцом казначеем». Когда меня ввели к нему, он лежал на постели и, не узнав меня, засуетился и спросил келейника: «Кто это?» Я, ничего не отвечая, подошел к старику и взял его за руку. «Здравствуйте, здравствуйте! – бормотал отец казначей. – Кто вы такой будете?» Я нагнулся к нему, поцеловал его в лоб и сказал свое имя. «Ах ты, дружочек, дружочек!.. ну что ж, ну, здравствуй! – заговорил старик, снова засуетясь на своей кровати. – Кирилл! самоварчик раздуй скорей! – сказал он келейнику. – А я, раб, уж не хожу. Вот больше года ноги всё пухнут». У отца казначея была водяная, которою очень часто оканчивают монахи, проводящие жизнь в долгом церковном стоянии и в других занятиях, располагающих к этой болезни.
– Зови же Василья Петровича, – сказал казначей келейщику, когда тот поставил самовар и чашки на столик к постели. – Тут у меня один бедак живет, – добавил старик, обращаясь ко мне.
Келейник вышел, и через четверть часа по плитяному полу сеней послышались шаги и какое-то мычанье. Отворилась дверь, и моим удивленным глазам предстал Овцебык. Он был одет в короткую свитку из великорусского крестьянского сукна, пестрядинные порты и высокие юхтовые, довольно ветхие, сапоги. Только на голове у него была высокая черная шапочка, какие носят монастырские послушники. Наружность Овцебыка так мало изменилась, что, несмотря на довольно странный наряд, я узнал его с первого взгляда.
– Василий Петрович! Вы ли это? – сказал я, идя навстречу моему приятелю, и в то же время подумал: «О, кто же лучше, как ты, скажет мне, как пронеслись над здешними головами годы сурового опыта?»
Овцебык мне как будто обрадовался, а отец казначей удивлялся, видя в нас двух старых знакомых.
– Ну, вот и прекрасно, прекрасно, – лепетал он. – Наливай же, Вася, чай.
– Вы ведь знаете, что я не умею наливать чаю, – отвечал Овцебык.
– Правда, правда. Наливай ты, гостек.
Я стал наливать чашки.
– Давно вы здесь, Василий Петрович? – спросил я, подав Овцебыку чашку.
Он откусил сахару, стрягнул кусочек и, хлебнув раза три, отвечал:
– Месяцев девять будет.
– Куда ж вы теперь?
– Покуда никуда.
– А можно узнать, откуда? – спросил я, невольно улыбаясь при воспоминании, как Овцебык отвечал на подобные вопросы.
– Можно.
– Из Перми?
– Нет.
– Откуда же?
Овцебык поставил выпитую чашку и проговорил:
– Был иже везде и нигде.
– Челновского не видали ли?
– Нет. Я там не был.
– Мать ваша жива ли?
– В богадельне померла.
– Одна?
– Да ведь с кем же умирают-то?
– Давно?
– С год, говорят.
– Погуляйте, ребятки, а я сосну до вечерни, – сказал отец казначей, которому уж тяжело было всякое напряжение.
– Нет, я на озеро хочу проехать, – отвечал я.
– А! ну поезжай, поезжай с Богом и Васю свези: он тебе почудит дорогой.
– Поедемте, Василий Петрович.
Овцебык почесался, взял свой колпачок и отвечал:
– Пожалуй.
Мы простились до завтра с отцом казначеем и вышли. На житном дворе мы сами запрягли мою лошадку и поехали. Василий Петрович сел ко мне задом, спина со спиною, говоря, что иначе он не может ехать, потому что ему воздуху мало за чужой головой. Дорогой он вовсе не чудил. Напротив, он был очень неразговорчив и только все меня расспрашивал: видал ли я умных людей в Петербурге? и про что они думают? или, перестав расспрашивать, начинал свистать то соловьем, то иволгой.
В этом прошла вся дорога.
У давно знакомой хатки нас встретил низенький рыжий послушник, заступивший место отца Сергия, который года три как умер, завещав свои инструменты и приготовленный материал беззаботному отцу Вавиле. Отца Вавилы не было дома: он, по обыкновению, гулял над озером и смотрел на цапель, глотающих покорных лягушек. Новый товарищ отца Вавилы, отец Прохор, обрадовался нам, точно деревенская барышня звону колокольчика. Сам он бросался отпрягать нашу лошадь, сам раздувал самовар и все уверял, что «отец Вавило вот ту минуту вернутся». Мы с Овцебыком вняли этим уверениям, уселись на завалинке лицом к озеру и оба приятно молчали. Никому не хотелось говорить.
Солнце уже совсем село за высокие деревья, окружающие густою чащею все монастырское озеро. Гладкая поверхность воды казалась почти черною. В воздухе было тихо, но душно.
– Гроза будет ночью, – сказал отец Прохор, таща на себе в сени подушку с моих беговых дрожек.
– Зачем вы беспокоитесь? – отвечал я. – Может быть, еще и не будет.
Отец Прохор застенчиво улыбался и проговорил:
– Ничего-с! Какое беспокойство!
– Я и лошадку тоже заведу в сени, – начал он, выйдя снова из хатки.
– Зачем, отец Прохор?
– Гроза большая будет; испужается, оторвется еще. Нет-с, я ее лучше в сени. Ей там хорошо будет.
Отец Прохор отвязал лошадь и, войдя в сени, тянул ее за повод, приговаривая: «Иди, матушка! иди, дурашка! Чего боишься?»
– Вот так-то лучше, – оказал он, уставив лошадь в уголку сеней и насыпав ей овса в старое решето. – Чтой-то отца Вавилы долго нет, право! – проговорил он, зайдя за угол хатки. – А вот уж и замолаживает, – добавил он, показывая рукою на серовато-красное облачко.
На дворе совсем смеркалось.
– Я пойду посмотрю отца Вавилу, – сказал Овцебык и, закрутив свои косицы, зашагал в лес.
– Не ходите: вы с ним разойдетесь.
– Небось! – и с этим словом он ушел.
Отец Прохор взял охапку дров и пошел в избу. Скоро в окнах засветилось пламя, которое он развел на загнетке, и в котелке закипела вода. Ни отца Вавилы, ни Овцебыка не было. Между тем вершины деревьев в это время изредка стали поколыхиваться, хотя поверхность озера еще стояла спокойною, как застывающий свинец. Только изредка можно было заметить беленькие плески от какого-нибудь резвящегося карася, да лягушки хором тянули одну монотонно-унылую ноту. Я еще все сидел на завалинке, глядя на темное озеро и вспоминая мои в темную даль улетевшие годы. Тут тогда были эти неуклюжие лодки, к которым носил меня могучий Невструев; здесь я спал с послушниками, и все тогда было такое милое, веселое, полное, а теперь как-то все как будто и то же, да нет чего-то. Нет беззаботного детства, нет теплой животворящей веры во многое, во что так сладко и так уповательно верилось.
– Руси дух пахнет! Откуда гости дорогие? – крикнул отец Вавила, внезапно выйдя из-за угла хатки, так что я совершенно не заметил его приближения.
Я его узнал с первого раза. Он только совсем побелел, но тот же детский взгляд и то же веселое лицо.
– Издалека изволите быть? – спросил он меня.
Я назвал одну деревню верст за сорок.
Он спросил: не сыночек ли я Афанасья Павловича?
– Нет, – говорю.
– Ну, все равно: милости прошу в келью, а то дождь накрапывает.
Действительно, начал накрапывать дождик, и по озеру зарябило, хотя ветра в этой котловине никогда почти не бывало. Разгуляться ему здесь было негде. Такое уж было место тихое.
– Как величать позволите? – спросил отец Вавила, когда мы совсем вошли в его хатку.
Я назвал свое имя. Отец Вавила посмотрел на меня, и на его добродушно-хитрых губах показалась улыбка. Я тоже не удержался и улыбнулся. Мистификация моя не удалась: он узнал меня; мы обнялись со стариком, много раз сряду поцеловались и ни с того ни с сего оба заплакали.
– Дай-ка я посмотрю на тебя поближе, – сказал продолжавший улыбаться отец Вавила, подводя меня к очагу. – Ишь вырос!
– А вы состарились, отец Вавила.
Отец Прохор засмеялся.
– А они у нас еще все молодятся, – заговорил отец Прохор, – и даже ужасть как молодятся.
– А то, по-вашему, что ль! – храбрясь, отвечал отец Вавила, но тут же и присел на стульце и добавил: – Нет, братик! дух бодр, а плоть уж отказывается. К отцу Сергию пора. Поясницу нынче все ломит – плох становлюсь.
– А давно умер отец Сергий?
– Третий год со Спиридона пошел.
– Хороший был старик, – сказал я, вспоминая покойника с его палочками и ножичком.
– Смотри-ка! В угол-то смотри! тут вся его мастерская и теперь стоит. Да зажги ты свечу, отец Прохор.
– А Капитан жив?
– Ах, ты кота… то бишь кошку нашу Капитана помнишь?
– Как же!
– Удушился, брат, Капитан. Под дежу его как-то занесло; дежа захлопнулась, а нас дома не было. Пришли, искали, искали – нет нашего кота. А дня через два взяли дежу, смотрим – он там. Теперь другой есть… гляди-ко какой: Васька! Васька! – стал звать отец Вавила.
Из-под печи вышел большой серый кот и начал тыкать головою в ноги отцу Вавиле.
– Ишь ты, бестия какая!
Отец Вавила взял кота и, положив его на колени, брюхом кверху, щекотал ему горло. Точно теньеровская картина: белый как лунь старик с серым толстым котом на коленях, другой полустарик в углу ворочается; разная утварь домашняя, и все это освещено теплым, красным светом горящего очага.
– Да зажигай свечу-то, отец Прохор! – крикнул опять отец Вавила.
– Вот сейчас. Никак не справишь.
Отец Вавила между тем оправдывал Прохора и рассказывал мне:
– Мы ведь себе свечи теперь не зажигаем. Рано ложимся.
Зажгли свечу. Хата точно в том же порядке, как была за двенадцать лет назад. Только вместо отца Сергия у печки стоит отец Прохор, а вместо бурого Капитана с отцом Вавилою забавляется серый Васька. Даже ножик и пучок кореневатых палочек, приготовленных отцом Сергием, висит там, где их повесил покойник, приготовлявший их на какую-то потребу.
– Ну, вот и яйца сварились, вот и рыба готова, а Василья Петровича нет, – сказал отец Прохор.
– Какого Василья Петровича?
– Блажного, – отвечал отец Прохор.
– Неш ты с ним приехал?
– С ним, – сказал я, догадываясь, что кличка принадлежит моему Овцебыку.
– Кто ж это тебя с ним сюда справил?
– Да мы давно знакомы, – сказал я. – А вы мне скажите, за что вы его блажным-то прозвали?
– Блажной он, брат. Ух какой блажной!
– Он – добрый человек.
– Да я не говорю, что злой, а только блажь его одолела; он теперь как нестоящий: всеми порядками недоволен.
Было уже десять часов.
– Что ж, давайте ужинать. Авось подойдет, – скомандовал, начиная умывать руки, отец Вавила. – Да, да, да: поужинаем, а потом литийку… Хорошо? По отце Сергие-то, говорю, литийку все пропоем?
Стали ужинать, и поужинали, и «со святыми упокой» пропели отцу Сергию, а Василий Петрович все еще не возвращался.
Отец Прохор убрал со стола лишнюю посуду, а сковороду с рыбой, тарелку, соль, хлеб и пяток яиц оставил на столе, потом вышел из хаты и, возвратясь, сказал:
– Нет, не видать.
– Кого не видать? – спросил отец Вавила.
– Василья Петровича.
– Уж если б тут был, так не стоял бы за дверью. Он теперь, видно, на прогулку вздумал.
Отец Прохор и отец Вавила непременно хотели меня уложить на одной из своих постелей. Насилу я отговорился, взял себе одну из мягких ситниковых рогож работы покойного отца Сергия и улегся под окном на лавке. Отец Прохор дал мне подушку, погасил свечу, еще раз вышел и довольно долго там оставался. Очевидно, он поджидал «блажного», но не дождался и, возвратясь, сказал только:
– А гроза непременно соберется.
– Может быть, и не будет, – сказал я, желая успокоить себя насчет исчезшего Овцебыка.
– Нет, будет: па́рило нынче крепко.
– Да уж давно па́рит.
– У меня поясницу так и ломит, – подсказал отец Вавила.
– И муха с самого утра как оглашенная в рожу лезла, – добавил отец Прохор, фундаментально повернувшись на своей массивной кровати, и все мы, кажется, в эту же самую минуту и заснули. На дворе стояла страшная темень, но дождя еще не было.
Глава шестая
– Встань! – говорил мне отец Вавила, толкая меня на постели. – Встань! нехорошо спать в такую пору. Неравен час воли Божией.
Не разобрав, в чем дело, я проворно вскочил и сел на лавке. Перед образником горела тоненькая восковая свеча, и отец Прохор в одном белье стоял на коленях и молился. Страшный удар грома, с грохотом раскатившийся над озером и загудевший по лесу, объяснил причину тревоги. Муха, значит, недаром лезла в рожу отцу Прохору.
– Где Василий Петрович? – спросил я стариков.
Отец Прохор, не переставая шептать молитву, обернулся ко мне лицом и показал движением, что Овцебык еще не возвращался. Я посмотрел на мои часы: был ровно час пополуночи. Отец Вавила, также в одном белье и в коленкоровом ватном нагруднике, смотрел в окно; я тоже подошел к окну и стал смотреть. При беспрерывной молнии, светло озарявшей все открывавшееся из окна пространство, можно было видеть, что земля довольно суха. Дождя большого, значит, не было с тех пор, как мы заснули. Но гроза была страшная. Удар следовал за ударом, один другого громче, один другого ужаснее, а молния не умолкала ни на минуту. Словно все небо разверзлось и готово было с грохотом упасть на землю огненным потоком.
– Где он может быть? – сказал я, невольно думая об Овцебыке.
– И не говори лучше, – отозвался отец Вавила, не отходя от окна.
– Не случилось ли чего с ним?
– Да случиться, кажется, чему бы! Зверя большого нет тут. Разве лихой человек – так и то не слышно было давно. Нет, так небось ходит. Ведь на него какая блажь найдет.
– А вид точно прекрасный, – продолжал старик, любуясь озером, которое молния освещала до самого противоположного берега.
В это мгновение грянул такой удар, что вся хата затряслась; отец Прохор упал на землю, а нас с отцом Вавилою так и отбросило к противоположной стене. В сенях что-то рухнуло и повалилось к двери, которою входили в хату.
– Горим! – закричал отец Вавила, первый выйдя из общего оцепененья, и бросился к двери. Дверь нельзя было отпереть.
– Пустите, – сказал я, совершенно уверенный, что мы горим, и с размаху крепко ударил плечом в дверь.
К крайнему нашему удивлению, дверь на этот раз отворилась свободно, и я, не удержавшись, вылетел за порог. В сенях было совершенно темно. Я вернулся в хату, взял от образника одну свечечку и с нею опять вышел в сени. Шум весь наделала моя лошадь. Перепуганная последним ужасным ударом грома, она дернула повод, которым была привязана к столбу, повалила пустой капустный напо́л, на котором стояло решето с овсом, и, кинувшись в сторону, притиснула нашу дверь своим телом. Бедное животное пряло ушми, тревожно водило кругом глазами и тряслось всеми членами. Втроем мы всё привели в порядок, насыпали новое решето овса и возвратились в хату. Прежде чем отец Прохор внес свечечку, мы с отцом Вавилою заметили в хатке слабый свет, отражавшийся через окно на стену. Посмотрели в окно, а как раз напротив, на том берегу озера, словно колоссальная свечка, теплилась старая сухостойная сосна, давно одиноко торчавшая на голом песчаном холме.
– А-а! – протянул отец Вавила.
– Моленья зажгла, – подсказал отец Прохор.
– И как горит прелестно! – сказал опять художественный отец Вавила.
– Богом ей так назначено, – отвечал богобоязливый отец Прохор.
– Ляжемте, однако, спать, отцы: гроза утихла.
Действительно, гроза совершенно стихла, и только издали неслись далекие раскаты грома да по небу тяжело ползла черная бесконечная туча, казавшаяся еще чернее от горящей сосны.
– Глядите! глядите! – неожиданно воскликнул все еще смотревший в окно отец Вавила. – Ведь это наш блажной!
– Где? – спросили в один голос я и отец Прохор и оба глянули в окно.
– Да вон, у сосны.
Действительно, шагах в десяти от горящей сосны ясно обрисовывался силуэт, в котором можно было с первого взгляда узнать фигуру Овцебыка. Он стоял, заложа руки за спину, и, подняв голову, смотрел на горевшие сучья.
– Прокричать ему? – спросил отец Прохор.
– Не услышит, – отвечал отец Вавила. – Видите, шум какой: невозможно услышать.
– И рассердится, – добавил я, хорошо зная натуру моего приятеля.
Постояли еще у окна. Овцебык не трогался. Назвали его несколько раз «блажным» и легли на свои места. Чудачества Василья Петровича давно перестали и меня удивлять; но в этот раз мне было нестерпимо жаль моего страдающего приятеля… Стоя рыцарем печального образа перед горящею сосною, он мне казался шутом.
Глава седьмая
Когда я проснулся, было уже довольно поздно. «Некнижных» отцов не было в хатке. У стола сидел Василий Петрович. Он держал в руках большой ломоть ржаного хлеба и прихлебывал молоком прямо из стоящего перед ним кувшина. Заметив мое пробуждение, он взглянул на меня и молча продолжал свой завтрак. Я с ним не заговаривал. Так прошло минут двадцать.
– Чего растягиваться-то? – сказал наконец Василий Петрович, поставив выпитый им кувшин молока.
– А что ж бы нам начать делать?
– Пойдем бродить.
Василий Петрович был в самом веселом расположении духа. Я очень дорожил этим расположением и не стал его расспрашивать о ночной прогулке. Но он сам заговорил о ней, как только мы вышли из хаты.
– Ночь была грозная какая! – начал Василий Петрович. – Просто не запомню такой ночи.
– А дождя ведь не было.
– Начинал раз пять, да не разошелся. Люблю я смерть такие ночи.
– А я не люблю их.
– Отчего?
– Да что ж хорошего-то? вертит, ломит все.
– Гм! вот то-то и хорошо, что все ломит.
– Еще придавит ни за́ что ни про́ что.
– Эко штука!
– Вот сосну разбило.
– Славно горела.
– Мы видели.
– И я видел. Хорошо жить в лесах.
– Комаров только много.
– Эх вы, канареечный завод! Комары заедят.
– Они и медведей, Василий Петрович, донимают.
– Да, а все ж медведь из лесу не пойдет. Полюбил я эту жизнь, – продолжал Василий Петрович.
– Лесную-то?
– Да. В северных-то лесах что это за прелесть! Густо, тихо, лист аж синий – отлично!
– Да ненадолго.
– Там и зимой тоже хорошо.
– Ну, не думаю.
– Нет, хорошо.
– Что ж вам там нравилось?
– Тихость, и сила есть в той тихости.
– А каков народ?
– Что значит: каков народ?
– Как живет и чего ожидает?
Василий Петрович задумался.
– Вы ведь два года с ними прожили?
– Да, два года и еще с хвостиком.
– И узнали их?
– Да чего узнавать-то?
– Что в тамошних людях таится?
– Дурь в них таится.
– А вы же прежде так не думали?
– Не думал. Что думы-то наши стоят? Думы те со слов строились. Слышишь «раскол», «раскол», сила, протест, и все думаешь открыть в них невесть что. Все думаешь, что там слово такое, как нужно, знают и только не верят тебе, оттого и не доберешься до живца.
– Ну, а на самом деле?
– А на самом деле – буквоеды, вот что.
– Да вы с ними сошлись ли хорошо?
– Да как еще сходиться-то! Я ведь не с тем шел, чтобы баловаться.
– Как же вы сходились-то? Ведь это интересно. Расскажите, пожалуйста.
– Очень просто: пришел, нанялся в работники, работал как вол… Вот ляжем-ка тут над озером.
Мы легли, и Василий Петрович продолжал свой рассказ, по обыкновению, короткими отрывистыми выражениями.
– Да, я работал. Зимою я назвался переписывать книги. Уставом и полууставом писать наловчился скоро. Только все книги черт их знает какие давали. Не такие, каких я надеялся. Жизнь пошла скучная. Работа да моленное пение, и только. А больше ничего. Потом стали всё звать меня: «Иди, говорят, совсем к нам!» Я говорю: «Все одно, я и так ваш». – «Облюбуй девку и иди к кому-нибудь во двор». Знаете, как мне не по нутру! Однако, думаю, не из-за этого же бросить дело. Пошел во двор.
– Вы?
– А то кто ж?
– Вы женились?
– Взял девку, так, стало быть, женился.
Я просто остолбенел от удивления и невольно спросил:
– Ну, что ж дальше вышло?
– А дальше дрянь вышла, – сказал Овцебык, и на лице его отразились и зло и досада.
– Женою, что ли, вы несчастливы?
– Да разве жена может сделать мое счастие или несчастие? Я сам себя обманул. Я думал найти там город, а нашел лукошко.
– Раскольники не допустили вас до своих тайн?
– До чего допускать-то! – с негодованием вскрикнул Овцебык. – Только ведь за секретом все и дело. Понимаете, этого слова-то «Сезам, отворись», что в сказке говорится, его-то и нет! Я знаю все их тайны, и все они презрения единого стоят. Сойдутся, думаешь, думу великую зарешат, ан черт знает что – «благая честь да благая вера». В вере благой они останутся, а в чести благой тот, кто в чести сидит. Забобоны да буквоедство, лестовки из ремня да плеть бы ременную подлиннее. Не их ты креста, так и дела до тебя нет. А их, так нет чтоб тебе подняться дали, а в богадельню ступай, коли стар или слаб, и живи при милости на кухне. А молод – в батраки иди. Хозяин будет смотреть, чтоб ты не баловался. На белом свете тюрьму увидишь. Всё еще соболезнуют, индюки проклятые: «Страху мало. Страх, говорят, исчезает». А мы на них надежды, мы на них упования возверзаем!.. Байбаки дурацкие, только морочат своим секретничаньем. – Василий Петрович с негодованием плюнул.
– Так, стало быть, наш здешний простой мужик лучше?
Василий Петрович задумался, потом еще плюнул и спокойным голосом отвечал:
– Не в пример лучше.
– Чем же особенно?
– Тем, что не знает, чего желает. Этот рассуждает так, рассуждает и иначе, а у того одно рассуждение. Все около своего пальца мотает. Простую вот такую-то землю возьми, либо старую плотину раскапывай. Что по ней, что ее руками насыпали! Хворост в ней есть, хворост и будет, а хворост повытаскаешь, опять одна земля, только еще дуром взбуровленная. Так вот и рассуждай, что лучше-то?
– Как же вы ушли?
– Так и ушел. Увидал, что делать нечего, и ушел.
– А жена?
– Что же вам про нее интересно?
– Как же вы ее одну там оставили?
– А куда же мне с нею деваться?
– Увести ее с собою и жить с нею.
– Очень нужно.
– Василий Петрович, ведь это жестоко! А если она вас полюбила?
– Вздор говорите! Что еще за любовь: нынче уставщик почитал – мне жена; завтра «поблагословится» – с другим в чулан спать пойдет. Да и что мне до бабы, что мне до любви! что мне до всех баб на свете!
– Но человек же она, – говорю. – Пожалеть-то ее все-таки следовало бы.
– Вот в этом смысле бабу-то пожалеть!.. Очень важное дело, с кем ей в чулан лезть. Как раз время к сему, чтоб об этом печалиться! Сезам, Сезам, кто знает, чем Сезам отпереть, – вот кто нужен! – заключил Овцебык и заколотил себя в грудь, – Мужа, дайте мужа нам, которого бы страсть не делала рабом, и его одного мы сохраним душе своей в святейших недрах.
Дальнейшая беседа наша с Василием Петровичем не ладилась. Пообедав у стариков, я завез его в монастырь, простился с отцом казначеем и уехал домой.
Глава восьмая
Спустя дней десять после моей разлуки с Васильем Петровичем я седел с матушкою и сестрою на крылечке нашего маленького домика. Смеркалось. Вся прислуга отправилась ужинать, и возле дома никого, кроме нас, не было. Везде была кругом глубочайшая вечерняя тишина, и вдруг среди этой тишины две большие дворные собаки, лежавшие у наших ног, разом вскочили, бросились к воротам и с озлоблением на кого-то напали. Я встал и пошел к воротам посмотреть на предмет их злобной атаки. У частокола, прислонясь спиною, стоял Овцебык и насилу отмахивался палкою от двух псов, напавших на него с человеческим ожесточением.