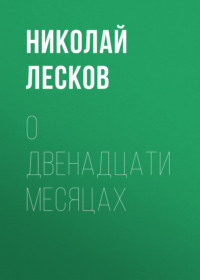Полная версия
Неразменный рубль: Повести и рассказы
– Заели было, проклятые, – сказал он мне, когда я отогнал собак.
– Вы пешком?
– Как видите, на цуфусках.
У Василья Петровича за спиною был и мешочек, с которым он обыкновенно путешествовал.
– Пойдемте же.
– Куда?
– Ну, к нам в дом.
– Нет, я туда не пойду.
– Отчего не пойдете?
– Там какие-то барышни.
– Какие барышни! Это – мать моя и сестра.
– Все равно не пойду.
– Полноте чудить! они люди простые.
– Не пойду! – решительно сказал Овцебык.
– Куда же мне вас деть?
– Нужно куда-нибудь деть. Мне некуда деваться.
Я вспомнил о бане, которая летом была пуста и нередко служила спальнею для приезжающих гостей.
Домик у нас был маленький, «шляхетский», а не «панский».
Через двор, мимо крыльца, Василий Петрович тоже ни за что не хотел идти. Можно было пройти через сад, но я знал, что баня заперта, а ключ от нее у старой няни, которая ужинает в кухне. Оставить Василья Петровича не было никакой возможности, потому что на него снова напали бы собаки, отошедшие от нас только на несколько шагов и злобно лаявшие. Я перегнулся через частокол, за которым стоял с Васильем Петровичем, и громко кликнул сестру. Девочка подбежала и остановилась в недоумении, увидя оригинальную фигуру Овцебыка в крестьянской свитке и послушничьем колпаке. Я послал ее за ключом к няне и, получив вожделенный ключ, повел моего нежданного гостя через сад в баню.
Всю ночь напролет мы проговорили с Васильем Петровичем. Ему нельзя было возвращаться в пустынь, откуда он пришел, ибо его оттуда выгнали за собеседования, которые он задумал вести с богомольцами. Идти в иное место у него не было никакого плана. Неудачи его не обескуражили, но разбили на время его соображения. Он много говорил о послушниках, о монастыре, о приходящих туда со всех сторон богомольцах, и все это говорил довольно последовательно. Василий Петрович, живучи в монастыре, приводил в исполнение самый оригинальный план. Мужей, которых бы страсти не делали рабами, он искал в рядах униженных и оскорбленных монастырской семьи и с ними хотел отпереть свой Сезам, действуя на массы приходящего на богомолье народа.
– Этого пути никто не видит: его никто не сторожится; им не брегут зиждущие; а тут-то и есть то, чту нужно во главу угла, – рассуждал Овцебык.
Припоминая себе хорошо знакомую монастырскую жизнь и тамошних людей из разряда униженных и оскорбленных, я готов был признать, что соображения Василья Петровича во многом не лишены основания.
Но пропагандист мой уже прогорел. Первый муж, стоявший, по его мнению, выше страстей, мой старый знакомый, послушник Невструев, в монашестве дьякон Лука, сделавшись поверенным Богословского, вздумал помочь своему унижению и оскорблению: он открыл начальству, «коего духа» Овцебык, и Овцебык был выгнан.
Теперь он был без приюта. Мне через неделю нужно было ехать в Петербург, а у Василья Петровича не было места, куда бы приклонить голову. Оставаться у моей матери ему было невозможно, да и он сам не хотел этого.
– Найдите мне опять кондицию, я обучать хочу, – говорил он.
Нужно было искать кондицию. Я взял с Овцебыка слово, что он новое место примет только для места, а не для посторонних целей, и стал искать ему приюта.
Глава девятая
В нашей губернии очень много мелкопоместных деревень. Вообще у нас, говоря языком членов С.-Петербургского политико-экономического комитета, довольно распространено хуторное хозяйство. Однодворцы, владевшие крепостными людьми, после отобрания у них крестьян остались хуторянами, небольшие помещики промотались и крестьян попродали на свод в дальние губернии, а землю купцам или разбогатевшим однодворцам. Около нас было пять или шесть таких хуторов, перешедших в руки лиц недворянской крови. В пяти верстах от нашего хутора был Барков-хутор: так он назывался по имени своего прежнего владетеля, о котором говорили, что в Москве он жил когда-то
Праздно, весело, богатоИ от разных матерейПрижил сорок дочерей,а на старости лет вступил в законный брак и продавал имение за имением. Барков-хутор, составлявший некогда отдельную дачу большого имения промотавшегося барина, принадлежал теперь Александру Ивановичу Свиридову. Александр Иванович родился в крепостном сословии, обучен грамоте и музыке. Смолоду он играл на скрипке в помещичьем оркестре, а девятнадцати лет откупился за пятьсот рублей на волю и сделался винокуром. Одаренный ясным практическим умом, Александр Иванович отлично повел свои дела. Сначала он сделал себе известность как лучший винокур в околотке; потом стал строить винокуренные заводы и водяные мельницы; собрал рублей тысячу свободных денег, съездил на год в Северную Германию и возвратился оттуда таким строителем, что слава его быстро разнеслась на далекое пространство. В трех смежных губерниях знали Александра Ивановича и наперебой навязывали ему постройки. Дела он вел необыкновенно аккуратно и снисходительно смотрел на дворянские слабости своих заказчиков. Вообще он знал людей и часто смеялся в рукав над многими, но был человек недурной и даже, пожалуй, добрый. Его все любили, кроме местных немцев, над которыми он любил подтрунивать, когда они принимались вводить культурные порядки с полудикими людьми. «Обезьяну, – говорил он, – сейчас сделает», и немец действительно, как нарочно, ошибался в расчете и делал обезьяну. Через пять лет по возвращении из Мекленбург-Шверина Александр Иванович купил у своего бывшего помещика Барков-хутор, записался в купечество нашего уездного города, выдал замуж двух сестер и женил брата. Семья была выкуплена им из крепостного звания еще до поездки за границу и вся держалась вокруг Александра Ивановича. Брат и зятья все были у него на службе и на жалованье. Обращался он с ними крутенько. Не обижал, но держал в страхе. Так он держал и приказчиков и рабочих. И не то чтобы он любил почет, а так… Убежден он был, что «нужно, чтоб люди не баловались». Купив хутор, Александр Иванович выкупил у того же помещика горничную девушку Настасью Петровну и сочетался с ней законным браком. Жили они всегда очень согласно. Люди говорили, что у них «совет да любовь». Выйдя замуж за Александра Ивановича, Настасья Петровна, что говорят, «раздобрела». Она всегда была писаная красавица, но замужем расцвела, как пышная роза. Высокая, белая, немножко полная, но стройная, румянец во всю щеку и большие ласковые голубые глаза. Хозяйка Настасья Петровна была очень хорошая. Муж, бывало, редко когда неделю просидит дома – все в разъездах по работам, а она и хозяйство по хутору ведет, и приказчиков отсчитывает, и лес или хлеб, если нужно куда на заводы, покупает. Во всем она была Александру Ивановичу правая рука, и зато все относились к ней очень серьезно и с большим уважением, а муж верил ей без меры и с нею не держался своей строгой политики. Ей у него ни в чем отказу не было. Только она ничего не требовала. Читать сама выучилась и имя свое умела подписывать. Детей у них было всего две девочки: старшей девять лет, а младшей семь. Учила их гувернантка из русских. Сама Настасья Петровна шутя называла себя «дурой безграмотной». А впрочем, она знала едва ли менее многих иных так называемых воспитанных дам. По-французски она не разумела, но русские книги просто пожирала. Память у ней была страшная. Карамзинскую историю, бывало, чуть не наизусть рассказывает. А стихов на память знала без счету. Особенно она любила Лермонтова и Некрасова. Последний был особенно понятен и сочувствен ее много перестрадавшему в былое время крепостному сердцу. В разговоре у нее еще часто прорывались крестьянские выражения, особенно когда она говорила с воодушевлением, но эта народная речь даже необыкновенно шла к ней. Бывало, если она станет рассказывать этой речью что-нибудь прочитанное, так такую силу придаст своему рассказу, что после уж и читать не хочется. Очень способная была женщина. Дворянство наше часто наезжало в Барков-хутор, иногда так, чужого ужина попробовать, а больше по делам. Александру Ивановичу везде был кредит открытый, а помещикам мало верили, зная их плохую расплату. Говорили: «он аристократ – дай ему, да ори сто крат». Такова была их репутация. Понадобился хлеб – вино курить не из чего, а задатки либо промотаны, либо на уплату старых долгов пошли, – ну, и тянут к Александру Ивановичу. «Выручи! Голубчик, такой-сякой, поручись». Тут у Настасьи Петровны ручки целуют – ласковые такие и простодушные. А она, бывало, выйдет да помирает-хохочет. «Видели, говорит, жиристов-то!» Настасья Петровна «жиристами» прозывала дворян с тех пор, как одна московская барыня, вернувшись в свое разоренное имение, хотела «воспитать дикий самородок» и говорила: «как же вы не понимаете, ma belle Anastasie, что везде есть свои жирондисты!» Впрочем, руку у Настасьи Петровны все целовали, и она к этому привыкла. Но были и такие ухорцы, что открывались ей в любви и звали ее «под сень струй». Один лейб-гусар доказывал ей даже безопасность такого поступка, если она захватит с собой юхтовый бумажник Александра Ивановича. Но
Они страдали безуспешно.
Настасья Петровна умела держать себя с этими поклонниками красоты.
К этим-то людям – к Свиридовой и к ее мужу – я и решил обратиться с просьбой о моем неуклюжем приятеле. Когда я приехал просить за него, Александра Ивановича, по обыкновению, не было дома; я застал одну Настасью Петровну и рассказал ей, какого мне судьба послала малолетка. Через два дня я отвез к Свиридовым моего Овцебыка, а через неделю поехал к ним снова проститься.
– Что ты, брат, мне бабу тут без меня сбиваешь? – спросил меня Александр Иванович, встречая меня на крыльце.
– Чем я сбиваю Настасью Петровну? – спросил я в свою очередь, не понимая его вопроса.
– Как же, помилуй, для чего ты в филантропию ее затягиваешь? Какого ты ей тут шута на руки навязал?
– Слушайте его! – закричал из окна знакомый, немножко резкий контральт. – Отличный ваш Овцебык. Я вам за него очень благодарна.
– А взаправду, что ты за зверя такого нам завез? – спросил Александр Иванович, когда мы взошли в его чертежную.
– Овцебыка, – отвечал я, улыбаясь.
– Непонятный, брат, какой-то!
– Чем?
– Да совсем блажной какой-то!
– Это сначала.
– А может быть, под конец хуже будет?
Я рассмеялся, и Александр Иванович тоже.
– Да, парень, смех смехом, а куда его деть? Ведь мне, право, такого приткнуть некуда.
– Пожалуйста, дай ему что-нибудь заработать.
– Да ведь не о том! Я не прочь; да куда его определить-то? Ведь ты гляди, какой он, – сказал Александр Иванович, указывая на проходившего в эту минуту по двору Василья Петровича.
Я посмотрел, как тот шагает, заложа одну руку за пазуху свиты, а другою закручивая косицу, и сам подумал: «Куда бы его в самом деле, однако, можно было определить?»
– Пусть на порубке смотрит, – посоветовала мужу хозяйка.
Александр Иванович засмеялся.
– Пусть его будет на порубке, – сказал и я.
– Эх вы, дети малые! Что он там будет делать? Там ведь непривычный человек со скуки повесится. А мой згад – дать ему сто рублей, да пусть идет куда знает и пусть делает что хочет.
– Нет, ты его не отгоняй.
– Да, этак обидеть можно! – поддержала меня Настасья Петровна.
– Ну куда ж я его дену? У меня ведь все мужики; я сам мужик; а он…
– Тоже не барин, – сказал я.
– Ни барин, ни крестьянин, да и ни на что никуда не годящийся.
– Да отдай ты его Настасье Петровне.
– Право, отдай, – вмешалась она снова.
– Бери, бери, моя матушка.
– Ну и прекрасно, – сказала Настасья Петровна. Овцебык остался на руках Настасьи Петровны.
Глава десятая
В августе месяце, живучи уже в Петербурге, я получил в почтамте страховое письмо со вложением пятидесяти рублей серебром. В письме было написано:
«Возлюбленный брате!
Я нахожусь при истреблении лесов, которые росли на всеобщую долю, а попали на свиридовскую часть. За полгода дали мне жалованья 60 рублей, хотя еще полгода и не прошло. Видно, гарнитура моя под это подговорилась, но сия их великатность пусть будет втуне: я в сем не нуждаюсь. Десять целковых себе оставил, а пятьдесят, при сем прилагаемых, тотчас, без всякого письма, отошлите крестьянской девице Глафире Анфиногеновой Мухиной в деревню Дубы, – ской губернии, – ского уезда. Да чтоб не знали, от кого. Это та, которая будто жена моя: так это ей на случай, если дитя родилось.
Тут мое житье постылое. Делать мне здесь нечего, и я одним себя утешаю, что нигде, видно, нечего делать опричь того, что все делают: родителей поминают да свои брюхи набивают. Здесь все на Александра Свиридова молятся. Александр Иванович! – и человека больше ни для кого нет. До него все дорасти хотят, а что он такое за суть, сей муж кармана?
Да, понял ныне и я нечто, понял. Разрешил я себе ”Русь, куда стремишься ты?“, и вы не бойтесь: я отсюда не пойду. Некуда идти. Везде все одно. Через Александров Ивановичей не перескочишь.
Василий Богословский».
Ольгина-Пойма.
3 августа 185… года.
В первых числах декабря я получил другое письмо. Этим письмом Свиридов извещал меня, что он выезжает на днях в Петербург с женою, и просил нанять ему удобную квартирку.
Дней через десять после этого второго письма Александр Иванович с женою сидели в премиленькой квартире против Александрийского театра, отогревались чаем и отогревали мою душу рассказами о той далекой стороне,
Где сны златые снились мне.– А что же вы мне не скажете, – спросил я, улучив минуту, – что делает мой Овцебык?
– Брыкается, брат, – отвечал Свиридов.
– Как брыкается?
– Чудит. К нам не ходит, пренебрегает, что ли, все с рабочими якшался, а теперь и это, должно быть, надоело: просил, чтоб его в другое место отправить.
– Что ж вы-то? – спросил я Настасью Петровну. – На вас ведь вся надежда была, что вы его приручите?
– Чего надежда? От нее-то он и бегает.
Я взглянул на Настасью Петровну, она на меня.
– Что будешь делать? Страшна, видно, я.
– Да как же это? Расскажите.
– Что говорить? – и говорить-то не про что – просто: пришел ко мне, да и говорит: «Отпустите меня». – «Куда?» – говорю. «Я, говорит, не знаю». – «Да чем вам худо у меня?» – «Мне, говорит, не худо, а отпустите». – «Да что же, мол, такое?» Молчит. «Обидел вас кто, что ли?» Молчит, только косицы крутит. «Вы, говорю, Насте сказали бы, что́ вам худого делают». – «Нет, вы, говорит, пошлите меня на другую работу». Жаль стало мне его совсем выправить – послал на другую порубку, в Жогово, верст за тридцать. Там он и теперь, – прибавил Александр Иванович.
– Чем же вы его так разогорчили? – спросил я Настасью Петровну.
– А уж Бог его знает: я его ничем не огорчала.
– Как мать родная за ним упадала, – поддержал Свиридов. – Обшила, одела, обула. Ведь знаешь, какая она сердобольная.
– Ну, и что же вышло?
– Невзлюбил меня, – смеясь, сказала Настасья Петровна.
Зажили мы знатно с Свиридовыми в Петербурге. Александр Иванович все хлопотал по делам, а мы с Настасьей Петровной все «болтались». Город ей очень понравился; но особенно она полюбила театры. Всякий вечер мы ходили в какой-нибудь театр, и никогда это ей не наскучало. Время шло быстро и приятно. От Овцебыка я в это время получил еще одно письмо, в котором он ужасно злобно выражался об Александре Ивановиче. «Разбойники и чужеземцы, – писал он, – по мне, лучше, чем эти богатеи из русских! А все за них, и черевы лопаются, как подумаешь, что это так и быть должно, что все за них будут. Вижу я нечто дивное: вижу, что он, сей Александр Иванов, мне во всем на дороге стоял, прежде чем я узнал его. Вот кто враг-то народный – сей вид сытого мужлана, мужлана, питающего от крупиц своих перекатную голь, чтобы она не сразу передохла да на него бы работала. Сей вот самый христианин нашему нраву под стать, и он всех и победит и дондеже приидут отложеная Ему. С моими мыслями нам вдвоем на одном свете жить не приходится. Я уступлю ему дорогу, ибо он излюбленный их. Он хоть для кого-нибудь на потребу сдастся, а мое, вижу, все ни к черту не годится. Недаром вы каким-то звериным именем называли. Никто меня не признает своим, ”и я сам ни в ком своего не признал“. Затем он просил написать, жив ли я и как живет Настасья Петровна. Этим же временем из Вытегры к Александру Ивановичу зашли бондари, сопровождавшие вино с одного завода. Я их взял к себе в свободную кухню. Ребята все были знакомые. С ними мы как-то разговорились о том о сем, и до Овцебыка дошло».
– Как он у вас поживает? – спрашиваю их.
– Ничего живет!
– Действует, – подсказывает другой.
– А что он работает?
– Ну, какая от него работа! Так, невесть для чего его хозяин содержит.
– В чем же он время проводит?
– Слоняется по лесу. Указано ему от хозяина вроде приказчика рубку записывать, и того не делает.
– Отчего?
– Кто его знает. Баловство от хозяина.
– А здоровый он, – продолжал другой бондарь. – Иной раз возьмет топор да как почнет садить – ух! только искорья летят.
– А то на караул ходил еще.
– На какой караул?
– Брехал народ, что беглые будто ходят, так он по целым ночам стал пропадать. Ребята подумали, что и он не заодно ли с теми беглыми, да и подкарауль его. Как он пошел, а они втроем за ним. Видят, прямо на хутор попер. Ну, только ничего – все пустяки вышли. Сел, сказывают, под ракитой, насупротив хозяйских окон, подозвал Султанку, да так и просидел до зорьки, а зорькою поднялся и опять к своему месту. Так и в другой, и в третий. Ребята и бросили за ним смотреть. Почитай, до осени до самой так ходил. А после Успенья тут как-то ребята стали раз спать ложиться, да и говорят ему: «Полно, Петрович, на караул-то тебе ходить! Ложись-ко с нами». Ничего не сказал, а через два дни, слышим, отпросился: в другую дачу его хозяин поставил.
– А любили его, – спрашиваю, – ваши ребята-то?
Бондарь подумал и сказал:
– Ничего будто.
– Ведь он добрый.
– Да, он худа не делал. Рассказывать, бывало, когда что зачнет про Филарета Милостивого либо про другое что, то все на доброту сворачивает и против богачества складно говорит. Ребята его много которые слушали.
– И что же: нравилось им?
– Ничего. Тоже другой раз и смешно сделает.
– А что же бывает смешно?
– А вот, например, говорит-говорит про Божество, да вдруг – про господ. Возьмет горсть гороху, выберет что ни самые ядреные гороховины, да и рассажает их по свитке: «Вот это, говорит, самый на́больший – король; а это, поменьше, – его министры с князьями; а это, еще поменьше, – баре, да купцы, да попы толстопузые; а вот это, – на горсть-то показывает, – это, говорит, мы, гречкосеи». Да как этими гречкосеями-то во всех в принцев и в попов толстопузых шарахнет: все и сровняется. Куча станет. Ну, ребята, известно, смеются. Покажи, просят, опять эту комедию.
– Это он так, известно, дурашен, – подсказал другой.
Оставалось молчать.
– А из каких он будет? Не из комедиантов? – спросил второй бондарь.
– С чего это вы выдумали?
– Народ так-то баил. Миронка, что ли, сказывал.
Миронка был маленький, вертлявый мужик, давно разъезжающий с Александром Ивановичем. Он слыл за певца, сказочника и балагура. В самом деле, он иногда выдумывал нелепые утки и мастерски распускал их между простодушным народом и наслаждался плодами своей изобретательности. Очевидно было, что Василий Петрович, сделавшись загадкою для ребят, рубивших лес, сделался и предметом толков, а Миронка воспользовался этим обстоятельством и сделал из моего героя отставного комедианта.
Глава одиннадцатая
Была масленица. Мы с Настасьей Петровной едва достали билет на вечерний спектакль. Давали «Эсмеральду», которую ей давно хотелось видеть. Спектакль шел очень хорошо и, по русскому театральному обычаю, окончился очень поздно. Ночь была погожая, и мы с Настасьей Петровной пошли домой пешком. Дорогою я заметил, что моя винокурша очень задумчива и часто отвечает невпопад.
– Что вас так занимает? – спросил я ее.
– А что?
– Да вы не слышите, что́ я вам говорю.
Настасья Петровна засмеялась.
– А как вы думаете: о чем я задумываюсь?
– Трудно отгадать.
– Ну, а так, например?
– Об Эсмеральде.
– Да, вы почти отгадали; но не сама Эсмеральда меня занимает, а этот бедный Квазимодо.
– Вам жаль его?
– Очень. Вот настоящее несчастие: быть таким человеком, которого нельзя любить. И жаль его, и хотел бы снять с него горе, да нельзя этого сделать. Это – ужасно! А нельзя, никак нельзя, – продолжала она в раздумье.
Усевшись за чай, в ожидании возвращения к ужину Александра Ивановича, мы очень долго толковали. Александр Иванович не приходил.
– Э! Еще слава Богу, что в самом деле на свете таких людей не бывает.
– Каких? Как Квазимодо?
– Да.
– А Овцебык?
Настасья Петровна ударила ладонью по столу и сначала рассмеялась, но потом как бы застыдилась своего смеха и проговорила тихо:
– А ведь в самом деле!
Она придвинула свечку и пристально стала смотреть в огонь, прищуривая слегка свои прекрасные глаза.
Глава двенадцатая
Свиридовы пробыли в Петербурге до лета. Всё день за день откладывали за делами свой отъезд. Они уговорили меня ехать с ними вместе. Вместе мы ехали до нашего уездного города. Тут я сел на перекладную и повернул к матушке, а они уехали к себе, взяв с меня слово быть у них через неделю. Александр Иванович собирался тотчас же по приезде домой ехать в Жогово, где у него шла рубка и где резидировал теперь Овцебык, а через неделю обещал быть дома. У нас меня не ожидали и очень мне обрадовались… Я сказал, что с неделю никуда не выеду; мать вызвала моего двоюродного брата с женою, и начались разные буколические наслаждения. Так прошло дней десять, а на одиннадцатый или на двенадцатый, на самой ранней зоре, ко мне вошла несколько встревоженная моя старушка-няня.
– Что такое? – спрашиваю ее.
– От барковских, дружочек, к тебе, – говорит, – прислали.
Вошел двенадцатилетний мальчик – и, не кланяясь, переложил раза два из руки в руку свою шляпенку, откашлялся и сказал:
– Хозяйка тебе велела, чтоб сичас к ней ехал.
– Здорова Настасья Петровна? – спрашиваю.
– Ну, а то что ей.
– А Александр Иваныч?
– Хозяина нетути дома, – отвечал мальчик, снова откашливаясь.
– Где ж хозяин?
– У Жогови… там, вишь, случай припал.
Я велел оседлать себе одну из матушкиных пристяжных лошадей и, одевшись в одну минуту, поехал шибкою рысью в Барков-хутор. Было только пять часов утра, и дома у нас все еще спали.
В домике на хуторе, когда я приехал туда, все окна, кроме комнаты детей и гувернантки, были уже отворены, и в одном окне стояла Настасья Петровна, повязанная большим голубым фуляром. Она растерянно отвечала головою на мой поклон и, пока я привязывал к коновязи лошадь, два раза махнула рукой, чтобы я шел скорее.
– Вот напасть-то! – сказала она, встречая меня на самом пороге.
– Что такое?
– Александр Иванович третьего дня вечером уехал в Турухтановку, а нынче в три часа ночи из Жогова, с порубки, вот какую записку прислал с нарочным.
Она подала мне измятое письмо, которое до того держала в своих руках.
«Настя! – писал Свиридов. – Пошли сейчас в М. на телеге парой, чтоб отдали письмо лекарю и исправнику. Чудак-то твой таки наделал нам дел. Вчера вечером говорил со мной, а нынче перед полдниками удавился. Пошли кого поумнее, чтоб купил все в порядке и чтоб гроб везли поскорее. Не то время теперь, чтобы с такими делами возиться. Пожалуйста, поторопись, да растолкуй, кого пошлешь: как ему надо обращаться с письмами-то. Знаешь, теперь как день дорог, а тут мертвое тело.
Твой Александр Свиридов».
Через десять минут я ехал крупной рысью к Жогову. Виляя по различным проселкам, я очень скоро потерял настоящую дорогу и едва к сумеркам добрался до жоговского леса, где шла рубка. Лошадь я совершенно измучил и сам изнемог от продолжительной верховой езды по жару. Въехав на поляну, на которой была караульная изба, я увидел Александра Ивановича. Он стоял на крыльце в одном жилете и держал в руках счеты. Лицо у него было, по обыкновению, спокойно, но несколько серьезнее обыкновенного. Перед ним стояло человек тридцать мужиков. Они были без шапок, с заткнутыми за пояса топорами. Несколько в стороне от них стоял знакомый мне приказчик Орефьич, а еще далее – кучер Миронка.
Тут же стояла пара выпряженных коренастых лошадок Александра Ивановича.
Миронка подскочил ко мне и, взяв мою лошадь, с веселой улыбкой сказал:
– Эх, как упарили!
– Поводи, поводи хорошенько! – крикнул ему Александр Иванович, не выпуская счет из руки.
– Так та́к, ребята? – спросил он, обратясь к стоявшим перед ним крестьянам.
– Должно, так, Александра Иваныч, – отозвалось несколько голосов.