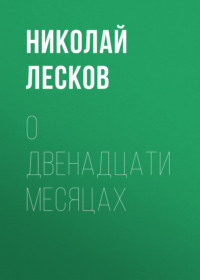Полная версия
Неразменный рубль: Повести и рассказы
Сама Настя, однако, была покойнее, хотя собственно этот покой был покой человека, которому нечего больше терять и который уже ничего не хочет пугаться. Только она еще будто немножко побледнела в лице, и под глазами у нее провелись синие кружки.
Потчевали Настю и капустой и медом, но она ничего не хотела есть. Спрашивали ее, отчего мужа с собою не привела, но она ничего на это не отвечала, – «пора ко двору», – собралась и ушла.
И стала таким манером Настя жить в свекровом доме, как и другие невестки, и стали ее все уважать и заговорили с ней ласково. С мужем она никогда не говорила, ни при людях, ни без людей. За это на нее иногда серчал свекор, но как она вообще и ни с кем не была разговорчива, то и это на ней не взыскивали. «Молчаливая» да «молчаливая она у нас»; так и оставили. Так прошла масленица, пришел Великий пост, Настя ходила говеть, исповедовалась и причащалась. Пришли «суроки», на дворе стало крепко теплеть. Зима отошла, и белый снег по ней подернулся траурным флером; дороги совсем почернели; по пригоркам показались проталины, на которых качался иссохший прошлогодний полынь, а в лощинах появились зажоры, в которых по самое брюхо тонули крестьянские лошади; бабы городили под окнами из ракитовых колышков козлы, натягивали на них суровые нитки и собирались расстилать небеленые холсты; мужики пробовали раскидывать по конопляникам навоз, брошенный осенью в кучах. Голодные грачи жадно хватали из навоза круглые коричневые комья и, носясь с оглушительным криком над деревнею, оспаривали друг у друга скудную добычу. Письмоводитель станового переносил из избы в избу мертвое тело, явившееся наружу из-под осевшего снега, и собирал с мужиков контрибуцию за освобождение их от вскрытия в их доме позеленевшего трупа. Словом, наступила весна, со всем тем, чем она обыкновенно знаменует свое пришествие к нам на Гостомле.
Было Вербное воскресенье. День был светлый, теплый, солнечный. На дворе так хорошо, что не входил бы под крышу. Небо бледно-голубое, подернуто разорванными белыми облаками; воздух пропитан животворным теплом, и слышен крепкий запах оттаивающей земли и навоза. Над прогалинами вверху заливаются голосистые жаворонки, а на завалинах изб несметными стадами толкутся под обаянием весенних побуждений сладострастные воробьи. Все хочет жить; все собирается жить; все просит жизни. Чуется во всем пора любви, пора темных желаний, томительных, и тоски безграничной для тех, кому не с кем делить ни горя, ни радостей.
У Прокудиных дома оставалась только одна Домна. Все ушли к церкви, на ярмарку; даже ребятенок старших с собою забрали. А самые младшие со всей деревни собрались на стог кострики и, барахтаясь там, играли в свои ребячьи игры. Настя рано утром пошла навестить кузнечиху Авдотью, которая, поднимая хлебную дежу, надорвалась и лежала нездоровою. Посидела Настя у кузнечихи с часок и пошла домой. Так ей и хорошо было, как она шла полями, и мучительно; даже страшно стало. Пошла она шибче, шибче, а кругом все тихо, только слышно, как трухлый снег подтаивает и оседает. Дорога была тяжелая, потому что нога просовывалась и вязла. Устала Настя и, войдя в избу, села на лавку против самой печки, у которой стряпалась Домна.
– Аль уморилась? – спросила ее Домна.
– Уморилась, Домнушка.
– Что так? Недалече, чай?
– Недалече, да уморилась. Тяжко больно ходить-то стало.
– Ты гляди, бабочка, не тяжела ли сама-то стала? – спросила Домна, пристально глядя на Настю.
– И, Бог с тобой! Что только вздумаешь! – проговорила, покраснев, Настя.
– Что вздумаю! Это, девушка, неш долго?
– Бог с ними.
– Дети-то?
– Да.
– Ну, ведь там хочешь не хочешь, а уж на то ты баба теперь.
– Помилуй Господи!
– Аль рожать боишься?
– Что рожать! Люди рожают, да живы. А хоть бы умереть, так в ту ж бы пору.
– Так что ж: с деткой-то лучше, веселей-ча.
Настя молчала и смотрела в огонь печи.
– Чего ты не раздеваешься? Жарко в свите-то, да еще подпоясамшись.
– Сичас, – ответила Настя, а сама, не трогаясь с места, все продолжала смотреть в огонь.
– Нет, ты, касатка, этого не говори. Это грех перед Богом даже. Дети – Божье благословение. Дети есть – значить Божье благословение над тобой есть, – рассказывала Домна, передвигая в печи горшки. – Опять муж, – продолжала она. – Теперь как муж ни люби жену, а как родит она ему детку, так вдвое та любовь у него к жене вырастает. Вот хоть бы тот же Савелий: ведь уж какую нужду терпят, а как родится у него дитя, уж он и радости своей не сложит. То любит бабу, а то так и припадает к ней, так за нею и гибнет.
– Любит, – тихо промолвила Настя.
– Известно, любит. Ну и она его жалеет; нечего сказать, добрая баба.
– И она любит, – опять проговорила Настя.
– Ну иной и не то чтобы уж очень друг с дружкой любилися, а как пойдут ребятки, так тоже как сживутся: любо-два. Эх! не всем, бабочка, все любовь-то эта приназначена.
– С чего же не всем?
– Да ишь вот не всем.
– Это все люди делают.
– Известно, люди, либо опять, так сказать, нужда то же делает.
– Нет, все люди.
Обе невестки замолчали.
– Вот только что у тебя муж-то не такой, как у добрых людей, – продолжала Домна.
Настя покраснела, как будто ее поймали на каком-нибудь преступлении или отгадали ее сокровенную мысль.
– И чудно как это, – продолжала Домна.
– О-ох! – болезненно произнесла Настя.
– Что тебе?
– Ничего.
– Чудно это, я говорю, как если любишь мужа-то, да зайдешь в тяжесть и трепыхнется в тебе ребенок. Боже ты мой, Господи! Такою тут мертвой любовью-то схватит к мужу: умерла б, кажется, за него; что не знать бы, кажется, что сделала. Право.
А Настя ни словечка не отвечает; брови сдвинула и все смотрела, смотрела в огонь, да как крикнет не своим голосом:
– Ой! ой!
– Что ты? что ты, Настя? – бросилась к ней Домна.
– Ой! сосет, сосет меня!
– Кто сосет? где?
– За сердце, за сердце. Ой! ой!
– Что ты, Бог с тобой! Испей водицы.
– Нет, сосет! сосет! Пусти, пусти меня. Ай! ай! отгони, отгони!
– Да кого отогнать? – спросила перепуганная Домна.
– Змей, змей огненный, ай! ай! За сердце… за сердце меня взял… ох! – тихо докончила Настя и покатилась на лавку.
У нее началась жестокая истерика. Она хохотала, плакала, смеялась, рвала на себе волосы и, упав с лавки, каталась по полу.
IXЧасто с Настею стали повторяться с этого раза такие припадки. Толковали сначала, что «это брюхом», что она беременна; позвали бабку, бабка сказала, что неправда, не беременна Настя. Стали все в один голос говорить, что Настя испорчена, что в ней бес сидит. Привезли из Аплечеева отставного солдата-знахаря. Тот приехал, расспросил обо всем домашних и в особенности Домну, посмотрел Насте в лицо; посмотрел на воду и объявил, что Настя действительно испорчена.
– И испорчена она, судари вы мои, – сказал знахарь, – злою рукою и большим знахарем, так что помочь этому делу мудрено: потому как напущен на нее бес, называемый рабин-батька. Есть это что самый наизлющий бес, и выгнать его больно мудрено.
Прокудин, к чести его сказать, заботился о невестке и усердно просил знахаря, обещая ему дать, что он ни потребует; а Петровна в ногах у него валялась.
Поломался знахарь, взял десять рублей на лекарства и сказал, что попробует.
Стал он над Настей что вечер шептать, да руками махать, да слова непонятные выкрикивать; а ей стало все хуже да хуже. То в неделю раз, два бывали припадки, а то стали случаться в сутки по два раза. На семью даже оторопь нашла, и стали все Насти чуждаться.
– Что ж, как? – спрашивал Прокудин знахаря.
– Упрям, шельма! Все внутрь в утробу он прячется.
– Не можешь ли сказать, кто это на нее напустил? Пошли бы уж к нему поклониться, пусть только назад вызовет.
– Нельзя этого никак.
– Вызвать-то?
– Нет, сказать…
– Отчего?
– Не ровён час.
– Да ведь ты ж говорил, что их-то ты не боишься.
– Да я не боюсь, а…
– Что же?
– Да видишь, это огневой.
– Ну так что ж, что огневой.
– Ну и нельзя, значит, узнать, кто его посадил.
– Отчего же так?
– Да как же ты узнаешь! Теперь, если по воде пущен, – ну сейчас на воде видать тому, что на этом знается. Опять есть ветряные, что по ветру напущены; ну опять, кто его напустил, тоже есть средствие узнать. А огневого как ты узнаешь? Огонь сгорел, и нет его. Узнавай по чему хочешь!
– Да, да, да! – протянул Исай Матвеич. – Вот она штука-то!
– А, то-то и есть!
– Ну, а кабы в те поры, как с ней это случилось, как еще печка топилась, можно бы было узнать?
– Гм! Не то что когда печка топилась, а если б, к примеру, позвали меня, когда еще хоть один уголек оставался, так и то сейчас бы все дело было перед нами.
– Поди ж ты!
Насте все делалось хуже. Все она тосковала, и, видя, что все ее стали бояться, сама себя она начала бояться.
– Что вы меня все этими наговорами лечите? – говорила она свекру с свекровьей. – Какой во мне бес? Я просто больна, сердце у меня ноет, сосет меня что-то за сердце, а вы все меня пугаете с дедами да с бабками.
– Это он все в ней хитрует, – говорил солдат. – Видно, ему жутко от меня приходит.
Солдату верили не верили, а деньги платили.
– Вот что, – сказал солдат. – Мне ее здесь у вас неловко лечить, потому что тут он все имеет в печке свое обчество; а отвезите вы ее ко мне.
Отвезли Настю к солдату, и денег дали, и муки, и жмыхи, и масла. Пробыла Настя у своего лекаря два дня, а на третий вечером пришла домой и ни за что не хотела к нему возвращаться. Солдат тоже за ней не гнался, но довольствовался тем, что получил, и, видя свою неустойку, рассказывал, что бес, сидящий в Насте, распалил ее к нему «страстью». «Ну я, Боже меня сохрани от этих глупостей! Я свой закон содержу; она и ушла». Настя могла бы рассказать дело и с иной стороны, да поверили ли бы ей? Ей даже не верили, что в ней нет беса, хотя она и Богу молилась, и людей жалела больше других, не находящих в себе беса. Она уж и не пыталась ничего за себя говорить и жила – сохла без всякой жалобы. Что говорить напрасно! У нас уж всем известно правило, и пословица говорится: «Пил не пил, а коли говорят пьян, – так иди лучше спать ложись». А припадки все не прекращались. Стала Настя такая мудреная, что чуть на нее кто скажет громко, или крикнет изнавести, или невзначай чем стукнет, она так вся и задрожит. А если тут на нее глянуть пристально или заговорить с ней о том, что близко ее сердцу, сейчас у нее припадок. Пойдет ее корчить, ломать, и конца нет мукам.
Дошло это до отца Лариона, нашего приходского священника. Он, едучи с требой, завидел Исая Матвеевича и сказал, что над его невесткой можно прочесть чин заклинания.
Пошла Настя с семейными к обедне. Пошли они рано и прямо завели Настю к отцу Лариону.
– Пусть батюшка над тобой почитает.
– Что почитает? – спросила с изумлением Настя.
– Молитвы.
– Какие молитвы?
– Он уж знает.
– На что надо мной читать?
– О твоем здоровье.
– Что вы только затеваете?
Вошел отец Ларион, облачился, взял себе одну зажженную восковую свечу, а другую дал Насте и, благословив зачало, стал читать по Требнику заклинание на злого духа.
В комнате было открыто окно, и из этого окна был виден зеленый сад, где утреннее солнышко, «освещая злыя и добрыя», играло по новым изумрудным листочкам молодого вишенника и старых яблонь. У Насти защемило сердце, и она бросилась к открытому окну. Она хотела только стать у окна, дыхнуть свежим воздухом, посмотреть на вольный мир Божий, а четыре сильные руки схватили ее сзади и дернули назад. Настя, болезненно настроенная, испугалась, вскрикнула и отчаянно рванулась. Но Прокудин и Вукол крепко держали ее за локти, и нельзя ей было вырваться. Стала Настя биться у них в руках, побледнела как смерть и кричит:
– Ай! ай! не мучьте меня, пустите, пустите!
– Держи, Гришка! – сказал Прокудин.
Григорий, по отцовскому приказанию, схватил жену под плечи и не давал ей пятиться. Настя вскрикнула еще громче и рванулась так, что трое насилу ее удержали, но тотчас же стихла и опустилась на держащие ее руки. Священник накрыл больную епитрахилью и окончил чтение заклинаний.
Настя долго оставалась без чувств, как мертвая.
Через час Настя очнулась, обедня уже кончилась, и ее повели домой. Она была очень слаба, и глаза у нее были нехорошие, мутные. Настя шла грустно, но покойно, да у самого поворота к дому стали у нее над ухом перешептываться бабы: «испорченная, испорченная», она и стала метаться. Прокудин с другим стариком-соседом взяли ее опять за руки, пройдя несколько шагов. Настя не сопротивлялась, но стала охать: «ох!» да «ох!» Все от нее сторонятся, смотрят на нее, а она еще пуще, все охает и все раз от разу громче, да вдруг и хлоп с ног долой, да и закричала на всю улицу: «А-ах! а-х! Извести меня хотят! А-ах! Злодеи! Не дамся я вам, не дамся!»
– Ишь как он в ней раскуражился-то! – говорил народ, когда Настю понесли на руках и положили на зеленой могилке, где она и очнулась.
Вернулись все домой, а Насти не было. Два дня и три ночи она пропадала. Ездили за ней и к кузнецу, и к Петровне, но никто ее нигде не видал. На третий день чередников мальчишка, пригнавши вечером овец, сказал: «А Настька-то прокудинская в ярушках над громовым ключом сидит». Поехали к громовому ключу и взяли Настю. Дома она ни на одно слово не отвечала. Села на лавку и опять охать.
– Ох! куда деться! Куда деваться? Куда деться? Куда деваться?
Повторяет все это и из стороны в сторону качается, будто как за каждым вопросом хочет куда-то метнуться. То в окно глянет, то на людей смотрит, – жалостно так смотрит и все стонет: «Куда деваться? Куда деваться?»
Часть вторая
IОтличный был домик в О-е у Силы Иваныча Крылушкина. Домик этот был деревянный, в два этажа. С улицы он казался очень маленьким, всего в три окна, а в самом деле в нем было много помещения; но он весь выходил одною стороною в двор, а двумя остальными в старый густой сад. Домик этот стоял в глухом переулке, у Никитья, за развалинами огромного старинного боярского дома, в остатках которого помещалось духовное училище, называемое почему-то Мацневским. Это было у самого выезда, по новугорской дороге. Старик Крылушкин давно жил здесь. В молодости он тут вел свою торговлю, а потом, схоронив на тридцатом году своей жизни жену, которую, по людским рассказам, он сам замучил, Крылушкин прекратил все торговые дела, запер дом и лет пять странничал. Он был в Палестине, в Турции, в Соловках, потом жил с каким-то старцем в Грузии и, научившись от него лечению, вернулся в свое запустелое жилище. Приведя домик в возможный порядок, Крылушкин стал принимать больных и скоро сделался у нас очень известным человеком. Он с бедных людей ничего не брал за леченье, да и вообще и с состоятельных-то людей брал столько, чтоб прожить можно больному. Сам Крылушкин жил доходом с своего большого плодовитого сада, который сдавал обыкновенно рублей за двести или за триста в год. Этого было достаточно Крылушкину, до крайности ограничившему свои потребности. Его умеренность и бескорыстие были известны целому городу и целой губернии. О-ие кумушки говорили, что, мол, Крылушкин или не мол, а ему не отмолить своего греха перед женою, которую он до поры сжил со света своей душой ревнивою да рукой тяжелою; но народушка не обращал внимания на эти толки. Говорили: «Бог знает, что у него там есть на душе: чужая душа – потемки; а он нам помогает и никем не требует; видим, что он есть человек доброй души, христианской, и почитаем его».
Под старость, до которой Крылушкин дожил в этом же самом домике, леча больных, пересушивая свои травы и читая духовные книги, его совсем забыли попрекать женою, и был для всех он просто: «Сила Иваныч Крылушкин», без всякого прошлого. Все ему кланялись, в лавках ему подавали стул, все верили, что он «святой человек, Божий».
За леченье Насти Сила Иваныч взял только по два целковых в месяц, по два пуда муки да по мерке круп. Вылечить он ее не обещался, а сказал: «Пускай поживет у меня, – посмотрим, что Бог даст». В это время у него больных немного было: две молодые хорошенькие подгородние бабочки с секундарным сифилисом, господская девушка с социатиной в берцовой кости, ткач с сильнейшею грудною чахоткою, старый солдат, у которого все открывалась рана, полученная на бородинских маневрах, да Настя. В доме был простор, и Сила Иванович мог бы дать Насте совсем отдельное помещение, но он не поместил ее внизу, с больными, а взял к себе наверх. Наверху было всего четыре комнаты и кухня. Две из этих комнат занимал сам Крылушкин, в третьей жила его кухарка Пелагея Дмитревна, а в четвертой стояли сундуки, платье висело и разные домашние вещи. В этой комнате поместил Крылушкин привезенную к нему Настю.
– Вот тебя тут, Настасьюшка, никто не будет беспокоить, – сказал Крылушкин, – хочешь, сиди, хочешь, спи, хочешь, работай или гуляй, – что хочешь, то и делай. А скучно станет, вот с Митревной поболтай, ко мне приди, вот тут же через Митревнину комнату. Не скучай! Чего скучать? Все Божья власть, Бог дал горе, Бог и обрадует. А меня ты не бойся; я такой же человек, как и ты. Ничего я не знаю и ни с кем не знаюсь, а верую, что всякая болезнь от Господа посылается на человека и по Господней воле проходит.
Пелагея Дмитревна была слуга, достойная своего хозяина. Это было кротчайшее и незлобивейшее существо в мире; она стряпала, убиралась по дому, берегла хозяйские крошки и всем, кому чем могла, служила. Ее все больные очень любили, и она всех любила ровной любовью. Только к Насте она с первого же дня стала обнаруживать исключительную нежность, которая не более как через неделю после Настиного приезда обратилась у старухи в глубокую сердечную привязанность.
Это было в первой половине мая.
Прошло две недели с приезда Насти к Крылушкину. Он ей не давал никакого лекарства, только молока велел пить как можно больше. Настя и пила молоко от крылушкинской коровы, как воду, сплошь все дни, и среды, и пятницы. Грусть на Настю часто находила, но припадков, как она приехала к Крылушкину, ни разу не было.
Прошла еще неделя.
– Ты, Настасьюшка, кажись, у меня иной раз скучаешь? – спросил Крылушкин.
– Да што, Сила Иваныч? – отвечала Настя, сконфузясь и улыбаясь давно сошедшей с ее милого лица улыбкой.
– Это нехорошо, молодка!
– Да неш я себя хвалю за это! Да никак с собой не совладаешь.
– Ты б поработалась.
– Что поработать-то! Я с моей радостью великою.
– Вон Митревне помогала бы чем-нибудь.
– Да я ей бы помогала.
– Да что ж?
– Не пущает: все жалеет меня.
– Митревна! – крикнул Крылушкин. – Ты зачем не пущаешь Настю поработаться?
– О-о! да пускай она погуляет, – отвечала старуха с нежнейшим участием к своей любимице.
Крылушкин засмеялся, поправил свои белые волосы и, смеясь же, сказал:
– Что-то ты у меня на старости-то лет не умна уж становишься? Да разве я Настю для своей корысти приневоливаю работать?
– О! да я это знаю, да…
– Да что? Сказать-то и нечего, – поддразнил опять, смеясь, Крылушкин.
– Да пущай погуляет, – досказала старуха.
– Не слушай ее, Настя, Господь Сам заповедал нам работать и в поте лица есть хлеб наш. У тебя руки, слава Богу, здоровы, – что вздумаешь, то и работай.
– Чулки неш вязать?
– На что тебе чулки?
– На базар продать.
– Пусто им будь, этим чулкам! это ледящая работа. Тебе ведь денег не нужно?
– Мне на что же деньги?
– Ну то-то и есть; так и чулки не на что вязать, гнуться на одном месте.
– Да что ж делать-то? – спросила опять Настя и сама опять рассмеялась.
Крылушкин, улыбаясь, вышел в свою комнату и через минуту возвратился оттуда с парою своих старых замшевых перчаток.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.