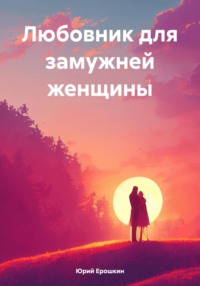Полная версия
При советской власти
Алёна безропотно, точно жила ещё в доме отцовском, подчинилась воле Данилы Никитича, а Пётра, на подъём лёгкого, долго и уговаривать не пришлось. Не сроднился он с жизнью деревенской накрепко, так, чтобы без неё всё не в радость было. Не возражал на городскую жизнь её сменять, давно его манившую (с детства ещё слышал разухабистые рассказы отца, возвращавшегося с заработков) А если отторгнет город пришельцев незваных, завсегда можно обратно в Малую Дорогинку вернуться.
И в конце двадцатых годов, уложив на телегу кое-какие пожитки, отправились Пётр и Алёна Митричевы в Москву. Сыновей своих за собой в неизвестное не потянули. Вот обживутся, осмотрятся, тогда и Гришутку с Павликом выпишут.
3
Москва не сразу приняла Митричевых. И работу не просто отыскать было, и угол, где голову приклонить тоже. И голод, и холод изведали Пётр с Алёной, пока, наконец, судьба не смилостивилась над ними. Встретил Пётр земляка, Колупаева Трофима, работавшего в конном парке артели «Мостранса» ветфельдшером. И хотя прежде особой дружбы меж ними не наблюдалось, оба были искренне рады, что в таком огромном городе им свидится довелось.
Неожиданную встречу обмыли, как полагается, зайдя в душную и шумную пивную на Сретенке. Захмелев, Пётр пожалился Трофиму на судьбу-злодейку, то и дело, как избушка на курьих ножках, поворачивающуюся к нему задом. Всерьёз задумываться стал о возвращении в деревню.
– А что там? – махнул рукой Трофим, медленно, словно корова, пережёвывая корку хлеба. – Сеструха пишет, в колхоз всех загоняют силком, велят и скотину отдавать, и зерно – всё! Осталось им мышей туда да баб!
У Петра сердце защемило, о своих стариках вспомнил. Давненько известий от них не получал, да и сам письмецо который уже месяц отписать собирался. Только о чём писать, о нужде беспроглядной?
Трофим пообещал помочь земляку и слово своё по ветру не пустил. Устроил его в артель, где сам трудился, и сделался Пётр извозчиком. А Алёну там же приткнули уборщицей, над ней шефство взяла жена Трофима Аглая. Кроме этого на пару с той же Аглаей Алёна подрабатывала, стирая грязное до черноты бельё извозчиков. Вскоре и угол свой Митричевы заимели, опять же не без хлопот Трофима.
В сыром, полутёмном подвале общежития ломовых извозчиков, что стоял на Троицкой улице под четырнадцатым номером дали Пётру и Алёне небольшую комнатёнку с одним окошком, расположенным почти под потолком. Слегка обжившись, прикупив кое-какую мебелишку, выписали Митричевы сынов своих, Гришутку и Павлика, по которым крепко стосковались за два года городских мытарств.
Дети не шибко обрадовались переезду в город. Особенно горевал Гришутка, которому страсть как не хотелось менять деревенское раздолье на скованную домами тесную Москву. А Павлик заревел в голос и побежал прятаться за бабу Пашу, когда Алёна попыталась взять его на руки: отвык за два почти года от мамки, забыл её совсем.
Гришутка весь неблизкий путь до Москвы промолчал, насупившись. Горько было покидать родную деревню, хороших приятелей. Перед глазами его стоял бревенчатый под соломенной крышей дом в два небольших оконца с примыкавшим к нему двором, где прошло его детство. Перед домом росла могучая ветла, дававшая в знойные летние дни тень и вожделенную прохладу. Неподалёку от дома стояла старая деревянная школа, в которой Гришутка проучился целых четыре класса. Вспоминал он и обширный пруд, находившийся в глубокой ложбине на окраине деревни возле дороги, ведущей в Рябцево. Пологие склоны его, обросшие травой, сквозь которую то там, то здесь проглядывал жёлтый песок и суглинок. Ивы склоняли свои ветви над тихими тёмными водами. Вспоминались и купания, когда, раздевшись догола, всей ватагой прыгали, крича и смеясь с обрыва. Вспоминалось, как замерев, глядел Гришутка на неподвижно стоявший на поверхности воды поплавок, выструганный из сосновой коры, в надежде, что вот-вот его утащит на дно огромная рыбина, вытащив которую можно будет прославиться среди ребят не только своей, но и всех окрестных деревень.
Но более всего Гришутке теперь, на пути в Москву, вспоминалось, как купался он вместе с лошадьми – он очень любил этих красивых и умных животных. Ухватится, бывало за хвост лошадиный и плывёт на другой берег с кем-нибудь наперегонки. А потом, до хрипоты наспорившись, кто приплыл первым, – плывёшь обратно, надеясь обогнать своего соперника теперь уже вчистую.
А ещё из раннего детства вспомнилось почему-то… Было ему в ту пору голика три-четыре. На дворе морозно, снег блестит на солнце так, что рябит в глазах, заставляя щуриться. Бабка Паша укутывает его в плотный шерстяной платок, связывает длинные концы его за спиной узлом, а затем накрывает большим овчинным тулупом и несёт в сани, в которые уже запряжена гнедой масти с лысинкой на храпе нетерпеливая молодая кобылка по кличке Лыска. По деревне ехали тихо, деду Ивану приходилось сдерживать готовую пуститься в галоп Лыску. Но за деревней, любивший быструю езду дед Иван, дал ей волю. Почувствовав это, Лыска благодарно заржала и рванула вперёд что было сил. Только и слышен был в морозной тишине скрип саней, фырканье кобылки да звон колокольчика под дугой. И снег из-под копыт оседал морозной пылью на лице… у Гришутки аж дух перехватывало!
Дед Данила и бабка Акулина угощали всем, что у них было. Гришутке особенно запомнились мочёные яблоки, чья упругая кожица звонко лопалась, когда он вонзал в неё острые зубки и рот тотчас же наполнялся кисловато-сладким холодным соком. А ещё были пышные ноздреватые оладушки с мёдом. Казалось, прозрачно-жёлтый солнечный луч, назойливо преследовавший Гришутку во весь путь, юркнул за ним в избу не прошеным гостем, с разбегу угодив в глубокую глиняную миску, до краёв наполненную мёдом. И выбраться оттуда уже не мог, завяз, окрасив её содержимое янтарным цветом. И вот всё это уходило в прошлое, а впереди его ждала какая-то Москва, где всё, всё чужое!
Короткая, узкая Троицкая улица располагалась между 4-ой Мещанской и Самотёчной площадью. Была застроена она в основном двух и трёхэтажными домиками, тесно примыкавшими друг к дружке, словно и они, как семейство Митричевых, приехали недавно откуда-то издалека и держались все вместе в этом большом, незнакомом пока что для них городе. Но были тут и четырёх и даже пятиэтажные громилы, украшенные по фасаду разнообразной лепниной с небольшими окнами-бойницами. И широкая улица совсем неподалёку имелась – Садовая-Сухаревская, проще – Сухаревка. Она отчасти напоминала Гришутке просёлочную дорогу, делившую Малую Дорогинку на две части. Но эти сравнения пришли к нему многим позже, когда он уже достаточно хорошо освоился на новом для себя месте. А пока, оглядев угрюмо крохотную комнатушку с ржавыми разводами на потолке, где ему теперь предстояло жить, Гришутка отправился во двор, заводить знакомство с местными ребятами. Если что, он смог бы и постоять за себя, но начинать с этого не хотелось. Ну а там, как получится.
Двор был невелик. Пара скамеек, столик для доминошников, деревянная поверхность которого была изъедена червячком. Под аркой соседнего, четырёхэтажного дома он заприметил кучковавшихся ребят, что-то живо обсуждавших и не обративших внимания на появившегося во дворе новосёла. Сплюнув через передние зубы, Гришутка сунул руки в карманы пиджака, перешитого матерью из старого отцовского, и решительно направился к ребятам. Но не успел он и пары шагов сделать, как в него откуда-то сзади полетели камни. Первый больно ударил в плечо, второй ожог щёку. Гришутка проворно отскочил из опасной зоны обратно под подъездный козырёк, по железной обшивке которого тотчас же, словно град, застучали камни. Но, поняв, видимо, тщетность своих попыток достать жертву, невидимый «артиллерист» обстрел прекратил. Тут же к немного растерянному Гришутке подбежали ребята, стоявшие под аркой. Он приготовился было дать им отпор, но те пришли с миром.
– Это Шурка Шишков, он нервный, – объяснил Гришутке белобрысый паренёк в застиранной косоворотке, – он камни днём набирает, потому что ночью кошки мяучат.
–Я-то не кошка.
– Если пацаны возле дома ходят ему тоже не нравится, нервный. Иной раз и во взрослых запустит.
Когда познакомились, Гришутка заметил своим новым товарищам, что Шурку этого нужно хорошенько отлупить, и он сразу нервным быть перестанет.
– Ты что-о-о…– в некотором испуге даже возразили ему ребята.
Понятное удивление Гришутки, вызванное таким ответом, разъяснилось быстро.
Отец Кольки работал механиком в гараже ВЦИКа, и Шурка, ощутив значимость должности своего отца, смотрел на ребятню дворовую свысока. Шишков-старший каждую неделю приносил домой огромную коробку с продуктами. И Шурка, чтобы подразнить вечно голодных ребят выйдет, бывало во двор и у всех на виду уплетает бутерброд – на белом куске хлеба, густо намазанном маслом, лежала толстым слоем чёрная икра. Доев, сытно отрыгивал и вразвалочку удалялся домой. У ребят руки чесались проучить этого «буржуя недобитого», но взрослые раз и навсегда запретили даже смотреть в его сторону. А то не ровён час, пришьют дело политическое, мол, умысел был направлен на то, чтобы товарищ Шишков, переживая за безопасность сына, плохо починил автомобиль, на котором ездят руководители партии и государства. Потому и не трогали Кольку. И от этой безнаказанности он совсем опьянел, если кто косо на него посмотрит, грозил пожаловаться отцу и тогда, мол, никому не поздоровится.
– Власть новая, а живёт по-старому, – иной раз вздохнёт кто за доминошным столиком.
– На то она и власть, чтобы жить всласть, – ответит ему сосед, оглядевшись предварительно, нет ли поблизости ребятишек или кого чужого. А другой доминошник, занеся повыше руку с костяшкой, чтобы крепче припечатать её к столу посоветует:
– Молчи больше, проживёшь дольше.
Этот мудрый совет люди всё чаще стали давать друг другу. Шли тридцатые годы, раскручивался маховик репрессий. Позади было громкое дело так называемой Промпартии. Кто-то случаем принёс во двор газету «Правда» и оставил на столе доминошников. В газете этой и вычитали о страшной антисоветской организации, созданной с вредительскими целями буржуазно-технической интеллигенцией, опиравшейся на помощь из-за границы. Здесь же напоминали и о похожем «Шахтинском деле», в участниках которого также фигурировали инженеры и техники, действовавшие в некоторых районах Донбасса по заданию белоэмигрантского «Парижского центра»…
Среди извозчиков вредителей пока что выявлено не было, но Алёна не раз предупреждала Петра, чтобы не болтал лишнего. Особенно спьяну.
А о том, что творится в деревне, знала не понаслышке: Алёна регулярно списывалась с роднёй. И без того не шибко богатые рязанские хозяйства были разорены почти дотла всеобщей коллективизацией. А сопротивлявшихся ей сажали по тюрьмам, ссылали в Сибирь, а то и расстреливали. И над Данилой Никитичем, не пожелавшим добровольно вступать в колхоз, нависла, было, угроза. Да выручило давнее родство с Иваном Митричевым, некогда бывшим первым председателем сельсовета в Малой Дорогинке. О том, что председательство это не длилось и дня и выглядело скорее комично, властью забылось. Напротив, она уверена была, что Иван геройски защищал её в неравной схватке с бандой, внезапно нагрянувшей в деревню. Кто и когда распустил эту небылицу, неизвестно было, но власти с уважением относились к «потомственному» бедняку Ивану Петровичу Митричеву, а равно и к его родственникам, в том числе и Даниле Никитичу. Это родство спасло Данилу Никитича от жестокой кары за отказ вступать в колхоз.
Алёна же, про всё узнав, уразумела, наконец, смысл сказанных батюшкой слов перед её венчанием: так надо, дочка, потом сама меня благодарить будешь. Будет, будет, конечно, и не раз…
Несмотря на то, что работали и Пётр, и Алёна не покладая рук, жили они бедно, для них хлеб белый да масло в отличие от семейства Шишковых были почти недосягаемой роскошью. Разве что на праздник могли этим лакомством ребятишек побаловать и то не на каждый: на Рождество, на Пасху (Алёна признавала только религиозные, те, что установила новая власть, за праздники не считала.) Обычно же на пару с Прасковьей Колупаевой, с которой хорошо сдружилась, Алёна ездила через весь город на конный рынок за гольём да ливером и варила потом похлёбку на несколько дней сразу.
Нет-нет, да вспоминала она с горьким сожалением, как жила в достатке в доме батюшки своего и завидовала тем, кто теперь жил обеспечено, забот не зная. Тем же Шишковым, например. И пеняла Петру на нужду беспросветную, в которой оказалась ныне. А того зависть не мучила. Кто-то лучше их живёт?
– А ты глянь по сторонам, сколь людей хужее нашего живут! – не унывал он.
Оно так, конечно, но ведь и им стало бы маленечко полегче, если бы Пётр не пил хотя бы. Но как это, обитая среди ломовых извозчиков да не пить?
Однажды Петра и Алёну, как ударников труда, премировали билетами в Большой театр. Все три дня до субботы Алёна была как в лихорадке, шутка ли, поход в театр, в котором отродясь не бывали и даже не слыхивали, что есть такой! Большой… наверно, этажей много, решила для себя Алёна. А вот название спектакля насмешило: Любовь к трём апельсинам. Придумают же!
Волнение её передалось не только сыновьям, гордыми за родителей, но и многочисленным соседям. Особенно возбуждён был старик Арон Моисеич, неизвестно как получивший комнату в общежитии ломовых извозчиков. Он с восхищением рассказывал о великом Прокофьеве, о каких-то даваемых им острых музыкальных характеристиках, оригинальных, ни на что не похожих средствах выражения, о потрясающей человечности его музыки… Алёна, наслушавшись всего этого, так разволновалась, что у неё желудок не выдержал. Чуть успокоившись, она надумала было отказаться от билетов, но Арон Моисеич с неподдельным ужасом в глазах, умолил её не делать этого ни в коем случае.
А вот Пётр был абсолютно спокоен, словно посещение театров было для него делом привычным.
Наступила суббота. С утра Пётр, как обычно сходил с сыновьями в Самотечные бани, попарился от души. После бани ограничился лишь парой кружек пива – пообещал Алёне не злоупотреблять в такой день. И хоть Трофим Колупаев уговаривал его тяпнуть хотя бы по маленькой, отказался наотрез. Тем более на выходе из мужского отделения его поджидала Алёна. Дождавшись, сопроводила домой, крепко держа за руку. А по другую руку Петра шли Гришутка с Павликом.
Пообедали, поспали с часок и стали собираться. На остановке «Самотечная площадь» Пётр вошёл в трамвай первым, и пока Алёна расплачивалась с кондуктором за билеты, прошёл быстрым шагом вагон насквозь и выскочил через переднюю площадку. Алёна, не сразу обнаружив обман, проехала остановку и в слезах вернулась домой.
Пётр заявился лишь на следующее утро. Без нового бобрикового пальто, которое надел один-единственный раз – Алёне приходилось экономить на всём, чтобы справить мужу такое пальто, – весь помятый и ещё не протрезвевший.
– Где пальто, куда пальто девал, изверг? – ужаснулась Алёна.
Пётр вздохнул тяжко.
– Понимаешь, нищий замерзал, я пожалел, отдал… – и тут же покаянно: – Прости, Алёнка, более такого не повторится!
Алёна заголосила, сбежались соседи. Отплакавшись, она подошла к Петру, сидевшему с виноватым видом на краешке табуретки у двери, и слегка треснула ему по лбу подвернувшейся под руку поварёшкой. Пётр принял это как должное, почёсывая ушибленное место. Сам он, трезвый ли, пьяный, рукам воли никогда не давал, бить Алёну у него и в мыслях не было. И вообще в драку никогда не лез. Скорее чтоб побалаганить иной раз, поймав нетрезвым взглядом в коридоре рыжеволосого соседа, поднесёт ему под крючковатый нос, пахнущий конским потом кулак:
– Хошь в морду, Арон?
– Что вы, Пётр Иваныч, я вас так уважаю.
В эти минуты в глазах старого еврея отражалась едва ли не вся многовековая скорбь его народа.
– Не хочешь, – с показным сожалением делал вывод Пётр. – Ну, как хочешь, – и, посмеиваясь, уходил к себе в комнату.
Его каждый раз забавляло, что Арон принимал эти пустые угрозы всерьёз, хотя знал наверняка, он его и пальцем не тронет. Подыгрывал ему, может быть, или… или… Впрочем, кто знает, что у этих евреев на уме?
Меж тем Гришутка и Павлик подрастали, денег, чтобы одеть, обуть и накормить их требовалось всё больше, а их было всё меньше и меньше из-за постоянного пьянства отца. Друга его, Трофима Колупаева, за пристрастие непомерное к зелёному змию турнули из артели; Пётр тоже висел на волоске. Но – харахорился. Он, мол, и без артели проживёт. И вскоре ему такую возможность предоставили…
После «Мостранса» Пётр ни на одной работе подолгу не задерживался, хотя каждый раз увольняли его с сожалением: руки-то у мужика золотые, когда трезвую жизнь вёл – цены ему не было. И сапожник он был, каких поискать, и слесарь, и плотник, и столяр. И даже в грузчиках сумел проявить себя, работу наладил так, что бригаду его в пример ставили. Начальство на него буквально молилось, сумел он за ничтожное время (пока сам не пил, отвращение вдруг к вину напало. Правда, не долгое…) сплотить бригаду, состоявшую из очень непростых людей. И при его бригадирстве не было такого, чтобы кто-то не вышел на разгрузку или сачковал во время работы. Простоев по вине бригады тоже не наблюдалось, вагоны разгружались не то что в срок, а зачастую и ранее контрольного времени. Кроме почёта бригаде и премии полагались, они-то и сократили трезвую жизнь Петра Митричева. О премиях он Алёне не говорил, когда же она узнала о них, добилась от администрации, чтобы зарплату и премии выдавали за мужа ей. Возмущённый Пётр начал скандалить с женой: ты ж меня перед мужиками срамишь!
– А что делать-то, Петь, ить пропьёшь всё, на что жить будем? Ребятишкам к зиме польты надоть купить, а – на что? – приводила свои резоны Алёна.
Договорились так: получать деньги будет Пётр и отдавать их Алёне на проходной, где та станет его поджидать. Задумка эта сработала раз, другой, а на третий… Алёна ждала, ждала, а Петра всё не было. Разгрузка срочная, сказал ей какой-то мужик, выходя из проходной. Минул час, небо уж, окутанное тучами чернеть стало, дело к вечеру шло, Пётр не появлялся. Алёна не выдержала, отправилась искать заработавшегося мужа. Оказалось, что он, получив свои законные, сбежал через дыру в заборе…
Заявился домой через день, без денег, разумеется, и даже без сапог – в портянках… Алёна не выдержала, первый раз при детях оттаскала его за волосы, прибила чуток поварёшкой, а потом заплакала.
Тут уж и Гришутка не выдержал, вздыбился – доселе он не встревал в дела взрослых.
– Не стыдно тебе? – спросил с укором, и во взгляде его, устремленном на отца, была смесь жалости и презрения.
Поелозив непослушным языком в пересохшем рту, Пётр промямлил с горькой усмешкой:
– Ничего, что споткнулси о камень, послезавтрево всё заживёт… – и, помолчав немного, добавил тихо: ты – Стыдно, конечно, сынок…
– Прекрати пить, пожалуйста!
– Прекращу, сынок, прекращу.
Но бросить пить он уже не мог. В пьяном виде попадал под автомобиль, падал с подножки трамвая, засыпал в сугробе в мороз лютый. Но словно сила какая-то берегла его. После происшествий этих лежал в больнице, но долго там старался не задерживаться. Как только становилось малость легче – просился на выписку. Не выписывали – сбегал.
А вот Гришутка с Павликом наоборот мечтали попасть в больницу. Там кормёжка лучше была, чем дома. И в школу ходить не нужно было. Да и мать иной раз принесёт то яблочко румяное, то таящую во рту пастилу, то облитый шоколадом зефир…
Когда Гришутка перебрался в шестой класс, Алёна сшила ему брюки из чёрной шерстяной шали, даренной ей родителями ещё к свадьбе. Прежде мальчишка донашивал старые отцовские, кое-как перекроенные матерью. И вот – свои брюки, новенькие! Но щеголял в обнове этой он недолго. Как-то в школе на переменке играли с ребятами в чехарду на школьном дворе. Гришутка споткнулся, упал, и на коленке появилась дырка. Алёна отругала сына, дала подзатыльник и аккуратно поставила на продранную коленку небольшую заплату, благо кусочки от шали сохранила.
Учился Гришутка средне, хотя и прилежно. Из предметов школьных более всего нравились история и литература. В доме у Митричевых книг не было, и Гришутка записался сразу в две библиотеки. Читал запоем, особенно приключенческие книги. Иногда и в ущерб учёбе. Объявят, бывало на завтра контрольную по ненавистной физике, например, потребует учитель хорошенько подготовиться, а Гришутка от книги не оторвётся, забыв обо всём на свете. О какой контрольной можно думать, когда благородный вождь Семинолов – Оцеола, спасая молодую девушку от аллигатора, храбро прыгает на спину чудовищу и вонзает ему в глаз нож! Читал он до тех пор, пока мать не тушила свет и не загоняла его в постель. Разумеется, по контрольной получал то, что заслуживал: «лебедя»: эта красивая птица очень напоминала оценку «2». Так и плыли лебеди эти с одной страницы табеля на другую, пока к концу очередной четверти Гришутка не брался за ум, оставив на время героев Дюма и Майн Рида, Жюля Верна и Конан Дойла…
Кроме книг Гришутка обожал смотреть кино. С ребятами со двора он бегал и в «Уран» на Сретенку, и на Каланчёвку в «Перекоп» и, конечно же, в «Форум», на величественном фасаде которого была изображена сцена битвы античных героев. Отстроено здание это было ещё до революции и стояло на Сухаревской улице, почти напротив выходившей на неё 4-ой Мещанской. Огромный зал более чем на 900 мест, удобные, хоть и жёсткие кресла, в фойе – белые мраморные колонны с розовыми прожилками, под лепным потолком – хрустальные люстры, светящие ярче солнца. Поход сюда был настоящим событием!
Фильмов было немного и потому каждый из них смотрели десятки раз. «Чапаев», «Мы из Кронштадта», «Броненосец «Потёмкин», «Большая жизнь», «Подруги»… Знали их едва ли не наизусть. И, глядя на экран, наперебой рассказывали, что последует далее. На них цыкали взрослые, на некоторое время ребята умолкали, но как было не успокоить себя и других, может быть не знающих ещё, что вот-вот появится красная конница во главе с легендарным Чапаем в развевающейся бурке с саблей наперевес. И белые, побросав оружие, побегут в панике!
А ещё Гришутка самозабвенно любил игры, футбол и хоккей. В футбол гоняли обычно тряпичным мячом, реже – настоящим кожаным. Зимой, когда подмораживало, на мостовой возле дома разворачивались хоккейные баталии, где вместо шайбы использовали жестяную банку или же маленький резиновый мяч, застывавший на морозе и превращавшейся в камень. Двухполозные коньки прикручивали к валенкам. Впрочем, своих коньков у братьев Митричевых никогда не было, роскошь эта была не по карману их родителям. Коньки давали Гришутке товарищи, как лучшему игроку, особенно когда предстоял поединок с ребятами из соседних дворов. Тут уж не до шуток было, умри, но соперника обыграй! Порой и драки случались – в азартной, дух захватывающей игре как им не бывать! Впрочем, после состязания мирились, хотя спорили по поводу забитой или не забитой шайбы ещё долго.
Однажды в игре у Гришутки вырвалась из рук самодельная клюшка: слишком уж он размахнулся, чтобы от души лупануть по банке-шайбе. Банка осталась на месте, а клюшка угодила в окно квартиры, расположенной на первом этаже соседнего дома, разбив вдребезги два стекла. Хозяева в это время мирно пили чай, поглядывая из комнатного тепла на игравшую ребятню. Клюшка точно легла на чайный стол. Испугавшись возмездия, игроки шустро разбежались кто куда, а выскочивший из подъезда в кальсонах и тапочках на босу ногу разъярённый хозяин настичь сумел лишь не принимавшего участия в игре Павлика Митричева. Алёне пришлось выплачивать не малый штраф и слёзно молить пострадавших, чтобы они не сообщали в милицию о случившемся.
За проделку эту, хоть и нечаянную, Гришутке досталось от родителей. Пётр приложился тяжёлой пятернёй своей к мягкому месту старшего сына, впрочем, не больно, а вот младшему отвесил изрядную оплеуху, чтоб другой раз не попадался, был ловчее. Излюбленным же оружием Алёны было мокрое полотенце, скрученное в жгут. Она охаживала провинившихся сыновей вдоль спины и ниже и требовала, чтобы они просили прощения. Гришутка, как бы больно ему не было, прощения никогда не просил, упрямый был. Потому и доставалось ему поболее, нежели младшему брату, который, едва мать бралась на полотенце, просил слёзно: мамочка, прости, я больше не буду! И отделывался лишь легким подзатыльником.
Из-за своей нерасторопности Павлик частенько попадал в беду, и Гришутке то и дело приходилось вступаться за брата. Как-то раз его поколотил Сашка Зяблин с соседнего двора, парень задиристый, постоянный соперник Гришутки во всех ребячьих играх. Заступаясь за плакавшего Павлика, Гришутка в лихой драке разбил Сашке нос клюшкой; хлынула кровь. Мать пострадавшего, баба заполошная, выскочила на улицу к сыну и принялась истошно вопить:
– Капияй, газбили, капияй!
Это означало: разбили капилляр, женщина не выговаривала чуть ли не половину букв алфавита.
Тут штрафом Митричевы вряд ли отделались бы. У Сашки отец занимал какой-то большой пост, хотя Сашка, в отличие от Шурки Шишкова, этим никогда не козырял. Но на следующий день после стычки мальчишек, Зяблина-старшего арестовали, как врага народа. И поступок Гришутки местные острословы объявили как акцию по защите Советской власти от проклятых наймитов буржуазии.