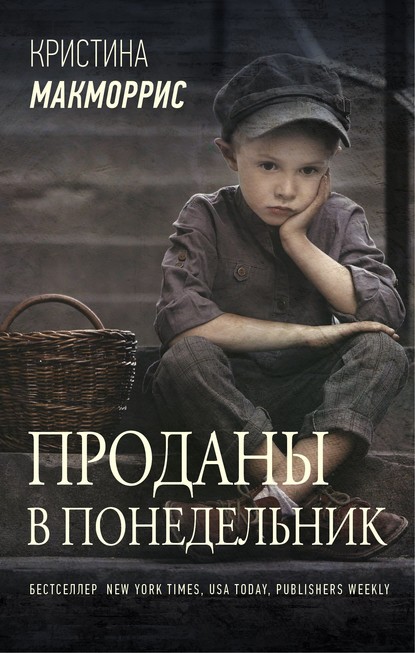Полная версия
День, когда мы были счастливы
Мила таращится в пол, слушая тихое тиканье часов в коридоре, звук уходящих секунд. Через три дня Йом-Киппур[28]. Хотя это не имеет значения: немцы разбросали по городу листовки с распоряжением, что евреям запрещено совершать обряды. То же самое они сделали и в Рош ха-Шана, однако Мила нарушила запрет и после наступления темноты пробралась к родителям. Позже она пожалела об этом, когда услышала рассказы о других, совершивших то же самое и попавшихся. Одного мужчину, ровесника ее отца, заставили бежать по центру города, держа над головой тяжелый камень; другим приказали тащить металлические каркасы кроватей из одного конца города в другой, а по дороге били метровыми дубинками; одного юношу затоптали. Мила решает, что на этот Йом-Киппур они с Фелицией будут поститься у себя дома, одни.
«Что же теперь будет?» По щекам текут слезы. Она тихо всхлипывает, не в силах вытереть глаза и нос. Мила обводит комнату взглядом, она знает, что должна быть в ярости – Дорота ее бросила. Но она не злится. Она в ужасе. Она потеряла единственного человека под своей крышей, которому могла доверять и на которого могла полагаться. Человека, который, похоже, лучше нее понимал, как заботиться о ее ребенке. Мила жалеет, что не может спросить у Селима, что делать. В конце концов, это Селим настоял, чтобы они наняли Дороту, когда Фелиция только родилась и Мила сходила с ума. И теперь Мила снова в кризисе, но без твердой руки мужа, чтобы направлять ее. Реальность ситуации обрушивается на нее, и Милу бросает в дрожь: ее безопасность, а вместе с ней и безопасность Фелиции, теперь полностью в ее руках.
К горлу подступает тошнота, Мила чувствует ее вкус, резкий и едкий. Желудок скручивает спазмом, когда перед глазами мелькает несколько картин. Первая – фотография, которую она видела в «Трибьюн» вскоре после захвата Чехословакии: рыдающая моравская женщина покорно вскидывает руку в нацистском приветствии; вторая – сцена из ее кошмаров: военный в зеленой форме вырывает Фелицию у нее из рук. «О, Боже милостивый, прошу, не дай им забрать ее у меня». Милу тошнит. Рвота с влажным звуком приземляется на линолеум между ее ступнями. Зажмурив глаза, она кашляет, борясь с новым приступом тошноты, а заодно и сожаления. «И о чем ты только думала, когда торопилась создать семью?» Когда она забеременела, они с Селимом были женаты меньше трех месяцев. Тогда она была уверена, что больше всего на свете хочет ребенка. Много детей. Целый оркестр детей, бывало, шутила она. Но Фелиция оказалась таким беспокойным младенцем, и материнство отнимало больше сил, чем она ожидала. А теперь война. Если бы она знала, что еще до первого дня рождения Фелиции Польша может прекратить свое существование… Милу снова рвет, и в этот ужасный, неприятный момент она понимает, что делать. Когда Селим уехал во Львов, родители уговаривали ее переехать обратно на Варшавскую улицу. Но Мила предпочла остаться. Теперь эта квартира была ее домом. И кроме того, она не хотела быть обузой. Она сказала, что война скоро закончится. Селим вернется, и они начнут с того места, где остановились. Они с Фелицией справятся сами, и, кроме того, у нее есть Дорота. Но теперь…
Тишину нарушает плач Фелиции, и Мила вздрагивает. Вытерев рот рукавом халата, она сует записку Дороты в карман и встает, придерживаясь за стену, когда комната начинает кружиться. «Дыши, Мила». Она решает, что уберет позже, и осторожно перешагивает через лужу на полу. В кухне она прополаскивает рот и брызгает на лицо холодной водой.
– Иду, любимая! – кричит она, когда Фелиция снова плачет.
Фелиция стоит в кроватке, крепко держась за перекладину обеими ручками, одеяло валяется на полу. Увидев мать, она радостно улыбается, показывая четыре крохотных прорезавшихся зуба – по два на верхней и нижней десне.
Плечи Милы расслабляются.
– Доброе утро, сладкая девочка, – шепчет она, подавая Фелиции ее одеяльце и вынимая ее из кроватки.
Два месяца назад, когда Мила перестала кормить ее грудью, Фелиция начала спать всю ночь. Получив дополнительный отдых, мать и дочь преодолели кризис; Фелиция стала более счастливым ребенком, а Миле больше не казалось, что она на грани нервного срыва. Фелиция обнимает маму за шею, и Мила наслаждается тяжестью дочкиной щеки и теплом у своей груди. «Вот о чем я думала, – напоминает она себе. – Об этом».
– Я держу тебя, – шепчет она, придерживая ладонью спинку Фелиции.
Подняв голову, Фелиция поворачивается к окну и показывает маленьким пальчиком.
– Э? – тянет она; такой звук она издает, когда ее что-то заинтересовало.
Мила следит за ее взглядом.
– Там, – говорит она. – На улице?
– Та, – повторяет за ней Фелиция.
Мила подходит к окну, чтобы начать свою обычную игру – показывать все, что видит: четыре крапчатых голубя на дымоходе, матово-белый шар уличного фонаря, три каменных арки подъездов через дорогу, а над ними три больших балкона с коваными решетками, две лошади, запряженные в коляску. Мила игнорирует свисающий из открытого окна флаг со свастикой, разрисованные витрины, свежую табличку с названием улицы (теперь они живут не на улице Жеромского, а на Рейхштрассе). Фелиция смотрит, как внизу бредут лошади. Мила целует ее в лоб, и пушок цвета корицы на головке дочери щекочет ей нос.
– Папа, наверное, сильно скучает по тебе, – шепчет она, думая о том, как Селим может заставить Фелицию смеяться, уткнувшись носом в ее животик и притворно чихая. – Скоро он к нам вернется. А пока мы с тобой вдвоем, – добавляет она, переваривая значительность этих слов и стараясь игнорировать привкус рвоты, все еще царапающий горло.
Фелиция смотрит на нее широко раскрытыми глазками, словно понимая, потом накрывает ушко одеяльцем и опять прижимается щекой к материнской груди.
Мила решает, что позже уложит кое-какую одежду, зубную щетку, одеяльце Фелиции и стопку подгузников и пойдет к родителям на Варшавскую улицу, что в шести кварталах от ее дома. Пора.
Глава 6
Адди
Тулуза, Франция
21 сентября 1939 года
Адди сидит в кафе, выходящем на огромную площадь Капитоль, перед ним лежит открытая нотная тетрадь на спирали. Он кладет карандаш на стол и разминает сведенную спазмом мышцу между большим и указательным пальцем.
У него вошло в привычку проводить выходные, сочиняя музыку за столиком кафе. Больше никаких поездок в Париж: ему казалось слишком легкомысленным окунаться в шумное веселье ночной жизни Монмартра, когда родина ведет войну. Вместо этого он посвящает себя своей музыке и еженедельным походам в польское консульство в Тулузе, где он уже несколько месяцев пытается получить въездную визу – документ, необходимый для возвращения в Польшу. Пока что все его усилия раздражающе безрезультатны. В первый его визит в марте, за три недели до Песаха, чиновнику хватило одного взгляда на паспорт Адди, чтобы покачать головой, подвинув к нему карту и показав на страны, отделяющие Адди от Польши: Германия, Австрия, Чехословакия.
– Вы не пройдете дальше пропускных пунктов, – сказал он, постучав пальцем по строчке в паспорте Адди, где было указано вероисповедание.
«Zyd», гласила строка, сокращение от Zydowski. Еврей. Мама была права, понял Адди, злясь на себя за то, что сомневался в ней. Путешествие через границу Германии было для него не только опасным, но и, очевидно, незаконным. И все же Адди раз за разом возвращался в консульство, надеясь убедить сотрудника дать ему некоторое послабление, извести его настойчивостью. Но каждый раз ему говорили одно и то же. Невозможно. Поэтому впервые за двадцать пять лет жизни он пропустил Песах в Радоме. Рош ха-Шана наступила и прошла точно так же.
Когда он не на работе, не сочиняет музыку и не надоедает секретарям консульства, Адди изучает заголовки «Дипеш де Тулуз». С каждым днем война набирает обороты и его тревога возрастает. Сегодня утром он прочитал, что советская Красная армия вторглась в Польшу с востока и попыталась захватить Львов. Мама писала, что его братья во Львове, их призвали в армию вместе с остальными молодыми мужчинами Радома. Похоже, город капитулирует в любой день. Польша капитулирует. Что станет с Генеком и Яковом? С Адамом и Селимом? Что станет с Польшей?
Адди увяз. Его жизнь, его решения, его будущее – он ничего не контролирует. Он не привык к таким ощущениям и ненавидит их. Ненавидит, что нет способов попасть домой, нет способов связаться с братьями. Слава Богу, он хотя бы переписывается с мамой. Они часто пишут друг другу. В последнем письме, отправленном через несколько дней после захвата Радома, она описывала горькое прощание с Генеком и Яковом в ночь, когда они уезжали во Львов, как больно было видеть расставание Халины и Милы с Адамом и Селимом и каково было смотреть, как немцы входят в Радом. Город заняли за несколько часов, писала она. «Солдаты вермахта повсюду».
Адди перелистывает ноты, просматривая свою работу, благодарный музыке за возможность отвлечься. По крайней мере она принадлежит ему. Никто не сможет отнять этого у него. С начала войны в Польше он пишет упорно и почти закончил новое произведение для фортепиано, кларнета и контрабаса. Закрыв глаза, он барабанит пальцами по бедру, проигрывая аккорд на воображаемой клавиатуре и решая, обладает ли он потенциалом. Одно из его произведений уже имело коммерческий успех – песня, исполненная талантливой певицей Верой Гран[29], о том, как юноша пишет своей возлюбленной. «List»[30]. Письмо. Адди сочинил «Письмо» перед отъездом из Польши в университет и никогда не забудет чувств, которые испытал, впервые услышав песню по радио. Закрыв глаза, он слушал, как созданная им мелодия льется из динамиков приемника, и грудь раздувалась от гордости, когда после песни объявили имя композитора – его имя. Может быть, фантазировал он тогда, со временем «Письмо» принесет ему признание в музыкальном мире.
«Письмо» стало хитом в Польше, настолько популярным, что Адди стал в Радоме кем-то вроде знаменитости, что, конечно, вызвало бесконечное поддразнивание братьев.
– Братец, пожалуйста, дай автограф! – просил Генек, когда Адди приезжал домой.
В то время Адди был не против внимания, а кроме того, в подначиваниях красивого старшего брата он чувствовал намек на зависть. Несомненно, родные были счастливы за него. И гордились им; они видели, как он сочинял музыку с тех пор, когда его ноги едва доставали до педалей родительского рояля. Они понимали, как много значит для него этот первый успех. Адди знал, что брат втайне завидовал его жизни в большом городе. Генек приезжал в Тулузу, один раз встречался с Адди в Париже и каждый раз, уезжая, ворчал, насколько гламурной выглядела жизнь Адди во Франции по сравнению с его собственной. Теперь, конечно, все по-другому. Нет ничего гламурного в жизни в провинции, где Адди фактически заточен. Даже несмотря на то, что его дом заполонили немцы, он сделает все что угодно, чтобы вернуться.
На улице последние лучи солнца бросают розовый отсвет на мраморные колонны Капитолия. Стая голубей срывается с места, испугавшись пожилой женщины, которая идет к крытым аркадам на западной стороне, и Адди вспоминает вечер прошлого лета, когда они с друзьями сидели на закате в кафе на похожей площади на Монмартре, потягивая семильон. Адди возвращается мыслями к разговору, вспоминает, как его друзья закатывали глаза, когда речь зашла о войне. Гитлер – фигляр, говорили они.
– Все эти разговоры о войне просто пустяки, сотрясание воздуха. Из этого ничего не выйдет. Le dictateur déteste le jazz![31] – заявил один из друзей. – Он ненавидит джаз еще больше, чем евреев! Только представьте, как он ходит по площади Клиши, заткнув уши руками.
Сидевшие за столом разразились смехом. Адди смеялся вместе со всеми.
Взяв карандаш, он возвращается к нотному блокноту. Он сочиняет мелодическую фразу, затем следующую, записывая быстро, заставляя карандаш успевать за музыкой в своей голове. Проходит два часа. Столики вокруг начинают заполнять мужчины и женщины, пришедшие поужинать, но Адди едва замечает их. Когда он наконец поднимает голову, небо потемнело до глубокого фиолетово-голубого цвета. Становится поздно. Адди оплачивает счет, зажимает блокнот под мышкой и идет через площадь к своей квартире на рю Ремюза. Он входит во дворик своего дома, открывает почтовый ящик и быстро просматривает небольшую стопку писем. Из дома ничего. Разочарованный, он поднимается на четыре лестничных пролета, вешает берет, снимает ботинки и аккуратно ставит их на соломенный коврик возле двери. Он бросает почту на стол, включает радио, наливает воду в чайник и ставит его на плиту.
Его квартира маленькая и чистая, всего с двумя комнатами: крохотной спальней и кухней, в которой поместился только круглый столик на одной ножке, – но она его устраивает. Он единственный из своих братьев и сестер до сих пор одинок, несмотря на мамины усилия. Открыв холодильник, он просматривает его содержимое: унция мягкого камамбера, пол-литра козьего молока, два яйца в крапинку, красное яблоко (похожие мама нарезала и поливала медом, когда он был маленьким, и с тех пор Адди любит, чтобы дома всегда было хотя бы одно), обернутый в пергамент кусок вареного говяжьего языка, половинка плитки темного швейцарского шоколада. Он берет шоколад. Аккуратно, чтобы не порвать, открывает серебристую фольгу и отламывает квадратик горько-сладкого шоколада, дав ему растаять во рту.
– Merci, la Suisse[32], – шепчет он, садясь за стол.
Наверху почтовой стопки лежит последний выпуск «Джаз Хот». Адди просматривает заголовки. Один из них гласит: «Творческое сотрудничество Стрейхорна и Эллингтона». Два его любимых джазовых композитора. Он делает мысленную заметку следить за их работой. Под «Джаз Хот» лежит бледно-голубой листок, который он не заметил раньше. Когда он его видит, сердце пропускает удар, и остатки шоколада на языке вдруг приобретают резкий привкус. Адди берет листок, переворачивает его. Сверху напечатаны три слова: «Commande de Conscription». Это повестка о призыве в армию.
Адди дважды читает текст. Ему приказано присоединиться к польской дивизии французской армии. Он должен незамедлительно явиться в больницу Ла Грав для медосмотра и оформления документов; его служба начнется 6 ноября в Партене. Адди кладет повестку на стол и долго смотрит на нее. Армия. Подумать только, еще сегодня утром он горевал о братьях, представлял их в военной форме, с ужасом думая об их судьбе. И вот, его положение не отличается от их.
В ушах звенит, и ему требуется несколько мгновений, чтобы понять, что это закипела вода в чайнике. Проведя рукой по волосам, он встает выключить горелку. Свист чайника затихает, и Адди пораженно думает, насколько быстро все может измениться в его новой реальности. Как в одно мгновение его будущее решают за него. Взяв повестку со стола, он подходит к кухонному окну, выходящему на угол площади Капитоль, и прижимается лбом к стеклу. В динамиках тихо поет кларнет Сиднея Беше, но Адди его не слышит. Армия. Нескольких его друзей призвали, но все они французы. Он надеялся, что как иностранец не подлежит призыву. Вероятно, этого можно избежать, думает он. Но мелкий шрифт внизу страницы утверждает обратное. «Неявка повлечет за собой арест и заключение в тюрьму». Merde[33]. Он здоров. Призывного возраста. Нет, выхода нет. Merde. Merde. Merde.
Внизу выложенный на мостовой окситанский крест Моретти отражает свет уличных фонарей, словно гигантская гранитная татуировка. В небе поднимается половинка луны. Как такое возможно, удивляется Адди: вокруг такая безмятежность, а за границей идет война. Где сейчас Генек и Яков? Ожидают приказа? Или сражаются в этот самый миг? Адди поднимает глаза к небу, представляя своих братьев плечом к плечу в окопе, они не замечают восходящую луну, думая только о свистящих над головой снарядах.
Глаза Адди наполняются слезами. Он достает из кармана брюк носовой платок, мамин подарок. Она подарила его год назад, когда он в последний раз был дома на Рош ха-Шану. Сказала, что нашла эту ткань во время одной из своих поездок в Милан – мягкое белое полотно, на котором сама вышила кайму и его инициалы в углу. ААИК. Адди Авраам Израэль Курц.
– Красивый, – сказал Адди, когда мама вручила ему платок.
– О, это пустяк, – ответила Нехума, но Адди знал, как она старалась и как гордилась своей работой.
Он проводит подушечкой большого пальца по вышивке, представляя маму за работой в задней комнате магазина, перед ней лежит рулон ткани, сбоку сантиметр, ножницы и красная шелковая подушечка для булавок. Он видит, как она отмеряет нить, крутит кончик между пальцами и подносит к губам, чтобы намочить, прежде чем вставить в невероятно маленькое игольное ушко.
Адди глубоко дышит, чувствуя, как поднимается и опускается грудная клетка. «Все будет хорошо», – говорит он себе. Гитлера остановят. Франция еще не участвовала в боях; кто знает, может быть, война закончится до того, как это случится. Может быть, его тулузские друзья, которые называют ее «drôle de guerre» – странной войной – правы, и только вопрос времени, когда он сможет вернуться в Польшу, к своей семье, к жизни, которую оставил позади, когда переехал во Францию. Адди думает о том, что, если бы год назад ему предложили работу в Нью-Йорке, он воспользовался бы возможностью. Теперь, конечно, он сделает что угодно – все – чтобы просто вернуться домой, сидеть за маминым обеденным столом в окружении родителей, братьев и сестер. Он убирает платок обратно в карман. Дом. Семья. Нет ничего важнее. Теперь он это знает.
22 сентября 1939 года. Львов сдается советской Красной армии.
27 сентября 1939 года. Польша капитулирует. Гитлер и Сталин сразу же делят страну: Германия оккупирует западную часть (включая Радом, Варшаву, Краков, Люблин), а Советский Союз – восточную (включая Львов, Пинск, Вильно).
Глава 7
Яков и Белла
Львов, оккупированная Советами часть Польши
30 сентября 1939 года
Белла проверяет латунный номер на красной двери.
– Тридцать два, – шепчет она себе под нос, дважды сверившись с адресом, нацарапанным почерком Якова на письме, которое захватила из Радома: «Улица Калинина, 19, квартира 32».
На шее у нее висит фотокамера Якова, через руку переброшено его пальто, сложенное так, чтобы скрыть слои грязи, налипшие по пути. Никогда в жизни Белла не была такой грязной. Она сняла пару драных чулок, ругаясь из-за потери, и изо всех сил потопала ногами, чтобы стряхнуть грязь с подошв. Облизав большой палец, она вытерла щеки, но без зеркала все ее усилия тщетны. Волосы стали похожи на колючий кустарник, а под слоями одежды она до сих пор мокрая. Когда она поднимает руки, запах отвратительный. Ей очень нужно помыться! Должно быть, выглядит она ужасно. «Неважно. Ты здесь. Ты дошла. Просто постучи».
Ее кулак замирает в нескольких сантиметрах от двери. Белла медленно набирает в грудь побольше воздуха, облизывает губы и тихонько стучит в дверь, наклонившись вперед, прислушиваясь. Ничего. Она стучит еще, на этот раз сильнее. Она уже готова постучать в третий раз, когда слышит приглушенные шаги. Сердце стучит в унисон с этими приближающимися шагами, и на какое-то мгновение Белла поддается панике. Что, если, проделав такой путь, она встретит не Якова, а незнакомца?
– Кто там?
С губ срывается резкий выдох – смех, впервые за эти недели, – и Белла понимает, что все это время не дышала. Это он.
– Яков! Яков, это я! – говорит она двери, поднимаясь на цыпочки, вдруг ощущая себя легкой как перышко.
Не успевает она добавить: «Это Белла», как раздается металлический щелчок засова и дверь рывком распахивается, затягивая воздух. И вот он, ее любовь, ее ukochany, смотрит на нее, в нее, и каким-то образом, несмотря на слои грязи, пот и плохой запах, Белла чувствует себя красавицей.
– Ты! – шепчет Яков. – Как ты… Заходи, быстро.
Он втягивает ее внутрь и запирает дверь. Белла опускает его пальто и фотокамеру на пол, а когда выпрямляется, его ладони ложатся на ее плечи. Он нежно держит ее, внимательно оглядывая с головы до ног. В его глазах Белла видит беспокойство, усталость, недоверие. Что бы ни произошло здесь, во Львове, это оставило на нем свой след. Такое впечатление, что он не спал много дней.
– Куба, – начинает она, называя его, как иногда делает, еврейским именем, желая только одного – заверить его, что с ней все в порядке, что сейчас она здесь и ему не нужно беспокоиться.
Но Яков еще не готов разговаривать. Он притягивает ее к себе, обнимая так крепко, что она едва может дышать, и в этот миг Белла понимает: она правильно сделала, что приехала.
Она утыкается лицом в такой знакомый изгиб его шеи, проводя руками вверх по его узкой спине. Он пахнет, как всегда, древесной стружкой, кожей и мылом. Белла чувствует биение его сердца напротив своего, тяжесть его щеки на своей голове. Под рубашкой его лопатки торчат, как бумеранги, еще острее, чем она помнит. Они стоят так целую минуту, пока Яков не отклоняется назад, поднимая Беллу вместе с собой, выше и выше, пока ее ноги не отрываются от пола. Он смеется и кружит ее, и скоро комната становится размытой и Белла тоже смеется. Когда ее носки касаются пола, Яков наклоняется вперед. Она позволяет своему телу расслабиться в его руках и, когда он наклоняет ее назад, откидывает голову, чувствуя, как кровь приливает к ушам. На мгновение Яков замирает, бережно держа ее на весу – заключительное торжественное па бального танца, – прежде чем поставить ее на ноги.
Яков снова вглядывается в нее, сжимая обе ее руки в своих, его лицо вдруг становится серьезным.
– Ты приехала, – говорит он, качая головой. – Я получил твое письмо сразу после начала боев. А потом нас мобилизовали, и когда я вернулся, тебя все еще не было. Белла, если бы я знал, что все будет настолько плохо, клянусь, я бы никогда не попросил тебя приехать. Я так волновался.
– Знаю, любимый. Знаю.
– Поверить не могу, что ты здесь.
– Мы несколько раз чуть не повернули назад.
– Ты должна мне все рассказать.
– Расскажу, но сначала, пожалуйста, ванну, – улыбается Белла.
Яков вздыхает, его глаза смягчаются.
– Что бы я делал, если бы…
– Тише, кохане. Все хорошо, дорогой. Я здесь.
Яков опускает голову, касаясь лба Беллы своим.
– Спасибо, что приехала, – шепчет он, закрыв глаза.
Они сидят за маленьким квадратным столом в кухне, держа в ладонях чашки с горячим черным чаем. Волосы Беллы еще мокрые после ванны, кожа на шее и щеках порозовела. Она отскребала себя и отмокала целых три минуты, прежде чем Яков легонько постучал в дверь ванной, разделся и забрался к ней.
– Я честно не думала, что все получится, – говорит Белла.
Она только что закончила рассказывать про план Томека, про то, как цепенела при мысли о том, что ее обнаружат, завернут обратно или возьмут в плен. Оказалось, что Томек был прав насчет немецкой линии фронта: она сумела обогнуть ее по лугу, где он ее оставил. Но когда она добралась до леса на другой стороне, то потеряла чувство направления и отклонилась к северу. Она шла много часов, пока наконец не наткнулась на рельсы, по которым вышла к маленькой станции в предместьях города. Там, несмотря на свой грязный жалкий вид, ей удалось уговорить военных пропустить ее через последний пропускной пункт, купить на оставшиеся злотые билет в один конец и проехать последние несколько километров до Львова на поезде.
– Я удивилась, когда приехала, – говорит Белла. – Я не видела на улицах солдат вермахта, хотя думала, что их тут полно.
Яков качает головой.
– Немцы ушли, – тихо говорит он. – Теперь Львов оккупировал Советский Союз. Гитлер отозвал своих солдат за несколько дней до капитуляции Польши.
– Подожди… что?
– Львов сдался всего за три дня до Варшавы…
– Польша… сдалась?
Кровь отливает от щек Беллы.
Яков берет ее за руку.
– Ты не слышала?
– Нет, – шепчет Белла.
Яков сглатывает, как будто не зная, с чего же начать. Он прочищает горло и вкратце рассказывает все, что Белла пропустила. Рассказывает, как поляки во Львове много дней ждали помощи от Красной армии, которая стояла на востоке от города; как они думали, что Советы пришли защитить их, и как через некоторое время стало ясно, что это не так. Он описывает, насколько сильно противник превосходил их численностью. Когда город наконец сдался, генерал Сикорский, командующий обороной, заключил договор, по которому польским офицерам разрешалось покинуть город.
– Генерал сказал: «Зарегистрируйтесь у советских властей и отправляйтесь по домам», – Яков замолкает на мгновение, уставившись в свою кружку. – Но как только немцы ушли, десятки польских офицеров без объяснений были арестованы советской полицией. Тогда-то я и выбросил свою форму, – добавляет Яков, – и решил, что лучше буду скрываться здесь и дожидаться тебя.
Белла смотрит, как кадык Якова поднимается и опускается. Она ошеломлена.