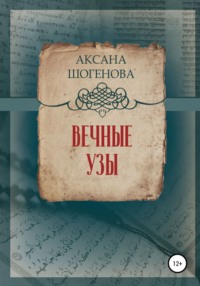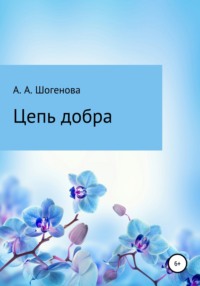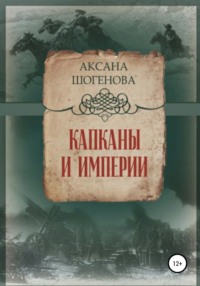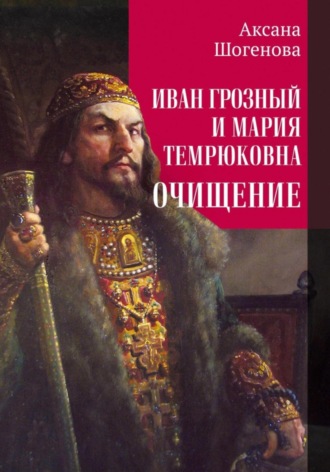
Полная версия
Иван Грозный и Мария Темрюковна. Очищение
На жителей окрестных земель – марийцев (черемисы)198, мордвин и чувашей появление города-крепости Свияжска под носом Казани за столь короткий промежуток времени произвело такое впечатление, что они присягнули молодому царю.
В эпизоде о взятии Казани в одном из сериалов были показаны деревянные щиты, которые использовали в баталиях. Эту конструкцию в Европе называли «вагенбург», а на Руси «гуляй-город» или «град-обоз», наши современники назвали «танки Средневековья». Их использовали для наступательных и оборонительных операций. Деревянные щиты устанавливали на специальные прочные телеги, а зимой на сани, скрепляли особыми креплениями, чтобы их не могли разъединить, и разворачивали в прямую линию или в полукруг, могли выставить и в своеобразную крепость. На Руси их стали использовать с 1530 года во время первого похода на Казань. Вот как описывает его возможности историк В. А. Мазуров: «Основным элементом являлась телега. На ней устанавливался довольно высокий щит, набранный из толстых дубовых планок. Посредине щита сделан вертикальный проем, который прикрывался двумя раздвижными створками. В этом проеме устанавливалась пушка. Обслуга перед выстрелом раздвигала створки, производился выстрел, затем створки закрывались. Под их защитой пушкари могли перезарядить пушку. В щите имелись треугольные бойницы, из которых стреляли из пищащей и луков. Сверху укреплялся конек, не позволяющий вражеским воинам ухватиться и перелезть через щит. Под телегой укреплялась плаха, чтобы враг не сумел подползти под телегой. Телеги со щитами ставились одна за другой в цепь, соединялись между собой крючьями и подпирались с обратной стороны оглоблями, чтобы телеги нельзя было опрокинуть. За каждым щитом могли укрываться и вести огонь около 5–6 стрельцов. «Гуляй-город» мог вытянуться в длину около 10 километров. В общем, «гуляй-город» был серьезным аргументом на поле боя, и даже пушками взять его было непросто. Использование «гуляй-города» совместно со стрелецким войском, вооруженным пищалями и бердышами, и артиллерией было идеальным вариантом боевого построения войск для отражения нападения конницы в чистом поле. Следует отметить, что возможность построения такого боевого порядка была реализована только благодаря настойчивости, твердости и организаторским способностям царя Ивана»199.
Перед началом осады Грозный разослал грамоты хану Едигер-Магмету, духовенству, казанской знати. Он предлагал им сдаться, повиниться за убийство его послов и представителей в Казани, обещал прощение и сотрудничество в будущем. От адресатов писем получил дерзкие ответы, полные презрения. Стало понятно, что битвы не избежать. Во время боя взорвались пороховые бочки. Русские воины дрогнули и побежали. Грозный остановил панику. В ходе штурма царь трижды обращался к казанской знати и хану Едигер-Магмету с предложением прекратить сопротивление, не доводить дело до большого кровопролития с обеих сторон и до уничтожения Казани – красивейшего города на берегу Волги. Его слова до поры до времени игнорировали, но потом хана Едигер-Магмета казанцы выдали воеводам.
«Ужасный» Грозный его не казнил, вывез его с собой в Москву, подарил двор и дал людей в услужение. Последний хан Казанского ханства Едигер-Магмет присягнул Грозному, перешел в православие, стал верно служить Московской Руси, воевал в Ливонскую войну против Запада.
В Европе существовал такой закон войны, когда поверженный город отдавали на разграбление победителям на три дня. Грозный же не допустил ничего подобного. Царь пресек все мародерские поползновения, объясняя, что теперь земли Казанского ханства вошли в состав единого государства, а жители ханства – такие же его подданные, как и они. Кроме того, сразу по окончании боев стал думать о том, как восстановить и обустроить жизнь в городе, который теперь находился под его защитой. Грозный отказался от трофеев, приказал раздать все войскам.
Царь распорядился оставить небольшой гарнизон для поддержания правопорядка, а всем остальным вернуться в Москву. Но его единомышленники настоятельно не рекомендовали покидать Казань. Победа над Казанским ханством повысила авторитет Грозного как полководца и как главы государства. Появление перед народом сразу после победы сулило еще больший политический вес. Окружение царя хотело возвысить его двоюродного брата Владимира Старицкого.
В отличие от царя, военная «элита» в победе над Казанью искала личные выгоды. Они предлагали царю убить всех пленных, а земли бывшего Казанского ханства раздать им. Первым, кто жаждал крови и татарских земель, был князь Андрей Курбский. Никто из окружения царя, в том числе и Курбский, не понимал мирных устремлений царя. Только один Грозный знал, что он хочет строить многонациональное и многоконфессионное государство, основанное на взаимном уважении людей. Своим решением – не убивать побежденных, царь хотел привлечь на свою сторону многие другие народы.
Грозный распорядился обращать в православие только тех, кто хочет это сделать добровольно. Но ему негласно противодействовал поп Сильвестр, который в переписке призывал первого наместника Казани князя Горбатого-Шуйского осуществлять насильственную христианизацию местного населения: «Государь здесь придерживался старой, оправданной жизнью практики русских князей, оставлявших внутренний уклад жизни (в том числе и верования) подвластных племен нетронутым и довольствовавшихся исправной выплатой дани, в отличие от западных завоевателей, которые утверждали католическую веру в покоренных землях жесткой силой. <…> Наставления же Сильвестра по части насильственного обращения в православие населения бывшего Казанского ханства шли, как видим, вразрез с политикой царя Ивана, «лаской» привлекавшего поволжских инородцев под «высокую государеву руку», и больше соответствовали западным, нежели отечественным приемам распространения христианства. Эти наставления были особенно опасны в обстановке мятежных настроений местных племен, то и дело поднимавших войну против русских. Своими призывами к насильственной христианизации Казанского края Сильвестр мог лишь усилить мятежный дух народов Поволжья и тем самым осложнить процесс освоения присоединенных к Руси земель. Осознавал ли Сильвестр вредоносность для Русского государства предполагаемых им принудительных мер при осуществлении религиозной политики в Поволжье – вот в чем вопрос. На наш взгляд, благовещенский поп не был столь простодушен, чтобы не понимать этого»200.
Помимо попа, Грозный винил в этом и Курбского: «А разве при взятии города вы не собирались, если бы я вас не удержал, понапрасну погубить православное воинство, начав битву в неподходящее время? Когда же город по божьему милосердию был взят, вы не занялись установлением порядка, а устремились грабить! Таково ли покорение прегордых царств, которым ты, кичась, безумно хвалишься? Никакой похвалы оно, по правде говоря, не стоит, ибо все это вы совершили не по желанию, а как рабы – по принуждению и даже с ропотом. Достойно похвалы, когда воюют по собственному побуждению. И так подчинили вы нам эти царства, что более семи лет между ними и нашим государством не утихали боевые стычки!» <…>
Какие же светлые победы ты совершал и когда ты со славой одолевал наших врагов? Когда мы послали тебя в нашу вотчину, в Казань, привести к повиновению непослушных, ты, вместо виноватых, привел к нам невинных, обвинив их в измене, а тем, против кого ты был послан, не причинил никакого вреда»201.
Именно деятельность предательского окружения вызвала сопротивление местного населения, которое продолжалось семь лет. Царь говорил одно, попы и бояре делали другое, а ненависть сквозь столетия льется на Ивана IV.
Вскоре Грозный возвратился в столицу с триумфом. Москвичи ждали его не только на улицах города, но и встречали далеко на подступах к Москве. Ликовавшие посадские увидели царя, его свиту в доспехах и пошли за ним до самых кремлевских ворот. После Казанского похода авторитет Грозного в народе был очень высок. Об этом свидетельствуют многочисленные песни, сложенные во славу Ивана IV.
Присоединение Казани после царь описывал следующим образом: «Когда же кончилась ваша с Алексеем собачья власть, тогда и эти царства нам во всем подчинились, и теперь оттуда приходит на помощь православию больше тридцати тысяч воинов. <…> Это все о Казани, а на Крымской земле и на пустых землях, где бродили звери, теперь устроены города и села»202.
1552 год был ознаменован другим счастливым событием для Грозного – рождением сына Дмитрия. Он появился на свет в октябре 1552 года. По этой причине молодой отец спешил в Москву, помимо воли окружения.
ЦАРЬ ИВАН ГРОЗНЫЙ И СУЛТАН СУЛЕЙМАН ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
С ВАССАЛАМИ
Герой захватывающего турецкого сериала «Великолепный век» султан Сулейман стоял за Казанским ханством. Им был разработан план объединенного военного похода Казанского, Ногайского и Крымского ханств против Московского царства. Но его поддержал только новый крымский хан, появившийся на престоле после переворота.
Что в Средневековье, что в наше время, как только какой-то чиновник, политик, глава государства выступает за дружбу и сотрудничество с Россией, его сразу подставляют, меняют, свергают, подтасовывают результаты выборов и не дают переизбраться…
Недовольный малой поддержкой своих вассалов идеи военного похода на Москву, Сулейман I устроил свержение крымского хана Сахиб-Гирея (Сахиб-Герай)203, потому что он не захотел войны с Грозным, сослался на то, что его воины не выдержат длительного похода, к тому же плохо обмундированы. Считается, что Сахиб-Гирей был дядей Сулеймана I. Султан стал сомневаться в верности и преданности Сахиб-Гирея, поэтому он отстранил его от власти, и вместо него назначил другого родственника – Девлет-Гирея (Девлет-Герай). Сахиб-Гирей был покинут своим войском, заключен в тюрьму в Таманской крепости и убит внучатым племянником. Вскоре по приказу Девлет-Гирея были убиты все дети и внуки Сахиб-Гирея. Так что современным политикам на фоне их средневековых предшественников крупно повезло.
Как только Девлет-Гирей узнал о том, что русское войско направилось на Казань из Москвы, он тоже выдвинулся на Москву, Рязанские и Коломенские места. Но крымцы были замечены, срочно был отправлен гонец к царю. В это время 19 июня 1552 года Иван Грозный был в Коломне. По прямой между Москвой и Коломной 101 километр. Крымцы пленили рязанских станичников, от которых узнали, что Грозный ждет их со своим войском. Девлет-Гирей поменял планы, захотел вернуться в Крым. С его решением не согласились мурзы. Мурза – высший слой татарского дворянства. Титул мурзы приравнивается к графскому. Мурзы настояли на том, чтобы пойти в тульскую землю, что было недалеко от Коломны. Девлет-Гирей согласился. Тульчане собрали ополчение, к ним на помощь царь отправил свой правый фланг, общими усилиями крымцы были разбиты. Хан Девлет-Гирей чудом избежал плена.
1553 ГОД. МЯТЕЖ СТАРИЦКИХ И ПОПЫТКА УБИТЬ ЦАРЯ
Через несколько месяцев после взятия Казани молодой царь заболел. Все думали, что он не одолеет тяжелый недуг.
В сериале «Грозный» 2020 года показали, как он попросил бояр принести присягу верности его сыну. В окружении царя случился раскол. Первая группа бояр хотела увидеть у власти двоюродного брата Владимира Старицкого, который этой власти не хотел. Вторая группа хотела присягнуть сыну царя. Были и те, кто не хотели присягать малышу, потому что считали, что власть заберут братья жены царя Анастасии – Захарьины. Этот вариант представители известных боярских родов считали для себя унижением, так как должны будут склонить голову перед «худым» родом. В конечном итоге бояр закрывают в комнате, жену Анастасию приводят с младенцем к ним, Макарий становится с крестом. Курбский целует крест первым, за ним Старицкий, потом Федоров-Челядин, чью роль исполнял актер Никита Панфилов. Грозный наблюдал за этим из потайной комнаты. На следующее утро царь проснулся здоровым и обозленным, мечтая покарать всех, кто не хотел присягать его сыну. По сюжету царь спросил у Старицкого, почему он при всех не отрекся от трона, не объявил, что власти не возьмет? Двоюродный брат ответил, что не решился, что не хотел он и не чаял, а теперь и вовсе кажется, что нет ничего страшнее той власти. Царь признался, что грешен перед братом, завидует тому, что тот пчел разводит, «я бы тоже разводил, но его выбрал Господь». Владимир поинтересовался: нет ли вражды между ними, на что услышал слова царя: «Нет, брат ты мне».
Перейдем к повествованию того, что осталось за рамками сериала.
На самом деле это была очередная попытка убийства царя. Все выглядело так, будто царь неожиданно заболел. Во время болезни случилось то, чего глава государства не ожидал увидеть – брожение умов, волнение среди родственников, бояр и приближенных. Повторения своего тяжелого детства он не желал своему сыну. Во избежание этого и междоусобной грызни между боярскими кланами Грозный пожелал увидеть процедуру крестоцелования в знак верности ему и его наследнику. «Ближняя дума принесла присягу на имя наследника 11 марта 1553 года. Общая присяга на имя наследника была назначена на следующий день»204. Сильвестр был на стороне Старицких, хотя он должен был понимать, что воцарение Владимира Старицкого грозило Анастасии и младенцу смертью. Родственники Старицкие – двоюродный брат Владимир и его могущественная мать Ефросинья не пришли во дворец, сославшись на болезнь. Многие доверенные лица, в том числе отец Адашева, отказались присягать сыну Грозного. Хотя по другой версии, он принес присягу в первый день, но с оговоркой, что если будет регентство царицы Анастасии, то ее роду Захарьиных высшая знать служить и уступать власть не намерена. Бояре и знать консолидировались вокруг двоюродного брата царя Владимира Старицкого. Некоторые нашли повод для отказа в «целовании креста»: «Первым отказался целовать крест Дмитрию Иван Шуйский под предлогом того, что князь Владимир Воротынский и дьяк Иван Висковатый – слишком худородны для того, чтобы принимать у него присягу. Шуйский желал целовать крест только лично перед царем (прекрасно зная, что это невозможно). Шуйского поддержал и Федор Адашев, не желающий вместе с царевичем – пеленочником служить его родне – Захарьиным (родственники жены Грозного Анастасии). Князь Владимир Старицкий наотрез отказался присягать племяннику и даже угрожал боярину Воротынскому, принимавшему общую присягу, своею «немилостью» после захвата власти»205.
Этот момент дополним с помощью книги доктора исторических наук И. Я. Фроянова: «Иван Шуйский отказался целовать крест наследнику престола. Но сделал он это под внешне благовидным предлогом: «не перед государем целовати не мочно». С формальной точки зрения Шуйский имел основания поступить подобным образом. Однако то была формальность, которая переходила в существо вопроса: присягать или не присягать. Иван Шуйский избрал второе. Поэтому не следует, на наш взгляд, рассуждать так, будто протест Шуйского «носил формальный характер и вовсе не означал отказа от присяги по существу». Перед нами та формальность, о которой говорят: по форме правильно, а по существу издевательство. Свой отказ от присяги по существу И. М. Шуйский завуалировал формальной причиной. Целовать крест царевичу Дмитрию князь, как видно, не хотел и потому свел свою проблему к отсутствию государя на церемонии присяги. Он ведь ничего не сказал насчет замены молодых бояр, руководивших присягой, боярами старшими, поскольку понимал, что произвести такую замену проще и легче, чем вынудить изнемогающего от хвори государя быть при утомительной процедуре крестоцелования. И тогда присяга могла бы состояться. А этого-то заговорщикам и не хотелось. <…>
Вот почему Шуйский сосредоточил внимание на царе Иване, требуя его присутствия на крестоцеловальной церемонии, открыто проявив тем самым несогласие с государем, т.е. неповиновение ему. <…>
Ситуация усугублялась для царя Ивана тем, что И. М. Шуйский говорил не от себя лично, а от лица «всех бояр» (за исключением, разумеется, ближних). <…>
Заявление И. М. Шуйского послужило сигналом для других. Вслед за ним (видимо, по заготовленному сценарию) выступил окольничий Ф. Г. Адашев»206.
Представим, в какой ситуации оказался Иван IV. Грозный – царь, главный человек в стране, но понимает, что ничего не может сделать для своего единственного сына и государства. Дело дошло до того, что царь начал упрашивать верных ему князей Мстиславского и Воротынского любой ценой спасти жизнь его младенца.
Историк Д. Володихин пишет: «Сторонники и противники принятия присяги «бранились жестоко». Оказалось, что противников принесения присяги мальчику не столь уж мало… Сам царь с ложа болезни принялся воодушевлять верных ему людей. Оробевшим Захарьиным-Юрьевым, прямой родне царевича Дмитрия, он бросил: «А вы… чего испужались? Али чаете, бояре вас пощадят? Вы от бояр первые мертвецы будете! И вы бы за сына моего и за матерь его умерли, а жены моей на поругание боярам не отдали!» Князя Владимира Андреевича пришлось принуждать к целованию креста, угрожая применением силы… В конце концов государь выздоровел, и вопрос о присяге на верность маленькому Дмитрию потерял актуальность. Но «боярский мятеж» показал Ивану Васильевичу в очередной раз, сколь зыбко его положение и сколь мало у него возможностей в случае скорой кончины обеспечить достойную судьбу своей семье»207.
Удивительным считаем заключение авторитетного историка Р. Г. Скрынникова: «Царские речи, без сомнения, являются вымыслом. Иван был при смерти, не узнавал людей и не мог говорить. Но даже если бы сумел что-то сказать, у него не было бы повода для «жесткого слова» и отчаянных призывов. <…> Василий III умер в ночь, и лишь на следующий день дума принесла присягу Ивану IV. Бояре Захарьины были настолько уверены в близкой кончине царя, что организовали присягу младенцу Дмитрию до смерти монарха»208.
Создается впечатление, что вину Р. Г. Скрынников переносит на братьев жены царя Захарьиных за то, что они на один день раньше попросили принести присягу. Получается, что если бы они не спешили с присягой, то на следующее утро царь выздоровел, и в черном цвете не предстало окружение царя. Благодаря этому мы не подумали бы, что противники царя задушили бы наследника, а Анастасию сослали в монастырь… А так, по вине Захарьиных и царь, и мы узнали, кто и что из себя представляет на самом деле.
Необходимо отметить важную деталь – царь выздоровел, и он не знал о том, что Старицкие не только не хотели присягать, но и подкупали военных. Этот аспект с подкупом помогает понять, что царь не просто так заболел, а был отравлен.
Р. Г. Скрынников пишет: «Подлинные документы – крестоцеловальные записи князя Владимира Старицкого 1553–1554 гг. позволяют установить, что во время болезни царя мать князя и ее родня действительно собирали в Москве свои вооруженные отряды и пытались перезвать на службу в удел многих влиятельных членов думы. <…> Фактически дело шло к государственному перевороту. Однако царь выздоровел, и династический вопрос утратил остроту»209.
То есть Ефросинья с сыном не надеялись на кончину царя, а знали, что скоро царь заболеет… За доказательствами обратимся к историку И. Я. Фроянову: «Судя по всему, старицкие правители собрали детей боярских в своем кремлевском дворе. Дело это не простое, поскольку служилые люди, как тогда выражались, «сидели по домам» или находились в служебных посылках. Значит, о сборе их нужно было специально оповещать, для чего требовалось, по крайней мере, несколько дней. Возможно, однако, что оповещение и сбор детей боярских состоялось накануне мартовских событий 1553 года. Если согласиться с первым заключением, надо было признать, что болезнь царя сразу же побудила Старицких и придворную «фронду» к активным действиям по захвату московского трона. Без предварительного сговора между ними, квалифицируемого как антигосударственный заговор, это представить, на наш взгляд, невозможно. Еще более укрепляет мысль о заговоре догадка, согласно которой оповещение о сборе в Москве детей боярских старицкого князи имело до болезни государя. Но тогда окажется, что об этой болезни и времени ее возникновения Владимир и Ефросинья Старицкие знали наперед и потому заранее собрали своих детей боярских у себя на кремлевском дворе, где держали их наготове. Опасность скопления в Кремле служилых людей соперника царь Иван осознал в ходе мартовского «мятежа», вследствие чего в крестоцеловальную грамоту старицкого князя Владимира на имя государя и его новорожденного сына Ивана (май 1554 г.) было внесено обязательство: «А житии ми (Владимиру) на Москве в своем двор; а держати ми у себя своих людей всяких сто восмь человек, а боле ми того людей у себя во дворе не держати; а опричь ми того служилых своих всех держати в своей отчине».
Признав заблаговременный сбор служилых людей старицких правителей в их кремлевском дворе, мы снова упираемся в догадку об искусственном происхождении заболевания царя, предполагающую отравление. Однако при любом раскладе событий ясно видна конечная цель Старицких и споспешествующей им придворной группировки – захват высшей власти. Особенно наглядно это демонстрирует выдача князем Владимиром и княгиней Ефросиньей денег детям боярским. По заведенному в ту пору порядку жалование служилым людям, в первую очередь деньгами, выдавалось перед походом. Поэтому раздача денег детям боярским, находящимся на службе у старицких князей, означало лишь одно: приготовление к вооруженному выступлению против царя Ивана и его наследника Дмитрия. Бояре, верные государю, не заблуждались на сей счет ни на минуту. <…> Сторонники царя, следовательно, проявили твердость и прекратили доступ удельного князя к больному, но без основания усматривая опасность для него такого рода посещений. Следовательно, скрытое противостояние противников и сторонников Ивана IV превратилось в конфликт, еще не вооруженный, но открытый. И вот в этот конфликт, свидетельствующий о накале страстей при дворе, вмешивается политический, так сказать, «тяжеловес» поп Сильвестр, причем на стороне старицких властителей»210.
Очередная ложь и с участием Макария, который в сериале принимал участие в процедуре крестоцелования, а фактически нет. С точки зрения государственного управления он был высшим духовным лицом, с человеческих позиций, царю он заменил отца. Странно, что его там не было, не правда ли?
Ответ о причинах отсутствия найдем у И. Я. Фроянова: «О том, насколько высокой была степень опасности, с которой столкнулся Иван IV в марте 1553 года, свидетельствуют не только военные приготовления Старицких, дерзкое неповиновение государю Боярской Думы и смешанный сословный состав «мятежников», но и загадочное отсутствие митрополита Макария на протяжении всей истории кремлевских потрясений. Историки обратили внимание на это странное, прямо скажем, выходящее из ряда вон обстоятельство и попытались уяснить, почему так случилось. Мнения звучали разные. <…>
С основным выводом И. И. Смирнова, будто митрополит Макарий склонялся на сторону противников царя Ивана, согласиться, по нашему убеждению, невозможно. <…>
…неучастие митрополита в церемонии крестоцелования, противоречащее обычаю, ставило под сомнение сам факт крестоцелования и открывало возможность в дальнейшем оспорить присягу, объявив ее недействительной. К этому необходимо добавить красноречивое отсутствие при умирающем, как многим казалось, царе его духовника протопопа Андрея, что являлось вопиющим нарушением христианского канона, делая предсмертные распоряжения государя, запечатленные в духовной грамоте, нелегитимными. Спрашивается, кому это было выгодно? Царю Ивану? Конечно же, нет. Это было выгодно противникам Ивана IV. <…>
Изоляция митрополита Макария и протопопа Андрея преследовала одну цель: сорвать процедуру целования креста или сделать ее недействительной.
Бесцеремонное обращение с митрополитом и духовником царя свидетельствует о том, какую огромную власть и силу сконцентрировали в своих руках противники русского «самодержавства». Царю, и без того измученного болезнью, пришлось не- однократно уговаривать крамольников»211.