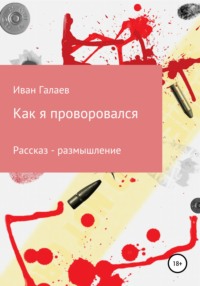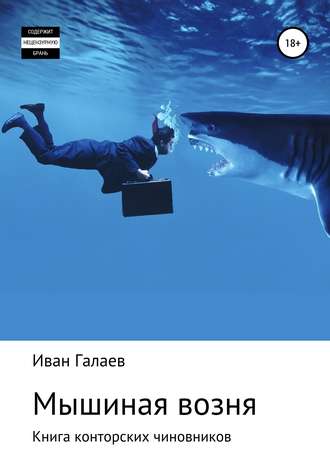 полная версия
полная версияМышиная возня. Книга конторских чиновников
Вот и разберись, мой друг Горацио, кто виноват здесь конкретно.
Приоритетность объектов
Одной из важнейших постоянных миссий нашего заведения является ранжирование объектов в порядке приоритетности их реализации. На простом языке это означает, что мы расставляем приоритеты. Выполняется такая работа как для реального планирования деятельности, так и для галочки – на всякий случай, если кто спросит. Задача требует учёта множества факторов и взвешивания этих самых факторов. Не всё в нашем механизме так просто, как может показаться. Если б было не сложно, то оно б не было так «вкривь да вкось».
Заявителя жалобщика обычно интересует, почему улицу у соседа-негодяя и бездельника закатали в асфальт, а ему оставили шиш с маслом на ближайшие десятилетия, почему в городе всё строится, а в его родной д.Пузыри дети в школу плавают на лодке… Почему обещали и не делают? Почему там? Почему не здесь? А с чего вдруг так дорого? Иногда меня и самого одолевают подобные мысли. Они так накатывают, что не умещаются за один знак вопроса.
Обычно люди негодуют и пытаются достучаться путём сутяжничества. Они пишут письмо и представляют себе, как грозный столоначальник в высоком кабинете прочитает о его проблеме, наконец-то прозреет, разгневается на отсутствие Справедливости и тут же даст указание своим балбесам разобраться. Советский кинематограф хорошо воспитал нас. Даже многие высокие руководители доселе убеждены, что именно так они должны управвлять – звонить всем подряд, совать нос куда попало и орать-орать-орать.
После каждого отрицательного ответа пишут ещё выше. Когда достигается уровень президента или Прокуратуры (их ставят примерно в один ряд), а результат остаётся неизменным, то в ход идут угрозы нажаловаться в скандальное ток-шоу для домохозяек. Квадратный телевизор от чего-то считается последним шансом на справедливость.
Между тем, в любом государственном деле, касаемом «распилов», принимает участие уйма влиятельных лиц. Депутаты, меценаты, друзья мэра и пэра – они все тут как тут, толкаются локтями, намекают и шантажируют. Мнений и хотелок масса, а ресурсы ограничены. Все пожелания нужно не только учесть, но и выстроить в некоей «выгодной» очерёдности. Соображать нужно, где чьи интересы затронуты, кто влиятельнее и какая из уступок опаснее. Такие понятия как разумность, объективность и системный подход здесь, на главном этапе планирования, не первостепенны.
В официальных ответах гражданам мы такое никогда не сообщим. Пишем про комиссию, которая якобы обдуманно расставляет приоритеты, но всё это ложь. В большинстве регионов и муниципалитетов нет такого совещательного органа, а если даже он и имеется, то члены его даже не знают, что состоят там. Комиссия не имеет никакого смысла в нашей системе и поэтому, если она даже формально заведена приказом (!) в обязанности её входить только послушное закрепление спущенных сверху решений. Фактически (но негласно), комиссией является та самая группа влиятельных игроков, которая говорит «что нужно делать».
Когда соискатели Справедливости выходят со своей замечательной затеей, они не представляют, какую конкуренцию она должна выдержать. Не каждый даже из влиятельных лиц способен обыграть систему, переубедить своих соперников и отстоять «нужную» правду. Чтобы достигнуть успеха, важно не просто написать, а найти для своей затеи действительно сильного покровителя.
С сильными бойцами в нашей сфере очень туго, потому что просто так никто не станет рубиться за чьё-то счастье. Для начала надо сделать свой интерес депутатским, министерским или губернаторским, только так возможно движение.
Иногда срабатывает способ выдачи своего хотя б за общественное. Школа рядом, пенсионеры, инвалиды страдают… Когда требует широкая публика, вопрос перемещается в зону пиара и вероятность заинтересованности им важных лиц повышается. Но это очень редко! Очень.
При формировании наиболее важных дел нам, служащим, приходится изрядно поломать голову. От исполнителя требуется не просто сделать так как сказали, а ещё и угадать что из пожеланий является наиболее важным, и какие из мероприятий можно чуть-чуть отодвинуть на потом. Распознавать пожелания, балансировать и вежливо объясняться о каждом своём шаге – есть главное искусство.
Всё начинается с распределения денег в целом по отраслям. Хоть результатом распилов обычно остаётся «финансирование на уровне предыдущих лет», всё равно нужно изрядно упахаться.
На первом этапе наш Департамент, который, казалось бы, играет «первую скрипку» от строителей, обязан отстоять лимит на всю дорожную и транспортную отрасль. Мы просим, а губернаторская Дума вместе с Финансовым департаментом всячески отклоняет предложения. Есть даже такое понятие как «защита бюджета», отдающая по своему звучанию боевыми действиями. Это длительный и нервный процесс, в котором задействована армия людей и нелюдей тоже. Думаю, что тема противостояния между теми, кто распределяет деньги и теми, кто их просит достойна научного и даже философского изучения.
С нашей стороны используются все аргументы в виде представлений Прокуратуры, решений Судов, предписаний органов Полиции, обещаний депутатам. Мы выцарапываем у финансистов на самое-самое необходимое используя весь имеющийся талант, ухищрения и уловки, а они воротят нос. Иногда баталиях за бюджетную роспись даже мелькает здравый смысл. Выкручивание всеми правдами и неправдами лимитов – это ещё не финиш. Следующей фазой будет формирование непосредственно плана дорожных работ, к которому попытаются приложиться все, кто только могут. Документ является «началом начал» и поэтому схватки за строки в нём случаются не хуже ближневосточных конфликтов. Манипуляции, интриги, угрозы и доброе слово – всё идёт в ход. Даже тот казначей, что вчера ставил палки в колёса, урезал наши лимиты и не желал ничего слышать, сегодня уже занимает другую позицию; он настаивает на колоссальных объёмах, а ещё хочет, чтобы выделенные отрасли средства были потрачены правильно – т.е. по ЕГО разумению. После того как деньги от «финансистов» перешли к «хозяйственникам», мы как будто меняемся местами и обязанности по «обороне» кошелька ложится на наши плечи. Пилим деликатно и вежливо – всем по серьгам.
Губернатор (с большой буквы) часто встречается с важными персонами и как следует из того много им обещает. Письма с резолюцией «предусмотреть в программе дорожных работ» так и сыпятся веерами. И когда только успел? Плавненько, ото дня ко дню, от месяца к месяцу папка с хотелками заполняется, карта области, как бабулина иголошница, покрывается тычками (так мы для себя обозначаем очаги проблем). Когда настаёт страднáя пора и мы верстаем план, то выходит оverbooking (число проданных билетов превышает количество возможных посадочных мест). Удовлетворить всё обещанное вместе с представлениями Прокуратуры, решениями Судов и требованиями региональных депутатов не представляется возможным. В этот момент начинается самая прелесть, а многие из служащих (и даже управленцев) уходят на больничный. Чтобы безопасно для себя и своего начальства отсеять игроков расставить приоритеты, все шаги принято согласовывать с первым лицом области. С задачи «отсеять лишнее» начинается реальная аналитическая работа. Для этого на свет производится целая «диссертация», подкрепленная всяческими материалами обо всём на свете. Взвешиваются перспективы, обсчитываются многочисленные варианты развития событий, оценивается пиаропригодность объектов и пр. Каждая позиция требует обзора чуть ли не всей экономики региона. Сводная таблица показателей, с которой мы ходим к губернатору, имеет 20-30 столбцов и бесконечное число строк.
Существует вполне рабочий показатель – «деньгочеловеки», который отражает сколько надо потратить средств, чтобы удовлетворить одного жителя. Например, если живет в деревне 170 человек, а дорога до нее стоит 50 млн. денег, то показатель будет 294. Чем ниже показатель, тем больше пиара, за меньшие деньги, тем больше людей будет довольными и пойдут голосовать за действующую власть.
Возможно, в далёком будущем, когда человечество начнёт обживать поверхность Меркурия, а мою работу будут выполнять бесстрашные перед начальником компьютеры, и наконец-то аналитическая работа пойдёт впереди обещаний политиков – Я верю в это. А пока нам есть чем заняться, и деревня Пузыри подождёт.
***
Кроме непреодолимой силы кулуарного толка бывают случаи бездействия по юридическим причинам.
Не всегда реально объяснить бездействие только недостаточным финансированием. Очень часто денег у отрасли в изобилии, но! невозможно что-то выполнить, не нарушив при этом закон. Принято считать этот пункт формальностью, им даже начальство пренебрегает, но Я, как исполнитель, не сбрасываю препон со счетов и опишу. Государство создало такие официальные правила, что само задыхается от них. Нужно применить всю известную человечеству джиу-джитсу, чтобы вписаться в законные рамки, или пойти осмысленно на нарушение. В моей практике множество раз бывали ситуации, когда средств на объект имелось больше, чем их реально можно было правильно «освоить»: где-то нет проектов или землеотвода, например; в некоторых случаях нет понимания «по какому из пути движемся» и поэтому тратиться – запрещено. Финансирование может быть заложено под объекты, реализация которых в данный момент времени не возможна, а затрата этих средств в другом месте трактуется нецелевым использованием средств. Для того, чтобы развязать бюрократию при уже имеющемся мешке денег иногда требуется кропотливая совместная работа многих ведомств, и даже личное вмешательство первых лиц области, министерства или государства. Нельзя взять и переиграть самим, так, как будет лучше. Нельзя!
Бумажная волокита может сломать и загубить что угодно. Когда-то, в 1955 году, из-за проволочек с выездными документами представители СССР опоздали на Парижскую конференцию по разделу Антарктиды. А с тех пор бумажная волокита только усиливалась…
Особенно много мороки с федеральными средствами. Условия предоставления субсидий из федерации всегда сложные, Я б даже сказал издевательские. Они не поступают как свободный транш для региона, а выделяются через строгие целевые программы с множеством «если». Федерация не тратится на то, что реально нужно здесь и сейчас, она требует от хозяйствующих субъектов соблюдения пунктов её общей для всей страны программы. Условия поддержки федерацией строительства дороги до какого-либо населенного пункта могут быть следующими: количество жителей не менее 250 человек; протяженность участка дороги не более 5 км; покрытие после выполнения работ – золотое; общие расходы на объект – не более ХХ млн. денег, а собственный вклад региона – не менее 30% от общих расходов. И ещё, все должны ходить в красных носках и горячо любить государя.
Чтобы региону со своим объектом заявиться на федерацию, он обязан иметь на руках весь необходимый для стройки вагон документов, отведённую на 100% стройплощадку и полную уверенность в том, что ничего не изменится до самого финиша. Переиграть что-то на ходу – практически невозможно и даже уголовно наказуемо. Морока с коммуникациями, перепроектированием, долгим изъятием земель – не для федерации. Даже проектная документация на объекты с федеральными и региональными инвестициями имеет некоторое различие, поэтому при её разработке должен быть определённый прицел.
Чтобы не вляпаться в конфликт с федерацией, для реализации предлагаются самые лёгкие и чистенькие объекты где-то за городом или в чистом поле. В итоге деньги тратятся не на то, что «горит», а на то, что полегче. Освоение колоссальных средств идёт самым бестолковым способом. Кстати, многие регионы под удачным предлогом отказываются от такой «поддержки» и их потом ругают публично, – но это ладно.
Не так давно федерация «предложила» регионам субсидии на развитие агломерации (инфраструктуры крупных городов). Задумка была хорошей, но она требовала неотложных платежей от области. Вместо того, чтобы леяить НАБОЛЕВШЕЕ, мы (область) подталкивались к финансированию ненужной сейчас инженерной инфраструктуры микрорайона в чистом поле. Отказаться от участия в программе, значило бы потерять большие деньги федерации, а согласиться, значит раззориться прямо сейчас на какую-то призрачную перспективу. Требуются валенки к зиме, а придётся купить кеды из-за скидки.
Город задыхался в многочасовых пробках с северной стороны, а мы бросили все силы на южную часть, в чистом поле. Отличные дороги со свеженькой разметкой, освещением и тротуарами; всё классно, только вокруг – ни души.
Мы долго объяснялись о причинах такой несправедливости.
И всё равно дураки.
Экономика и финансы
С тех пор как древние финикийцы придумали деньги…
Система власти разделяется на 3 основных уровня: федеральный, областной и местный (муниципальный).
У каждого из них свои задачи и полномочия, свои бюджеты и штаты работников. В ходе работы (!) эти уровни между собой взаимодействуют, но начинается всё с федерации. Именно к ней относятся такие регуляторы как налоговая служба, казначейство и общегосударственные надзорные органы, осуществляющие штрафные сборы. Даже пенсионный фонд и соцстрах – федеральные, если кто не в курсе. При этом важно отметить, что государственный оброк с любого производства на территории области или муниципалитета не наполняет местную казну напрямую, а проходит множество кругов бюрократии, чтобы частично вернуться туда, от куда он начал свой путь. Бизнес на территории города платит налоги не совсем в пользу того города, в котором находится. Областной или местный (муниципальный) бюджет получит те деньги, которые генерированы на его территории, но не все и не сразу и даже не так как хочется, а через какие-то ветвистые программы, субсидии и «налоговые манёвры»71. На уровне государства всё это придумано, чтобы усреднить температуру по больнице, за счет «успешных» помочь тем, кто более нуждается или тем, кто вообще ничего не производит; а ещё такой подход нужен чтобы обеспечить целостность и безопасность. Якобы…
Если утрировать, то выглядит оно примерно так: есть большая семья, где отец заправляет всеми капиталами. Кто бы чем там у них не занимался и сколько б не зарабатывал, главный распорядитель – батя. Он определяет размер карманных расходов и решает какими должны быть крупные цели: учёба, жильё и т.д. При этом на каждое финансирование строгий отец может придумать правила и условия: пятёрки в школе – поощрение, зарабатываешь сам – получи возврат 1/10 от своей же зарплаты, строишь дом на соседнем участке – компенсация 50% от стоимости, купил квартиру в городе – шиш тебе на постном масле; родил сына – жди поддержку, любовь и опеку, а если дочь – то и не обижайся в общем. У отца могут быть причуды, он может поступать по справедливости или кривить душой, а может вообще не дать никому ничего из-за того, что так посчитал нужным, – вариантов здесь масса.
В государственной семье машине принцип такой же: деньги собираются в одном месте и выделяются по разным схемам. В зависимости от мнения влиятельных лиц государства, политической ситуации и хитрости «получателей» может твориться разное: срезать у северян – отдать южанам, отнять у нефтяников, чтобы внезапно развить местность под нужды Олимпийских игр – всё пожалуйста. Это нормальная практика и о ней известно с телевизора.
История помнит не мало таких «эффективных» регуляторов с интересными последствиями. Когда-то Аральское море Казахстана отправили в пустыни Узбекистана для выращивания хлопка, а те рыбные колхозы, которые остались на сухом дне моря, продолжали работать на привозной Балтийской рыбе. Чиновничья голова, она ещё и не такое придумает, ага.
Иногда бывает перекрёстная система ассигнования, когда федерация «поддерживает» регион по какой-то целевой программе, а этот же субъект встречно выделяет субсидию федерации, но уже на другие нужды. Взаимные платежи происходят даже в рамках одной отрасли. Фактическая работа может осуществляться на едином объекте в одном месте (например, реконструкция аэропорта), но маршруты финансирования будут ооочень далёкими и заковыристыми. Финансировать друг друга это как делать ремонт квартиры с соседом, когда он оплачивает твой ремонт, а ты его.
Главная при всём этом цирке – ничего нигде не спутать. Каждой копеечке – свой пункт назначения от своего источника (бюджета). Казначейства и департаменты, управления и министерства, заказчики и подрядчики будут много работать, чтобы деньги прошли как положено. Целая армия бюрократов вынуждена ежедневно ускоряться, распутывать следы и визжать в трубку телефона, чтобы долгий маршрут был пройден как можно быстрее.
Экономика у нас полуплановая, и поэтому движения финансов начинаются с началом налогового года. При этом нет никаких строгих пятилеток и реальных строгих перспективных планов. Вернее, они есть, но постоянно редактируются в зависимости от обстоятельств. Цифры будут скакать непрерывно вместе с курсом доллара, по фазам луны и от каждого отдельного события в нашем бренном мире, съедая время и путая всех участников процесса. Загорелся где-то средний восток – бюджет будет меняться, начался конфликт с соседним государством или лидеру страны в голову пришла светлая мысль – ситуация та же самая: оперативно перекроить всё наоборот, с учётом новых реалий. Каждое изменение требует серьёзных перераспределений ресурсов с бюрократическими проволочками. Любая маленькая переброска средств это неизбежный блудняк со всякими неувязками и стрессами.
Система является громоздкой и в то же время очень требовательная.
Планирование доходов и расходов осуществляется, когда самих денег еще нет. Причём нельзя просто так запланировать что-то единым платежом «на прочие нужды» и пусть хозяйствующий субъект там сам решает. Всюду нужно расписать, доказать и защитить: расходы позволительны на конкретные подтверждённые цели и в чётко просчитанном объёме. Порядок и точность!
Реальная ситуация очень изменчива, а вот вся эта педантичность требует кучи согласований и времени.
За любыми действиями, связанными с деньгами, пристально следят надзорные органы (Счетная палата, Прокуратура, Полиция и даже Федеральная служба безопасности). Такие «глаза» не облегчают работу и тем более не способствуют скорости. Для сравнения могу сказать, что построить объект гораздо легче, чем его довести до стройки. С момента принятия бесповоротного решения о выполнении работ на объекте до начала его реализации уйдёт больше времени, чем на саму стройку, – запрячь сложнее и дольше, чем доехать.
«На пальцах» это сравнимо с ремонтом в квартире, если б человек, затеявший ремонт имел на каждый вид работ отдельного инвестора и ему было б запрещено путать статьи расходов. На установку унитаза расходы берёт на себя родная тёща, на коммуникации он ждёт зарплату, а на керамическую плитку оформляет потребительский кредит в хитромудром банке. Каждый инвестор готов оплатить, но не говорит сколько конкретно денег он даст и когда. Тёща помогает, но с условием, что ей вовремя перечислят пенсию. Банк без проволочек выдаёт нужную сумму, но обязывает отчитаться о проделанной работе в установленный срок и по мудрёной форме. Придержит работодатель чуть-чуть зарплату, и вся эта схема потребует срочного перестроения, иначе керамическую плитку придётся специально для отчёта перед банком положить до того, как появятся коммуникации. Такое на дорогах бывает часто, кстати – сначала асфальт, а потом экскаватор и [ну вы поняли].
В крупных масштабах дорожники постоянно сталкиваются с проблемой, что выделенные средства они не могут потратить на реальные нужды. Нельзя оплатить перенос водопровода, если в утверждённых планах заложена установка светофора. Стоит лишь вовремя и спешно не переиграть ситуацию, и сразу возникнет недоосвоение средств на фоне острого бюджетного дефицита. Вдуматься! – лишние деньги при их общей недостаточности.
Курьёзы случаются постоянно, и, что характерно, об истинных их причинах не сообщается ни в каких СМИ, даже в сухом виде. Обвинить в головотяпстве кого-то одного трудно (редко удаётся) или запрещено начальством, а говорить об убогости всей системы управления от имени самой системы – не логично, не прилично и не практикуется. Да и сами бюрократические проволочки отпугивают людей своей нудностью – это как бухгалтерия, где ничего никогда не понятно, и нафиг надо…
Иногда бывает так, что деньги, в которых имеется острая нужда, вполне правомерно доходят до пункта назначения и возвращаются в исходную точку. Круговорот «бестолковых» денег – абсурдно, но реально.
В 2015 году из нашего областного бюджета было принято решение выделить муниципалитетам средства на обустройство полигонов твердо-бытовых отходов. К расходам подтолкнуло вступление в силу новых требований. Районы заявили огромную финансовую потребность по такому случаю и обеспечить её не было никакой возможности. Выделить пришлось мизер, которого не хватило бы и на четверть заявленной нужды. Делайте поэтапно, сказали…
Недофинансирование бывает часто всегда, этот случай не был особенным. Одеяло сильно маленькое, а укрыться хочется всем.
После того, как вместо мешка денег выпрошена горсточка монет, настаёт пора визитов Прокуратуры и экологов. Начинаются неудобные вопросы и придирки к каждой букве. Надзорные органы должен выполнить свой план, поэтому проверяющий будет читать ГОСТ, цепляться к каждой букве, и бесцеремонно наказывает муниципалитет крупным штрафом. Это обязательно!
Те малые средства, которых и так изначально недостаточно, будут дополнительно урезаны штрафами. Прокуратура отнимет их у муниципалитета и направит обратно в федеральный бюджет. Полигоны ТБО так и останутся в прежнем состоянии до великого свершения, а деньги будут ходить от федерации до муниципалитета и обратно. Прокуратура и экологическая служба (госорганы) выполнят свой план за счет другого государственного органа в пользу государства. Женщина в погонах и строгим лицом с телевизора расскажет какое вопиющее нарушение пресечено её бдительным ведомством и как наказаны бездействующие местные чиновники…
Мо-лод-цы!
Бог дал – бог взял.
Такая же ситуация с инспекторским надзором со стороны Полиции. Инспекция по безопасности дорожного движения наказывает собственников дорог за плохое их состояние в связи с недофинансированием. Часть малых средств, которые доведены до дорожников на поддержание дорог в ПРОЕЗЖЕМ состоянии уходят обратно в бюджет через систему штрафов.
Схема работает безупречно – все при деле, и отчёты красивые.
Государственно-частное партнёрство
Это очень удачный термин. Он полюбился отечественным киношникам и журналистам, потому что намекает на открытости власти и её тягу к бизнесу. А названия и формулировки как стало известно здесь всегда важны.
С момента издания закона о ГЧП прошло какое-то время и для ускорения процесса началось его насильное внедрение в практику (а у нас всё только так!). Прилетел циркуляр и завертелось.
Чтобы вести повествование более предметно, в двух словах опишу, что это за овощ и с чем его едят.
ГЧП подразумевает совместное финансирование какого-либо объекта, с привлечением частных инвестиций. По закону предусматриваются пропорции с государственной долей не более 85%, остаток вносит частник. Несмотря на завсегдашний подвох в общих с государством делах, для капиталиста в этой схеме имеется очень даже нехилый интерес:
– он уходит от системы госзакупок и не участвует в конкуренции;
– он по предварительному соглашению закрепляется за объектом на его дальнейшую (пожизненную) эксплуатацию и делает на нём бизнес.
Иными словами, если частник вложится в строительство какого-то моста, то потом он вправе сделать его платным и брать мзду. В качестве дополнительной преференции он будет являться единственным безальтернативным эксплуатантом объекта, с возможностью постоянно просить денег у государства на снегоуборку, наружное освещение, ремонты и пр. и пр. Механизмы на этот счёт разные и всё зависит от достигнутых договорённостей между государством и частником.
Если всё делать чисто, без сговоров и заинтересованностей, то схема очень даже неплохая. Если!
Фактически, интересное начинается уже на старте. Благодаря пронизывающим всю госсистему дружбам, по предварительному сговору завышается цена объекта, чтобы те 15%, которые вкладывает частник, с лихвой ему же и вернулись в ходе последующего строительства. Если всё сделать «правильно», то частник получает доступ к очень хорошему куску на неопределенный срок.
Нужно отметить, что государственная часть денег тоже идёт не одним цельным куском: в них может входить как региональная, так и федеральная доля. Игра с долями – политика, если кто не знает.
Именно получением субсидии из федерального бюджета для региона под предстоящее ГЧП с местными дельцами мне и было поручено заниматься. Предполагался хитрый манёвр: выполнить задание федерации по ГЧП с использованием их же денег.