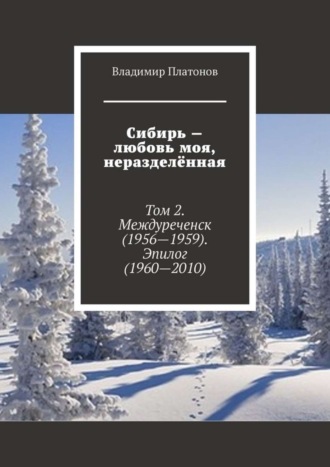
Полная версия
Сибирь – любовь моя, неразделённая. Том 2. Междуреченск (1956—1959). Эпилог (1960—2010)
Поезд прибыл минута в минуту, я тотчас же очутился у указанного вагона, и в тот же миг с подножки ко мне спрыгнула Людмила в лёгком платье юная, обольстительная с чемоданчиком в правой руке. Чемодан был брошен ею на землю, нежные руки обвились вокруг моей шеи, губы слились… и я задохнулся от счастья. Я притянул её крепко своими руками, и упругие груди её прижались к моей груди, и я ощутил всю их сладость. О, минута блаженства!
…приехав с Людмилой в санаторий в сумерках, я сожителей своих не застал. Мне сказали, что все обитатели корпуса на открытой площадке в летнем кинотеатре, где местная самодеятельность услаждает глаз и слух отдыхающих. На эту площадку мы и отправились. Скамейки сплошь были заполнены отдыхающими, и в этом скопище я с трудом отыскал две знакомые головы. К неописуемому моему огорчению, хуже – к ужасу моему, эти добрые дяди, позабыв обещание, и пальцем не шевельнули, чтобы крышу для моей возлюбленной подыскать. Пообещав за такую бессовестность выгнать их к чёртовой матери на ночь на улицу, если я ночлег для неё не найду, я усадил Люсю на свободное место, а сам направился к бедному домами посёлку при санатории. Я обходил домишки один за другим, барабаня пальцами в каждую дверь, но везде получал один и тот же ответ, что у них не то, что свободной комнаты, но и свободной кровати-то нет. И всё же мне повезло. Одна санитарка согласилась сдать на несколько дней комнатёнку. На вопрос о питании, она мне ответила, что она это может устроить. Если не в санаторной столовой, то в рабочей-то обязательно. Я рад был любой, зная, что в санаториях такого низкого уровня, разница в питании в столовых неощутима.
…я вернулся к театру. Концерт закончился, скамейки были пусты, никого на них не было, к моему удивлению и Людмилы не было тоже. Я начал поиск её в ближайших окрестностях. В щели под акустической раковиной пробивался электрический свет, я решил туда заглянуть и нашёл её в будке под раковиной, где она договорилась с местным культурником снять на ночь в будке топчан. Эта её предприимчивость мне не понравилась, но, разумеется, я Людмиле ничего не сказал, вежливо поблагодарив культработника за заботу. Я взял любимую за руку и увёл от него к хозяйке квартиры, которая обещала накормить её ужином.
Утром после завтрака я зашёл за Людмилой, но хозяйка сказала, что та позавтракала в рабочей столовой и ушла к морю на пляж. Это тоже меня огорчило – не дождалась меня. Но и сам виноват – не мог до завтрака к ней забежать.
…Санаторий располагался на маленьком плато между горами, круто обрывавшимся к морю. К нему были два спуска, один – слева, у самой горы – очень крутой, выводивший к камням обок пляжа, по второму – пологому, вдоль обрыва – спускались к пляжу, тянувшемуся направо широкой галечной полосой с капельками мазута, загустевшего и от солнца, и от морской солёной воды и выброшенного на берег штормами. На этом пляже я и нашёл Людмилу в компании молодых людей спортивного вида, то есть с превосходным телосложением, и сразу же заскучал, болезненно ощутив «теловычитание» своей неспортивной фигуры.
…среди этих ловких спортивных парней, ставших в круг и игравших волейбольным мячом, Людмила, очевидно, уже стала своей, ей пасовали, она недурно принимала мячи и удачно их отбивала какому-либо партнёру. Я постоял, посмотрел, как хорошо и ладно у них получалось: мяч всё время был в воздухе, ему не давали упасть. Его пасовали, резали, стремительно посылая к земле, но чьи-то сложенные ладони успевали вброситься между ним и землёй, и он свечой взмывал вверх, чтобы, падая, быть снова срезанным сильным ударом либо быть принятым мягко на ловкие пальцы.
…я втиснулся в круг, но сыгравшиеся молодцы меня словно и не заметили. Будто пустое место стояло. Будто нарочно меня обходили. Только раз резкий мяч полетел в мою сторону, я успел сложенные ладони подставить и отбить его на другую сторону круга. Больше никто мне мяча не подал, даже Людмила, к которой мячи летели ежесекундно, и она, надо снова сказать, очень умело с ними справлялась. Чуть постояв бесполезным столбом, я разозлился и ушёл загорать.
Спустя полчаса ко мне подсела Людмила.
– Что ж ты ушёл? – спросила она.
– А какой смысл без толку стоять, когда половина мячей идёт только к тебе.
– Ты ревнуешь?
– Горжусь. Ну какая мне радость оттого бы была, что тебя не заметили?!
Она прилегла рядом со мной на горячую гальку.
– Осторожно! – вскрикнул я, спохватившись. – Здесь мазута полно!
Предупреждение, разумеется, запоздало, но ей повезло, она не испачкалась. Раскинув руки и ноги, она лежала, подставив солнцу лицо с зажмуренными глазами.
Я встал. Вот она лежит предо мною почти обнажённая – на груди только узенький лиф и внизу только узкие трусики-плавки. Вот лежит предо мной её желанное тело, и невольно глаза мои бегут по нему, опускаются с шеи на плечи и с плеч, минуя подмышки с постри-женными волосками, на грудь, где под тугими круглыми колпачками скрыты дивные холмики и не скрыта меж ними соблазнительная ложбинка. Вот упругий девичий живот, и эти самые трусики, и бесстыдно, но и притягательно же, врозь раскинутые красивые ноги, и снова взгляд на живот и на треугольник под ним, прикрытый материей, из-под которой выглядывают курчавящиеся бессовестные завитки. Как же она вожделенна… и недоступна…
…мы поплавали в море, и пошли вместе обедать, теперь именно вместе в санаторную столовую – не составило труда договориться с официанткой: всегда кто-то уезжает досрочно, и всегда есть в запасе еда.
…вечером мы сидели с нею вдвоём на скамейке над обрывом у моря. Полная луна висела низко над нами, и широкая серебрящаяся, как чешуя трепещущей рыбы, дорога бежала от нас к ней по морю. Мы любовались луной, горами и морем, и этой лунной дорогой. Я обнял Людмилу и целовал упоённо, не осмеливаясь на большее.
…а зря. Через несколько лет дошло, наконец, до меня, что в любви нельзя пробавляться лишь вздохами, надо действовать, и как можно смелее. И ведь во всём всегда понимал, что лишь действием можно добиться чего-то. В работе действовал, например, и кое-чего добивался. А вот с женщинами любимыми ни на что не решался, боясь обидеть прикосновением, стыдясь сделать неловкое. Мне почему-то казалось, что если женщине я не совсем безразличен, если нравлюсь ей, если она в меня влюблена, то она даст мне как-то понять, что она будет не против действий моих, что она сама хочет, чтобы я зашёл далеко. Как же это было нелепо? Если я не решаюсь, почему же любимая должна быть смелее, решительнее меня? А тогда вот боялся её рассердить. Попытаться женщиной овладеть, не зная, не чувствуя, что она этого хочет – не мог. Поползновениями своими, которые – от правды никуда не уйдёшь – не всегда выглядят эстетично, боялся обидеть. Согласитесь, не очень красиво запускать руку в трусы, несравненно прекраснее, когда женщина сама сбросит одежды с себя и предстанет обнажённой, обворожительной.
…Наутро пора уезжать. Срок мой закончился. Мы с Люсей забрались в санаторный автобус. Место было лишь у меня, но понадеялись – пронесёт. Не пронесло. Нашёлся хозяин на место рядом со мною, где сидела Людмила – других свободных мест в автобусе не было. Я попросил разрешения везти Люсю у себя на коленях. Администраторша на уговоры не поддалась и решительно вытурила Людмилу, пообещав отправить её завтра следом за мной… Естественно, вслед за Люсей из автобуса вылез и я. Как я мог уехать бы без неё?
…мы разошлись по жилищам, переживая, как я полагал, о несостоявшемся отъезде. И напрасно. Во-первых, вечерний автобус привёз весть, что автобус, из которого нас безжалостно выгнали, перевернувшись на крутом повороте дороги, слетел под откос, так что нам следовало радоваться тому, что нас высадили. К счастью, деревья, на верхушки которых свалился автобус, спружинив, смягчили удар и не дали ему покатиться далее по откосу, так что трагедии не случилось: пассажиры отделались испугом и небольшими ушибами.
Во-вторых, Людмила и не думала по этому поводу унывать. После обеда она меня известила о том, что познакомилась с двумя прелестными парами, и эти пары пригласили нас на пикник. И когда это она всё успевала?
Пикник начался возле леса на окраине санатория за длиннющим деревянным сараем, отделяющим от него территорию здравницы, и скрывающим нас от нежелательных взоров. А взоры эти, как оказалось, были-таки, – любопытен, любознателен человек! И более чем любознателен…
За грубо сколоченным длинным столом на длинной доске, служившей скамейкой, лицом к сараю сидели обе прелестные пары. Две молодые женщины, лишь чуть нас постарше, меня нисколько не привлекли. Их спутники – два молодых человека – запомнились тем, что были поразговорчивей и побойчее меня. Мы сели на доску между обеими парами… На столе, застланном двумя развёрнутыми газетами, лежала закуска: колбаса, перья зелёного лука, сыр, хлеб, соль, свежие огурцы. Рядом с газетами стояла батарея больших винных бутылок и при них шесть гранёных стаканов.
…не успел я как следует всё рассмотреть, как стаканы наполнились красным вином и провозглашён был тост за знакомство, затем стаканы ещё много раз наполнялись… и некрепкое вроде вино, вкусом напоминавшее дешёвый портвейн, ударило в голову. Я стал весёлым и компанейским. Мы обняли друг друга за плечи и, раскачиваясь, горланили песни, шутили, смеялись, словом вели себя шумно, но ничего недостойного в действиях наших усмотреть было нельзя.
…и тут Людмиле захотелось плясать. Газеты с остатками пищи тотчас свернули, мгновенно очистили стол, Людмила, вскочив на скамью, а с неё на столешницу, прошлась по ней, стуча каблучками в таком стремительном темпе, что я со страхом подумал: либо проломятся доски столешницы, либо она сломает каблук, либо случится и то, и другое. К счастью, ничего не случилось. А Людмила выделывала коленца, отбивала чечётку, кружилась так, что платье взлетало вверх веером, оголяя до чёрта знает каких пределов её красивые стройные ноги. Платье не успевало за нею и уже не веером, а свившемся в вихре жгутом, мчалось вслед ей за её бешеным танцем. Возбуждённая «публика» ликовала, я по-гусарски неистово вместе со всеми выкрикивал короткое иноземное слово: «Виват!» – выражавшее высшую степень восторга.
…отплясав на столе залихватский свой танец, Людмила остановилась, и пять пар протянувшихся рук подхватили её и бережно опустили на землю… после чего вся братия провалилась куда-то, а мы с Людмилой очутились вдвоём на пустынном вечернем пляже, в левой части его у выдающейся в море горы, где в зелёной воде там и сям выступали редкие валуны с приросшими к ним водорослями, и волны, набегая на них, расчёсывали и полоскали их густые длинные коричневато-зелёные нити.
…голова кружилась при взгляде на бегущую воду, я был пьян и нетвёрд на ногах. Люсе тоже, видно, было не совсем хорошо, и она предложила освежиться, поплавать. Сбросив на камни одежды свои, мы поплыли в неширокие извилистые проходы меж глыбами, притопленными в воде, и выплыли в открытое, до горизонта свободное море.
…пьяному человеку и земля кажется неустойчивой, в воде неустойчивость эта проявляется с удвоенной силой, волна и держит, но и покачивает тебя, и кажется, что ты в невесомости, где верх непрерывно меняется с низом местами, и от этого мутится в голове, и к горлу подкатывает отвратительно неприятное. Препаршивое ощущение, должен вам доложить, и лезть, выпивши, в воду никому не советую.
…преодолевая усилием воли кружение головы и возвращая на место норовившие провернуться земные ориентиры, я плыл на боку; рядом плыла Людмила, опережая меня на полкорпуса, и мне стоило немалых усилий не отстать от неё.
Плыли мы долго. Вода нас освежила, я протрезвел ровно настолько, что понял, нам пора возвращаться. Стемнело, над морем всходила луна. Мы повернули обратно, и дальше… я плыл, вероятно, в бессознательном состоянии, в памяти полный провал. Но поскольку я жив до сих пор, надо полагать мы благополучно доплыли до берега, вышли на сушу, оделись, возможно, поцеловались, и, безусловно, я её сопроводил на ночлег и сам вернулся в свою пустую палату, в которой уже не было моих постояльцев. Они утром уехали.
…а вдруг? А вдруг это не я её проводил, а она меня довела до палаты? И не осталась. Это бы было позорно. Но, надеюсь, этого не случилось.
…Итак, наутро я проснулся в палате один, поскольку мои удачливые соседи укатили вчера. Тут я должен признаться, что невесёлая весть о происшествии с нашим автобусом, привезённая вечером, дошла до меня только утром, и, узнав о счастливом для нас стечении обстоятельств, я воскликнул, отнюдь не злорадно: «Есть Бог на земле!»
…Новый день начался… и начался он для меня в кабинете главного врача санатория, деликатного доброго старичка, который укоризненно выговаривал мне: «Ну как же вы, такой достойный молодой человек, могли себе позволить такое». Нечего и говорить, что я понял мгновенно, речь идёт о вчерашней попойке, и даже не столько он ней, сколько о вчерашней кафешантанной чечётке, о канкане на досках стола – и покраснел…
– Ну, бывают у нас, – продолжал мой мучитель, – разные бузотёры, но вам то это к чему? Ну, напишу я письмо на предприятие ваше, взыщут с вас стоимость вашей путёвки, неприятности будут… Не ожидал я от вас этого, не ожидал.
…Это было ужасно, но пол подо мной не провалился, хотя от стыда я готов был лететь и в саму преисподнюю. Я сидел, потупив глаза, красный, как нашкодивший школьник, и оправдываясь, лепетал, что вчера очень расстроился, когда меня с невестой выгнали из автобуса, и вот с горя выпил в случайной весёлой компании.
…покачав седой головой, главврач оставил дело моё без последствий.
А через час автобус, куда нас поместили, как и было обещано, кружил по дороге до Туапсе. А там поезд, колёсный перестук на рельсах между кромкой моря и горными склонами… и во второй половине дня мы въехали в жемчужину Советской Ривьеры, в незабвенный, многократно описанный писателями город с кратким названием Сочи. Впрочем, возможно, было наоборот: Ривьера была жемчужиной Сочи.
В те времена у меня была отличная память даже на единожды пройденный путь: я безошибочно выбирался из лабиринтов пройденных улиц в незнакомых мне станицах и городах. И сейчас абсолютно автоматически я прошёл путь от вокзала, проделанный три года назад, и вывел Людмилу к дому Хисматулиной. Темнело. Окна дома распахнуты настежь, двери открыты, двор сияет непривычно яркими огнями, и во дворе в этом свете суетится чрезвычайно много людей.
Я постучался в калитку и попросил подошедшую женщину позвать Марию Ивановну. Та вышла, и не успел я напомнить о нашем дальнем родстве, как она сама меня вспомнила и пригласила во двор. Там я объяснил ей, что в Сочи проездом с невестою в Крым, и спросил, нельзя ли остановиться нам у неё на один день до отплытия теплохода.
– Дом весь переполнен отдыхающими, к сожалению, – сказала Мария Ивановна, – но, если вас это устроит, я могу постелить вам во дворе.
Нас это устраивало вполне. Под чистым небом дышится легче, чем в душном доме в июньскую ночь.
– А пока, к столу, – указала она на длинный стол, застланный белой скатертью.
На столе, словно в калейдоскопе живописным узором расположились тарелки и блюда с рассыпчатой варёной картошкой, зелёными огурцами, перьями лука, красными помидорами, серыми ломтями хлеба, жёлтыми и фиолетовыми ягодами крупной черешни и ещё чем-то, чего я не вспомню. За столом сидели несколько человек, и неторопливо жевали.
Наскоро ополоснув руки и лицо водой из водопроводного крана, венчавшего отросток трубы, торчащий из-под земли во дворе, мы присели за стол и поужинали, после чего прошли вглубь двора в сад, где и прогуливались во мраке, ожидая пока разойдётся народ. Когда двор затих, Мария Ивановна позвала меня и указала на широкую кровать с белыми простынями на краю двора возле сада. В изголовье кровати лежали две большие подушки.
– Я постлала вам, можете ложиться спать, – сказала она.
Я смутился. Я был к этому не готов, не подумал о подобной возможности и теперь растерялся: как на это посмотрит Людмила. Я потерянно покраснел и выпалил торопливо, глупо и несуразно: «Мария Ивановна! Мы ещё не женаты». Мария Ивановна мгновенно меня поняла – сообразительной была женщиной!
– Хорошо, я постелю вам отдельно, только тебе придётся спать на раскладушке.
Я поблагодарил её и побрёл, вот теперь-то действительно потерянно, к Людмиле, стоявшей поодаль под деревьями сада. Подойдя к ней, я усмехнулся, и полагаю, что усмехнулся криво весьма – не до смеху мне было: «Знаешь, Мария Ивановна постлала нам одну постель на двоих…»
– Ну и что? – спокойно ответствовала Людмила.
А меня словно током ударило – вот глупец!
Мысли мои смешались: «Значит, она готова была лечь вместе со мной, а я, идиот, отказался! Надо было сначала ей это сказать!» Но свершённого не вернёшь, и я, сгорев от стыда принуждённо закончил: «Я сказал ей, что мы ещё не женаты, и она нам постлала раздельно». На это Людмила не проронила ни слова. Что подумала она в тот миг обо мне?.. Недоумок?..
А мысли неслись: «… сегодня она бы могла стать моею, сегодня случилось бы то, что снилось мне в институте ночами, а я свой шанс упустил…»
Это тогда я подумал, что свой шанс упустил. Два дня спустя я думал иначе. Вполне допускаю, что этого шанса она бы мне тогда не дала, даже лёжа рядом со мною, и ночь обернулась бы адом. С ума можно сойти…
…в саду на своей раскладушке всего в десятке шагов от постели любимой, я вслушивался в каждый шорох её, втайне надеясь: а вдруг она позовёт меня: «Вовчик!» И тогда я исправлю допущенную ошибку. Не позвала; ночь доносила её спокойное ровное дыхание…
Впрочем, досадуя на непростительную оплошность, я не переживал глубоко. Если шанс у меня действительно есть – то впереди неделя наедине у тёти Наташи.
…Утром, едва звёзды поблекли на небе, и вслед уходящей ночи стали ясно различаться предметы, я был на ногах. Надо было быстро слетать в порт, справиться о рейсах на Ялту. Кроме того, я задумал приготовить сюрприз к пробуждению моей милой.
Я прошёл осторожно мимо неё. Она крепко спала. Сползшая простыня оголила изгиб её шеи, пленительного плеча. Дыхания её не было слышно, но ритмично поднималась и опадала простыня на груди, и только поэтому можно было понять, что она дышит.
Лицо её со сна разогрелось, лёгкий румянец проступал на щеках, и была она так хороша, так чиста и свежа, будто ребёнок, и во мне поднялась и меня захлестнула волна нежности к женщине, которая столько лет мучит меня, но быть может, быть может, хоть чуточку любит.
В порту я узнал, что теплоход будет к вечеру. И будет это опять – царство ему небесное! – «Адмирал…". Мне положительно не везло. Я всё время мечтал о «России», а попадались всегда либо «Пётр Великий», либо этот «… Нахимов». Ходили в то время и малые теплоходы с заходом в Туапсе, Новороссийск, Керчь, Феодосию и Судак, но я ими пренебрегал.
…о местах и билетах можно было узнать, как всегда, по прибытии теплохода.
…В приморском парке возле морского вокзала я завернул в сторону мне знакомых магнолий, надеясь, что не все они отцвели. Но они таки отцвели, как бы мне не хотелось обратного, и я было совсем приуныл, как случайно заметил высоко-высоко наверху единственный белый огромный цветок, укрывшийся за глянцевыми жёсткими листьями дерева. Озираясь по сторонам, как вор, готовящийся прилюдно совершить карманную кражу, я изловчился, соседней веткой накренил нужную мне ветвь, перехватился и обломил её вместе с белым цветком. В этом цветке и заключался сюрприз, и я его спрятал от нескромных взоров в корзинку. Тут же я отправился на базар и купил спелой отборной черешни. Крупные ягоды её почти чёрным лаком сверкали на солнце.
Когда я вернулся домой, Людмила ещё не проснулась, лицо её было по-прежнему розоватым, согретым дыханием сна, и само дыхание её казалось мне тёплым, домашним, родным.
Я вымыл черешню под проточной водой и сложил её в блюдо, налил воды в высокую вазу, поданную догадливой Марией Ивановной, и поставил блюдо и вазу на табуретку у изголовья спящей красавицы. Сам же сел на скамейку напротив, ожидая её пробуждения и того, как воспримет она белоснежное чудо с одуряющим запахом в обрамлении глянцевых листьев.
…она открыла глаза. Равнодушно скользнула ими по цветку и черешне, приподнялась, разок нюхнула его: «Как сильно пахнет!» – и, крикнув мне: «Отвернись!» – начала одеваться. Это меня задело, и сильно задело. Я ждал хотя бы благодарного взгляда. Тогда бы я прочитал ей Лонгфелло:
Я пришёл к тебе с приветомРассказать, что солнце встало,Что оно горячим светомПо листам затрепетало.…стихи застряли у меня в горле: ей это совсем ни к чему.
…Черешня потом была всё-таки съедена, а роскошный цветок одиноко стоял, никому, как и я, не нужный на свете.
…До обеда мы пробыли на пляже, плавали, загорали, а когда уходили домой, Людмила подошла ко мне как-то растерянно и сказала: «У меня неприятность». Я смотрел на неё в ожидании продолжения.
– Знаешь, когда мы плавали в море, я оставила в сумочке те четыреста рублей, которые ты дал мне утром, – тут она замолчала и, помедлив немного, добавила, – теперь их там нет. На пляже их вытащили.
– Подумаешь, ерунда, – сказал я, успокаивая её, – стоит переживать.
– Ничего себе, ерунда, – удивилась она.
Теперь пришла очередь мне удивляться. Неужели эти четыреста рублей что-либо значили для неё? Впрочем, я судил по себе, на участке вентиляции, где работала Людмила, ставки были поменьше, и не было у неё томусинской надбавки.
А она всё сожалела и огорчалась. Эти огорчения я прервал:
– В парке я знаю чудеснейшее местечко, где можно превосходно перекусить, – и я повёл её к рыбному ресторану. Деньги у меня были с собой, а, между прочим, я тоже ведь плавал и деньги оставлял в тайном кармане в брюках на берегу, и немалые, по нескольку тысяч, но на пляже у меня и рубля не украли. За деньгами догляд всё-таки нужен. Плавать я плавал, но с вещей своих глаз не спускал. Да и можно ли деньги оставлять в дамской сумочке на берегу?..
…это ж приманка.
…Тихий маленький ресторанчик с незамысловатым названием «Рыбные блюда» укрылся в парке за теми магнолиями, где утром я промышлял. Да, ресторанчик был безыскусным, но готовили там искусно, и ещё как искусно готовили. Я его помнил по давним ещё временам. И не красной и чёрной икрой он меня привлекал, и не салатом из во рту тающих крабов, и не замечательной заливной осетриной. Вы бы попробовали там солянку рыбную сборную из двадцати видов наилучшейших рыб. Или стерлядку, неизвестно как приготовленную, но божественную на вкус, или ещё множество блюд, названий которых уже не припомню.
Я заказал к рыбе бутылку белого сухого вина и на правах завсегдатая предложил и закуску, и первое, и второе. Людмила с моим выбором согласилась. Мы пообедали и ушли.
…Во второй половине дня мы вошли в морвокзал. Теплоход был на месте, и свободные каюты в нём были. Я взял билеты во второй класс до Ялты, и мы сразу поднялись на борт корабля плыть к иным берегам.
Впервые я плыл в корабельной каюте, не палубным пассажиром, как прежде. На палубе днём-то тоже неплохо, особенно если шезлонгом расстараться удастся, но ночью… Ночами бывало весьма неуютно, – каким калачиком не свернёшься, как ни укроешься пиджачком или курточкой, а холод к утру проберёт до костей. И вскочишь перед восходом, и бегаешь по палубе, чтобы согреться, и никак не согреешься, и ждёшь – не дождёшься, когда выплывет солнце и брызнет первым тёплым лучом…
…Итак, мы по трапу поднялись на корабль, прошли по палубе до места спуска в трюмные помещения, спустились по красной ковровой дорожке, накрывающей лестницу с горящими медью поручнями, прижатой к ступеням такими же до блеска начищенными медными прутьями, в зал, из которого расходились по обоим бортам в обе стороны коридоры с такими же праздничными дорожками и зеркально отполированными панелями стен и дверьми цвета морёного дуба. В потолке перед дверьми матово светились упрятанные заподлицо круги плоских плафонов. И медные ручки дверей сияли ярко и радостно, как и перила на входе. Корабельный блеск для меня был всегда воплощением такого восторга, от которого недалеко и до радости, и до счастья. Эти плафоны, ручки красной меди, начищенные перила, отражавшиеся в зеркале тёмных панелей, красные дорожки с узорчатыми краями, даже медные цифры, указывающие номер каюты, кричали о покое, богатстве, достатке жизни красивой и безмятежной. И среди этого блеска я как будто и сам становился к этой жизни причастным.
Наша каюта на четырёх человек, оказалась большой и формой своей походила на букву «Г». Вся она тоже была отделана деревом, полированным деревом сверкали и боковины двухъярусных кроватей с раздёрнутыми шторами цвета кофе с небольшим добавлением молока. За ними белели постели на пружинных матрасах с чистым бельём. Одна такая кровать – у дверей, параллельная борту, другая – за ней, к борту торцом, рядом с иллюминатором, а под ним – столик, закреплённый консольно. Против неё – жёсткий диванчик, обтянутый коричневой кожей. Из круга иллюминатора лился свет ещё не угасшего дня, и было очень светло в этой части каюты, в отличие сумрака той, что у первой кровати.


