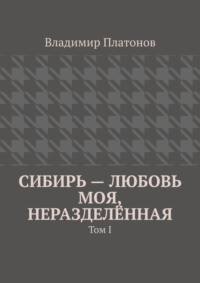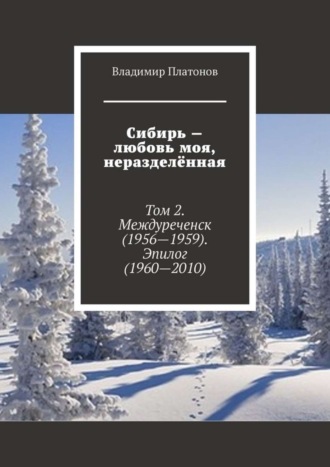
Полная версия
Сибирь – любовь моя, неразделённая. Том 2. Междуреченск (1956—1959). Эпилог (1960—2010)
Квартиру мне обещали и раньше, я вновь Плешакову напомнил об этом, и он заверил меня, что выделит мне её в первом же законченном доме… Однако в августе, когда дом был готов, и я пошёл к Плешакову справиться относительно ордера на квартиру, он мне сказал, что свободных квартир в этом доме у него уже нет, и мне придётся подождать до сдачи нового дома. Я ответил, что ждать не могу, и развернулся, едва не хлопнув дверью в сердцах, но в последний момент благоразумно сдержался – хлопаньем дверей никому ничего не докажешь, только выкажешь слабость свою. Но необязательность Плешакова меня возмутила до крайности, никогда обмана я не терпел. От Плешакова я направился в трест и в приёмной управляющего Евсеева сгоряча написал заявление, не озаботившись, что из этого выйдет. А могло выйти и плохо, нехорошо для меня могло выйти. Всё же надежда была, что против моего назначения комбинатом управляющий не пойдёт. Посему заявление вышло такое:
В связи с невозможностью предоставить мне квартиру прошу откомандировать меня в распоряжение комбината «Кузбассуголь».
То есть пошёл я ва-банк. Могли бы и вышвырнуть, как зарвавшегося щенка. Но не вышвырнули. Не решились. На следующее утро меня вызвали к заместителю начальника шахты по быту и выдали ордер на квартиру номер девяносто три в доме семь, построенном покоем, с фасадом на главный проспект, не имевший названия.
Квартира оказалась однокомнатной. Это не оправдало надежд, думалось, что двухкомнатную дадут – я даже не знал, что однокомнатные квартиры бывают. Но комната была большой, к тому же и с нишей, невидной от порога двери, в которой свободно уместилась мамина кровать, и которую можно было завесить пологом. Ну а всё остальное было, как в нормальной квартире: маленькая прихожая, коридор в кухню с разделочным столом и встроенным под ним шкафчиком-холодильником у наружной стены (поступление холода через отверстие в стене регулировалось тряпкой-затычкой). Из коридорчика – двери в ванную и туалет. Отопление в доме центральное, в кухне плита, топящаяся дровами или углём. Во дворе, повторяя очертания дома, стояли внушительные деревянные ящики с наклонными крышками, с дужками для висячих замков и с номерами квартир. Это были ящики-сундуки, для хранения дров и угля.
Так, я ещё раз с помощью треста, а точнее Евсеева, победил Плешакова – были на руках ещё козыри – но слишком после этого успокоился. Казалось, все преграды преодолены, и больше никаких препятствий не будет. Плешаков же поражений своих не забудет, за моей спиной сплетёт умно интригу, так что я пустить козыри в ход не смогу, и возьмёт реванш за всё сразу. Но до этого пока далеко.
…В моём доме получил двухкомнатную квартиру от ТШСУ и Тростенцов, как человек семейный, женатый. И жена к нему сразу приехала. Мише пришлось подождать – их отношения с Юлей ещё не были оформлены официально.
Вскоре Миша женился и ждал Юлю с мамой.
…Оба они, и Гриша, и Миша, были назначены прорабами на строившийся гигантский разрез №3—4, и работали рьяно, без передышки. Все вечера – а я к ним частенько заглядывал – я заставал их лежащими на полу на расстеленных синьках в Гришиной комнате, изучающих по чертежам всё, что предстояло им строить. Иногда я у Тростенцовых задерживался допоздна, когда работа над синьками прекращалась, и тогда они оставляли меня ужинать с ними. Ужин был однообразным и бедным. Жена Гриши, миловидная Рая, ставила на стол тарелки с варёной картошкой, селёдку с луком, политую подсолнечным маслом, хлеб, чай. Скудость их ужина нас с мамой всегда удивляла. Рая работала инженером в управлении, и вместе они зарабатывали должно быть больше, чем мы. Мама получала в артели семьсот рублей, мой оклад был установлен по минимуму, чуть больше двух тысяч двухсот – мой гидрокомплекс пока угля не давал.
…возможно, скромность в расходах была проявлением рачительности, благоразумия, заботы о завтрашнем дне. Я жил одним днём, нимало не заботясь о будущем. И когда фортуна лишила меня своей благосклонности, я сразу же на мели оказался, не имея ничего за душой, кроме знаний и опыта, не бог весть какого.
…Чуть позже Китунин и Тростенцов стали позволять себе расслабляться. Собирались перекинуться в карты. Играли в «кинга», в так называемый малый преферанс, на интерес – ставка за очко по копейке. Третьим партнёром непременно был я – меня быстро обучили этой занятной игре, требующей наблюдательности, памяти, сообразительности, ну и везенья, конечно. Четвёртым партнёром бывали то Рая, то Виктор Бочкарёв, шахтостроитель, молодой холостой сокурсник Миши и Гриши, работавший в том же управлении мастером и получивший нашем доме однокомнатную квартиру вроде моей, только чуть меньше – без ниши.
Чаще всего собирались у Тростенцовых, но нередко и у меня, в моей холостяцкой квартире. Игра меня увлекала, входил я в азарт и испытывал настоящий восторг, когда за вечер мне удавалось выиграть два-три рубля.
…из всей этой компании только розовощёкий Виктор был мне ровесник, и такой же, как и я, холостяк. Мы и сошлись быстро с ним, хотя никаких общих интересов у нас с ним не было, объединил нас, по-моему, магнитофон.
Мне давно хотелось обзавестись этой редкой новинкой, и деньги небольшие я для этого я отложил, да купить его было негде. Не продавались они магазинах. Даже в Москве.
Витька тоже бредил магнитофоном, но в отличие от меня рискнул на эксперимент, предпринял попытку обзавестись хотя б суррогатом, купил магнитофонную приставку к электрическому проигрывателю пластинок. Вот с этой приставкой мы и возились, записывая свои речи и слушая записи. Давалось это непросто, как и проигрывание пластинок на злопамятном патефоне в общежитии КГИ. Лента, как правило, не шла равномерно, записанный звук, «плавал», и нам приходилось брать в руки ключи и отвёртки и, откручивая бесконечное множество гаек, винтов, вскрывать это чудо советской технической мысли, усиливать натяжение тросиков, снова собирать механизм в единое целое и… снова слышать унылое завывание. Надо было начинать всё сначала. Это доводило до бешенства. Хотелось грохнуть подлую приставку о пол. Но мы смиряли себя и снова, и снова раскручивали, закручивали, разбирали и собирали.
Изредка всё же нам удавалось на короткое время привести её в чувство, она давала хорошую запись, и тогда мы с удовольствием и удивлением вслушивались в свои голоса. Я неожиданно для себя обнаружил, что голос мой и весóм, и внушителен, чего я и представить не мог, мне всегда казался он слабым, невыразительным. Открытие это меня очень обрадовало. Впрочем, на жизни моей оно в то время никак не сказалось. Реально эти качества голоса я использовал четверть века спустя, когда стал выступать с публичными лекциями. До этого в хоре других голосов он был неслышен.
Тесная дружба моя с Бочкарёвым оборвалась внезапно. Ближе к осени в недостроенном доме по другую сторону улицы случился пожар. Кое-где выгорели полы, дверные рамы, оконные переплёты, дом стоял закопчённый, заброшенный, беспризорный. С ним и связался конец нашей дружбы.
…вдруг среди общих знакомых разнёсся слух, что Виктор арестован милицией за… изнасилование непорочной девицы. С девицей этой, по имени Валентина, совершеннолетней вполне – ей было лет двадцать – Виктор завернул в заброшенный дом, на четвёртом этаже нашёл подходящее место с настилом пола, уцелевшего при пожаре, и совершил с ней на этом полу то, что рано иль поздно совершает каждый мужчина с приглянувшейся женщиной, а, бывает, и с вовсе не приглянувшейся. По глубокому моему убеждению, совершил он сей акт по взаимному с ней уговору, а если и не было первоначального соглашения, то, безусловно, на вполне добровольных началах – иначе на кой чёрт она с ним тащилась на четвёртый этаж обгоревшего здания?..
…Виктору на беду девушка Валентина оказалась нетронутой целкой и, получив желанное наслаждение, она не захотела останавливаться на этом и раненько утром побежала в милицию с заявлением, что Виктор её изнасиловал. После этого Виктора и загребли. Поначалу он всё отрицал, но следы сажи на его брюках и на ягодицах Валентины послужили достаточным основанием, чтоб слова его подвергнуть сомнению, и завести на него уголовное дело. Медицинская экспертиза подтвердила свежесть разрыва девственной плевы, а подружка девицы поспешила дать показания, что своими собственными глазами видела, как оба входили в мерзопакостный дом. Умиляет меня, почему следователь не уточнил: на верёвке Виктор вёл Валентину или это иначе было? Наивным человеком был следователь. Но за непрофессиональный подход к делу с него никто не спросил, а для Виктора дело запахло палёным – следователь передал дело в суд.
…Или судьбу решил Виктор не искушать, или на суд наш гуманный не очень надеялся, – через неделю мы гуляли на свадьбе у молодых. Само собой, заявление было отозвано.
Женитьбу Виктора я расценил как попытку скандал потушить, как способ суда избежать. А со временем можно и развестись, благо после сталинской смерти это стало не так и сложно, драконовские законы после этой всенародной утраты как-то вскоре и отменились.
…однако месяцы шли, о разводе Виктор не заикался, а на следующий год Валентина забеременела и в положенный срок родила Витьке дитя. Семейная Витькина жизнь закрепилась прочно и окончательно. А я перестал в людях что-либо понимать. Я бы не смог жить с женщиной, принудившей меня к женитьбе, писавшей заявления на меня…
Какое-то время я забегал к ним по старой привычке. Валентина, девица обыкновенная, непримечательная ничем, меня привечала как лучшего друга, но семья есть семья, у неё появляются собственные особенные заботы, и с рождением у них малыша мои набеги сами собой прекратились.
…встречались мы ещё с Виктором у Тростенцовых за картёжной игрой, но и игра закончилась через год – не до того стало всем.
…Бочкарёв ввёл ко мне Гошу Дёмина, ещё одного шахтостроителя этого выпуска. Его направили к нам на шахту, и Плешаков принял его мастером на ремонтно-восстановительный участок. С Дёминым у нас обнаружилось некое сродство душ, общность неясных стремлений к чему-то более осмысленному, чем та жизнь, которую мы поневоле вели. Люди мы с ним были разные совершенно, но обоих отличало пренебреженье к обыденности, стремленье к делам большим, светлым, разумным. Оба мы подмечали несуразности нашей социалистической жизни и болезненно переживали отступление от идеалов свободы, равенства, братства.
…расхаживая по моей комнате, Гоша, высокий, как я, сухопарый, слегка сутулившийся, в ответ на очередной мой рассказ о бюрократических выкрутасах, чеканил слова:
– Эпоха Победы Труда началась с недоразумения – с Господства Бумажных Отношений.
Всё с большой буквы, не иначе. Это было, конечно, наивно. Эта эпоха, по хорошему-то, должна была называться Эпохой Закабаления Труда, и началась она со Лжи и Коварства, с Крови и Преступлений, но всё же это были хотя бы и робкие наши попытки осмыслить систему, внутри которой мы жили, понять, почему всё в жизни не так, как написано в решениях съездов и в лозунгах, не так как у «классиков» предначертано. О большой утопии мы ещё не догадывались, как не задумывались и о том, что «вожди» на красивой утопии строят власть свою и свою сладкую жизнь.
…мы о многом беседовали, многое обсуждали, чаще сходясь в своих мнениях, но и расходясь иногда. Спорили.
– Ты, Володька, барин, – не то утверждал, не то упрекал он меня в ответ на мои рассуждения, что квалифицированный специалист должен быть освобождён от рутинной работы, от мелочных повседневных забот о быте своём, что человеку вообще нужен хотя бы минимальный комфорт. А может быть, барством казалось ему моё всегдашнее тяготение к упорядоченности, стремление к достижению наибольшего, наилучшего результата при наименьшем приложении сил. А я только следовал законам природы – закону наименьшего действия.
Гоша увлекался Древней Грецией, эллинами:
– Молодой был народ, жизнеутверждающий, бодрый. Они и религию себе придумали лёгкую, человеческую и с богами своими запросто обращались. Духом молодой был народ, – говорил он, как всегда расхаживая по комнате и направляясь к окну.
– А мы, – он повернулся, стёкла очков блеснули, – мы влачим жалкие дни свои, тошные мертвящие грузом скуки, не умея, да и не желая скрасить их хоть каким-либо смыслом. Да, да, мы и желать-то, и радоваться, как следует, не умеем. Чувства в нас мелкие, слабые, тлеющие едва, не в силах вдохнуть в нас полное ощущение жизни. Да и мысль чётко выразить нам не дано, – сокрушённо, но уже и не соотносясь со сказанным ранее, продолжал он.
Я с ним в этом не соглашался, хотя сказанное о греках полностью разделял. К моей страсти к художественной литературе, публицистике, критике, философии и истории не без влияния Гоши добавилось увлечение мифологией. Это им подаренная книга Куна «Легенды и мифы Древней Греции» лет за пять до конца второго тысячелетия перекочевала с полки моей книжной стенки в Санкт-Петербург, где, надеяться хочется, её прочтут со временем мои внуки, если к тому времени не убьёт окончательно книгу ящик с телеэкраном, с умыслом умерщвляющий в людях способность к своему индивидуальному поведению, к собственному независимому мышлению. Это постоянное вбивание в головы штампов, готовых клишé – чем не тот же тоталитаризм, чем не Ленин, Сталин и Гитлер, взятые вместе. А ведь каким мог он стать подспорьем в нравственном, духовном, эстетическом развитии нации?! Но не стал. Находясь в грязных руках, жаждущих лишь денег и власти, он работает на потребу толпы, хамского плебса, ещё более развращая его, оглупляя, возбуждая самые низменные, агрессивные и дикие чувства: мордобой и убийства, ставшие нормой человеческих отношений в нескончаемых телефильмах, эти побоища на стадионах, буйства на дискотеках, обожествление низкопробных кумиров, половой акт напоказ – не тому ли яркое подтверждение.
…Общение моё с Гошей продолжалось недолго. Работа мастера по ремонту и креплению выработок, однообразная и рутинная, не требующая никаких знаний и никакого ума, пришлась Гоше не по душе. И он с шахты уехал. Познакомившись в пятьдесят шестом году, мы летом пятьдесят седьмого с ним и расстались. Он метался в поисках приложения сил, и осел было на Южном Урале, пытаясь применить их в сельском хозяйстве. Но и там он себя не нашёл.
…Жаркое длинное лето пятьдесят шестого катилось к концу. Отстойники медленно вылезали из-под земли, и у меня начинались схватки с рабочими. Я обнаруживал не вынутые чурочки под арматурой в секции, куда начал заливаться бетон, и требовал вытащить их, а пустоты бетоном залить, что они делали с неохотой, или замечал, что бетон утрамбован неплотно, настаивал, чтобы в него вновь запустили вибраторы – и оседающая смесь цементного раствора со щебёнкой наглядно показывала, что я прав в настойчивости своей.
Иногда к моим обходам строящихся объектов присоединялся и Ложкин. И каждый раз Николай Иванович преподавал мне уроки профессионализма. Заметив, что после перерыва бетон в опалубку стенок бассейна начали заливать прямо по старому слою, уложенному накануне и схватившемуся уже, он предупредил: в этом месте неизбежно будет течь. Старый слой надо обеспыливать, а образовавшуюся гладкую цементную стяжку разбивать отбойным молотком, иначе свежий бетон со старым не схватится. После этого я всегда старался попасть к началу укладки бетона, где всегда повторялась одна и та же картина: привезённый бетон рабочие лопатами грузили в бадейку, стрелой поднимали её наверх и норовили быстренько опрокинуть в пространство между досок опалубки. И в этот момент я останавливал их – поверхность вчерашней заливки не была, разумеется, обработана. Начиналась беззлобная ругань с бригадиром, с бетонщиками. Они кричали, что это пустые придирки, я отвечал, что не подпишу форму два. Это их урезонивало. Чертыхаясь, они тащили шланг от компрессора, сдували пыль, щепу, потом подсоединяли молоток к этому шлангу, и, запустив его между клетками арматуры, ковыряли, дробили поверхность.
…а в общем-то мы со строителями жили мирно – не считать же всерьёз подобные перебранки. К концу месяца, когда приближалась пора подписания документов, они всегда перед нами ходили на цыпочках.
…во время моего обучения в Сталинске, на шахте сменили главного инженера. Старый – добрый и бесхарактерный – куда-то исчез, вероятно, был отправлен на пенсию, и уехал в места, более обустроенные. Новый – Крылов Владимир Фёдорович – был молод, крупен и крут. До Междуреченска он работал заместителем главного инженера в Прокопьевске на шахте имени Сталина, когда-то первой по суточной добыче, а теперь второй (после нас) шахте Союза. Человек по натуре властный и беспощадный он имел поддержку в Министерстве в Москве – отец его там Главком руководил – и возможно поэтому он не сдерживал себя никогда, самодурствовал даже, пожалуй. Весь надзор перед ним трепетал, кроме меня – и не потому, что я храбрый такой. Просто дела я с ним пока не имел, не ходил на планёрки, я ведь угля не давал, министром был без портфеля, генералом без армии.
Не помню, при каких обстоятельствах я ему представился. Видимо, ничего особого не было. К моей должности он относился несколько иронически, тем не менее, когда я в общих чертах познакомил его с проектом и с предлагаемыми мной изменениями, он все их одобрил. К чести его, он всё схватывал на лету, и дельное одобрял, в этом ему не откажешь. Когда к нам на шахту приехали оба министра: угольной промышленности – Засядько и строительства предприятий угольной промышленности – Мельников и захотели познакомиться с гидро-комплексом, они со свитой, в которой были и Соротокин, и Плешаков, пришли на отстойники, Крылов давал общие пояснения. По частным вопросам министрам отвечал я, они сами ко мне обращались – я был им представлен Крыловым. Ну, я и говорил, что к чему.
…уходя, министры попрощались с рабочими, а мне оба пожали руку с пожеланиями успеха. Тут же ко мне подошёл Плешаков и за спинами их мне прошептал: «Ты теперь эту руку не мой до следую-щего рукоприкладства с министрами». Я рассмеялся. Его пожелание мне понравилось. Я такое услышал впервые и лишь много позже узнал, что это весьма старая шутка, что слова эти – штамп довольно расхожий.
…конечно, я не послушался Плешакова, и руки перед ужином вымыл. Кто знает, пожалуй, и зря.
После этого высочайшего посещения дела на всех наших стройках начали стремительно замирать. При каждом обходе я замечал, рабочих на каждом объекте с каждым днём становилось всё меньше, да и те работы, что исполнялись, велись спустя рукава. Срок сдачи – тридцать первого декабря – срывался у меня на глазах. Как-то, будучи в кабинете у Соротокина, слушая его бодрый телефонный отчёт тресту о выполнении плана за сутки, я спросил его прямо в упор:
– Почему вы, строители, и субподрядчики ваши, монтажники, ежедневно докладываете в трест об успешном выполнении плана, и только в самый последний день месяца оказывается, что месячный план успешно завален?
– А ты что, – отвечал Соротокин, – хочешь, чтобы я каждый день свою голову подставлял, чтобы меня ежедневно долбали (он употребил более ёмкое слово) за невыполнение плана?.. Этак мне нервов ненáдолго хватит. А так я спокойно весь месяц живу, никто меня не ругает, а один-то раз в месяц, в конце, выволочку можно и потерпеть…
…Я, безусловно, не сидел, сложа руки, писал письма и слал телеграммы, куда только можно, но все были немы, словно воды в рот набрали – реакции никакой!
…в сентябре отдел снабжения шахты начал принимать от участков и цехов заявки на материалы и оборудование на пятьдесят седьмой год, и я такую заявку подал. Одновременно я отправил очередное письмо Филиппову в трест с перечнем всего того, в чём будет нуждаться мой гидрокомплекс в следующем году (надежда на пятьдесят шестой уже умерла).
…папка моя пухла.
…Итак, лето кончилось, Людмила вернулась из отпуска, но ко мне не заехала. Я же, хотя и бывал в Сталинске у Мучника и у Дельтува, к ней тоже ни разу не заявился. Понимал – нечего делать.
…А осень стояла дивная, ясная, в жарком убранстве полыхающих красок.
…И вдруг в ясном социалистическом небе блеснула неожиданно молния, и раскаты грома загрохотали. Два события совпали по времени, но резонанс во мне вызвали разный.
Англо-франко-израильский захват Суэцкого канала в ответ на национализацию его независимым президентом Египта Насером, свергшего проанглийского короля Фаруха, отозвался эхом, затронув-шим струны души коммуниста-интернационалиста; я, прослушав заяв-ление Никиты Хрущёва о готовности послать добровольцев в Египет, тут же отправил заявление в военкомат о готовности поехать в качес-тве добровольца на защиту Египта. Но всё же событие это было от нас далеко, вне интересов, казалось мне, нашего государства. Хотя интерес всё-таки был – область влияния наших идей расширялась, – очередное распространённое заблуждение. Но о заблуждении я тогда не догадывался, а возросшая мощь нашей страны была воспринята с гордостью: угрозы Хрущёва вмешаться заставили троицу уступить (не потому ли, что США к конфликту проявили полное равнодушие).
А вот второе событие – восстание в Венгрии, неожиданное и дикое (на тогдашний мой взгляд), зацепило трагически глубоко. Благостный мир рушился. Вот и в Польше что-то зашевелилось, прав-да, не так, не кроваво, как в Венгрии. Недоумение зашоренного ума было полнейшим. Как же такое случить могло в стране, идущей к социализму, где партия и правительство неустанно пеклись о благе трудящихся, а те в свою очередь были преданы им – в чём ежедневно все послевоенные годы нас газеты и радио убеждали. Как же такое случиться могло, что сотни тысяч, нет, миллионы, пожалуй, вышли на улицы против любимой коммунистической власти?! И незыблемая эта власть зашаталась. В Будапеште на фонарях у горкома закачались трупы повешенных коммунистов.
А новый венгерский премьер Имре Надь заявил о выходе из Варшавского Договора. Для меня это было настоящее потрясение, но прозрения не наступило. Никаких источников сведений, кроме официальных у меня не было, «вражеских голосов» я не слушал – такого приёмника не было у меня, да я о них просто забыл с сорок девятого года, когда у Боровицкого слушал несколько раз «Голос Америки». Ну, а наша пропаганда вовсю постаралась мозги задурить – тут и сотни тысяч вооружённых контрреволюционеров, проникших из Австрии и ФРГ, тут и внутренняя измена в политбюро и правительстве.
И я привычно клюнул на эту наживку.
…так что обращения Яноша Кадара к нам с просьбой о помощи и ввод наших танков на улицы Будапешта, положивший конец бесчинствам в венгерской столице, я воспринял с большим удовлетворением, как писалось в газетах. Двадцать лет спустя, в Киеве, на курсах ЦК, я узнал, чего нам стоила эта «победа». В совершенно секретном фильме я увидел кладбище наших солдат, погибших в венгерских событиях: без конца и без края сотни или тысячи плит на могилах советских солдат, погибших в ту осень.
…Мой незрелый слабенький ум под напором одиозных односторонних вестей колебнулся. С кем-то надо было мыслями поделиться, и я написал Людмиле письмо.
…вначале, естественно, шли объяснения, почему я ей не писал, почему на днях не зашёл, будучи в Сталинске. «… но сегодня я понял, что это была всего-навсего дань оскорблённому самолюбию». Далее я писал о жизни своей, о том, что читаю. О том, что восторженный отзыв Горького о Стефане Цвейге вызвал у меня к тому большой интерес. Я прочитал «Двадцать четыре часа из жизни женщины» и убедился, что это превосходный писатель. Блестящий очерк «Америка» подогрел мой восхищение. «А сегодня его „Подвиг Магеллана“ привёл меня в настоящий восторг – нет, „восторг“ не то слово, я не могу выразить своё состояние, это какой-то экстаз… Между прочим, там есть слова: „Кто чует близость бури, тот знает, что одно лишь может спасти корабль и команду: если капитан железной рукой держит руль, а главное – держит его один“… Венгерские события заставили меня иначе взглянуть на Сталина. Не умаляя его ответственнос-ти за нынешний кризис в коммунистическом движении (чего не отри-цают Торез и Тольятти), я безапелляционно готов оправдать многие действия его до войны (А, каково?! – В. П.). Так было необходимо. Иначе – смерть!.. Мне не нравится дикая расправа над будапешт-скими коммунистами, и я с лёгкой душой отправил бы на виселицу всех истязателей».
Или вот ещё образец из листков дневника того времени. Писал я, напитанный романтическим Горьким, выспренне, как истый коммунистический идиот. Но из песни слова не выкинешь… хотя стыдно-то, стыдно-то как…
«В последних письмах Ленина сквозит глубокая озабоченность судьбами партии, судьбой полуразрушенной (Лениным же – В. П.) страны, дерзко бросившей вызов гнилому мутному миру зла и насилия. Яркий факел смелой мечты и мысли был зажжён в России, вырвав из зловещей тьмы шестую часть мира, и, быть может, поэтому, тьма ещё больше, ещё зловеще сгустилась за границами света, затаившаяся, испуганная, но ещё и сильная, и готовая сомкнуться над головами безумцев, зажёгших факел, и поглотить их…
Грозное было время, и нечеловеческие усилия нужны были, чтобы сохранить это пламя от всех чёрных бурь, от неистовой угрожающей свистопляски взбесившихся защитников «свободы», «права» и «справедливости». Нужна была сильная рука, нужна была единая неколебимая партия…