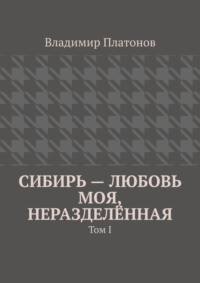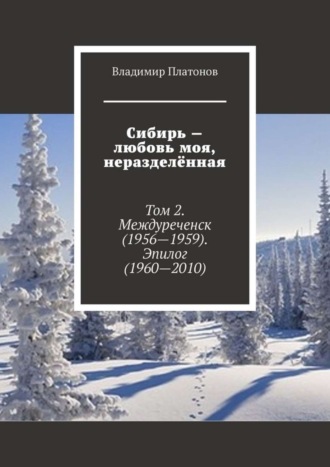
Полная версия
Сибирь – любовь моя, неразделённая. Том 2. Междуреченск (1956—1959). Эпилог (1960—2010)
Людмила сразу влезла на верхний ярус сумрачной первой части каюты, а я, пользуясь тем, что до отплытия ещё оставалось более часа, успел сбегать на рынок и принёс ей ещё черешни в большом бумажном кульке.
Я пытался угостить её этой черешней, но она вдруг сделалась неразговорчивой, от черешни категорически отказалась, и, решив, по всему, от меня отвязаться, со словами: «Я устала» – отвернулась к стенке каюты. Не знаю, что с ней приключилось, какая муха её укусила – всё до этого было нормально и на пляже, и после него, мы не ссорились, я не сказал ей ни слова плохого. Словом, ничего понять я не мог, и не понимаю сейчас, если не допустить, то она уже твёрдо решила со мною порвать.
Теперь-то я понимаю, что ей было скучно со мной. Я для неё слишком пресен, а ей подавай острые блюда, её влекла яркая богемная жизнь, где она бы блистала. – и это ей было по силам, – и где её бы восторженно принимали на руки. Не спонтанно же родился канкан на столе и безукоризненная чечётка. Мне это не было чуждо. Но для меня это был эпизод, отдых после работы, для неё в этом заключалась вся жизнь. Жизнь яркая, лёгкая и красивая.
…а тогда, бесспорно, мне надо бы тут характер свой проявить и резко выяснить отношения. Так же нельзя – ни с того, ни с сего, отворачиваться, надуваться…
Но этого я ей не сказал и, обескураженный её необъяснимым капризом, прошёл ко второй кровати, к иллюминатору, и занял нижнюю её часть, но не лёг, а уселся на диванчик и смотрел сквозь стекло на суету на причале.
Теплоход отчалил и, медленно пятясь, отошёл от пирса, разворачиваясь одновременно, и, набирая ход, вышел в море. В каюте никого не прибавилось, и это поселило во мне надежду: наконец-то мы остались с Людмилой наедине. Сердце моё забилось – вот он, миг долгожданный, – я встал, подошёл к кровати Людмилы. Она лежала под простынёй вверх лицом на уровне моей головы, глаза её были открыты, она не спала. Я запер изнутри дверь каюты на ключ, и пытался Людмилу разговорить, стоя у её изголовья. Она отвечала односложно и неохотно, всем видом давая понять, что мы в ссоре. Но отчего? Почему? Мы же с нею не ссорились. Я не решился её об этом прямо спросить. Интересно, о чём она думала, почему так себя повела… Годы спустя я попытаюсь её из любопытства спросить. Но она не захочет ответить. И это заставило думать о ней хуже, чем, быть может, она в самом деле была. Неужели она обыкновенная стерва?.. В это верить не хочется, но иное на ум не приходит.
Я всегда с ней был робок до глупости – это она и меня, и себя так поставила. Лишь один день был самим собою я с ней, в день, когда мне казалось, что я её разлюбил, и когда в ответ на мой поцелуй, она мне сказала, что любит меня. Быстро же она меня от самого себя отучила. Любовь моя к ней и её ко мне нелюбовь сковали меня. Но зачем, для чего она со мной так жестоко играла. Что она бессердечная – это я знал, но зачем же из человека все жилы выматывать и его же ещё потом обвинять. Безжалостный человек…
…да, так вот, вместо того, чтобы с нею решительно объясниться – сколько можно её выкрутасы терпеть! – я продолжал стоять у её головы и что-то ей говорить, не пытаясь даже узнать, какая кошка на сей раз проскочила меж нами. И тут она снова повторила свой прежний манёвр, недружелюбно, зло даже как-то проговорив, что очень устала и хочет спать, и снова отвернулась демонстративно.
Что было делать?.. Этого я не знал. Я всё ещё на что-то надеялся, и вместо того, чтобы расставить всё по местам, я вышел из каюты на палубу. Теплоход шёл вдоль кавказского побережья в небольшом отдалении от него, и я снова не мог не залюбоваться красотой предвечернего моря, горных хребтов, то зелёных, то голых, скалистых, спускавшихся к его синеве. Много раз я видел эту картину и никогда не мог наглядеться – столько радости жизни было в ликовании этих красок и форм в лучах летнего солнца. Я мог часами смотреть на бесконечную смену горных массивов в воздухе, дрожащем от июньского зноя, на сине-зелёную воду, обтекающую наш теплоход, на белую пену, взбиваемую винтами и широким клином расходящуюся за кормой. Всё навевало покой, и радость нисходила на душу, несмотря на любимой причинённую боль. И так хотелось этим с кем-либо, да ни с кем-либо, а с единственной поделиться, но поделиться было нельзя, и от этого становилось очень печально.
…было от чего загрустить.
…До самого Новороссийска я так у борта и простоял. Мы входили в порт, когда солнце давно ушло в море, и ночь плотно объяла всё небо и город, и амфитеатр огней бухты, улёгшийся огромной подковой, отгородил город от моря и сиял умноженным отраженьем в воде.
…в каюту я не спускался – с такой Людмилой видеться не хотелось, я не пригласил её поужинать в ресторан, да и сам, не поужинавши, улёгся глубокой ночью в постель.
…У новороссийского причала мы простояли всю ночь. Теплоходы по морю по ночам не ходили, сказывалась близость прошедшей войны: в море плавали беспризорные мины, срываемые штормами со своих якорей – и суда отстаивались в портах в тёмное время суток.
С восходом солнца «чёлн» наш отошёл от причала и, сразу удаляясь от кавказского берега в открытое море, взял курс на Ялту. Этот день совершенно выпал из памяти.
К концу его мы были в Ялте. В автобусе застала нас ночь, и в Алуште к тёте Наташе мы ввалились, подняв всех с постели. Этих всех было двое: тётя и бабушка. Ивана Павловича не было в доме, он был где-то на курсах.
Началась обычная в таких случаях суматоха. Нам собрали поу-жинать, согрели воды помыться с дороги. С Людмилой разговариваем, вроде, нормально.
На ночь тётя Наташа стелет постели в большой комнате. Людмиле – на кровати у стены, отделяющей кухню, мне – у капитальной, наружной стены.
Я ухожу, чтобы Людмила разделась. Сам снимаю одежду на кухне. Наконец, я вхожу. Лампочка в комнате не горит. В окна светит луна, и широкие полосы лунного света пролегли от них по полу до кровати Людмилы. Людмила стоит на коленях на кровати в ночной тонкой рубашке с оголёнными плечами, руками прикрывая грудь. Я делаю шаг к ней, кладу свои руки на её тёплые голые плечи и привлекаю к себе. Она резко отталкивает меня: «Ты с ума сошёл!»
Всё! Терпение кончилось! Я оскорблён и взбешён. Я не говорю ей ни слова, я поворачиваюсь, иду к своей стенке. Через минуту я засыпаю: нервы у меня ещё хоть куда.
Утром, не говоря Людмиле ни слова, не прощаясь, я объясняю удивлённой, но всё понимающей тёте и бабушке, что мне нужно срочно выехать на работу, и ухожу. В Симферополе беру билет на самолёт до Новосибирска через Москву. Рейс, назначенный в полдень, задерживается и переносится несколько раз. Наконец, самолёт улетает в Москву.
В Москву попадаю за день перед отправкой трофейных картин из Дрезденской галереи на родину, в ГДР. Остановившись у Самородовой Зины – она из Прокопьевска переметнулась в Москву и живёт у родителей, я отправляюсь на поиски музея изобразительных искусств имени Пушкина. Иду узкими улочками в центре столицы где-то повыше Кремля и краем глаза замечаю впереди какую-то несуразность. Я останавливаюсь, поднимаю глаза. Стена небольшого трёхэтажного дома, а точнее, полуметровый слой вековой штукатурки, как в замедленном кинофильме, отстаёт от кирпичной кладки стены и, неторопливо кренясь, застыв на мгновение в этом наклоне, вдруг сразу с грохотом рушится вниз, разбиваясь об асфальт тротуара за спиной миновавшей дом женщины. Она, словно ужаленная змеёй, оборачивается, подпрыгнув, и тонет в облаке взметнувшейся пыли.
…да, вот тебе и случайность с необходимостью – вот тебе и цена одного лишь мгновенья. Задержись женщина на мгновение – и лежать бы ей под грудою глыб с переломанными костями и расплющенной головой. Не заметь я едва уловимого начала движения, не прерви свой шаг остановкой – то же самое могло случиться со мной.
Отряхнув с чёрных брюк своих пыль, я выхожу прямо к музею. За чугунной оградой в глубине большой особняк постройки прошлого века. Перед оградой – несколько человек. От них узнаю, что завтра действительно последний день выставки трофейных картин. В музее проводят за день четыре двухчасовых сеанса, на сеанс продают билеты для двухсот человек. Запись в очередь – выше, на Гоголевском бульваре. Я поднимаюсь туда, подхожу к бюсту Гоголя. Там толпа. Да, пишут очередь. Записываюсь и я. Четыре тысячи какой-то по счёту… Это же никаких шансов попасть! За восемь часов в четыре сеанса пройдёт восемьсот человек. Даже если работу музея, допустим, продлят часа на четыре – это всё равно только тысяча двести… Грустно… Я околачиваюсь в толпе, где обсуждают эти самые шансы, и все во мнении сходятся, что в музей не попасть. Но люди подходят и продолжают записываться. Желание увидеть прославленных мастеров велико, выше здравого смысла, выше логики арифметики. Так велика надежда на чудо!
…в сквер заползают сумерки. До рассвета целая ночь. Скамеек на бульваре немного. И все они заняты. Не стоять же всю ночь на ногах! И мы договариваемся, что со списком в сквере останутся ночевать те несколько человек, кто устроился на скамейках. Утром в шесть часов сделаем перекличку. Опоздавших вычеркнем. Теплится всё же надежда, что кто-то не явится, хотя понимаю, что она иллюзорна. Кто-то, конечно, не явится, – но не три тысячи, верно?
Я уезжаю ночевать к Зине, а утром перед шестью появляюсь у Гоголя. А тут уже выстроилась колонна – и все четыре тысячи налицо. Начинается перекличка… Но что это? Такая же очередь выстроилась напротив, по ту сторону переулка, что вниз от бульвара, там ещё тысячи четыре стоят. Это те, кто впервые только утром пришёл, и они не хотят признавать вечернюю запись. У них своя перекличка.
Время подходит к семи, и, точно кто дал команду, хотя никакой команды и не было, обе очереди разом двинулись навстречу друг другу и, сойдясь на дороге против центра бульвара, враз повернули вниз в улочку, что выводит к музею. Каждая колонна по своей стороне. Но совместное движение длится недолго. Наша колонна слева, ближе к музею, на его стороне. Наши соперники, естественно, – на другой. Я плетусь за своими в самом хвосте, но не смешиваюсь со всеми, иду с краю по тротуару, скорее из любопытства, чем из надежды попасть в недоступный музей.
…тут из противоположных рядов выскакивает дюжина молодцов, и, заскочив перед нашей колонной, сцепившись локтями, преграждают ей путь, пропуская свою колонну вперёд. Но люди-то сзади идут, напирают, напор на враждебную цепь всё растёт, и та, не выдержав, разрывается. Наши, прорвав этот заслон, бегут четырёхтысячной массой, нагоняют и обгоняют колонну противника. Наши мóлодцы забегают вперёд и, схватив друг друга под локти, останавливают её.
В суматохе сражения можно проскочить, протолкаться к передним – кто теперь очередь соблюдёт?! Но я в толпу лезть не хочу, хотя мне и не приходит на ум мысль о Ходынке. Держась на полшага позади всех у решётки на тротуаре, я не бегу вместе со всеми, а медленно за бегущими следую – потому что какой смысл в этом беге? Точно так, как и мы, наши соседи, поднажав, сметают нашу преграду и бегут по улочке вниз, и их заслон преграждает нам на время дорогу. Потом мы их сметаем, и наша толпа, озверев, мчится вниз, не разбирая уже ничего. А за ней на асфальте – с ног сбитые женщины, трости, палки, сумочки, зонтики, раздавленные очки.
…страшное дело – бегущее стадо, толпа!
Слухи о беспорядке в переулке возле музея достигли милиции. Мы ещё лишь приближаемся к повороту ограды из переулка к входу в музей, как к нему подкатывают четыре грузовика битком набитые милицейскими в белой форме. Ссыпавшись с грузовиков, милиционеры врезаются в сбившуюся толпу, не разбирая ни правых, ни виноватых, отрезая людей, стоящих у решётки на тротуаре, от беснующихся на проезжей части дороги, оттесняя их к стенам противоположных домов. После чего быстро выстраивают ровную очередь из оставшихся у ограды.
Очередь установлена. К кассе идут счастливчики, что оказались на тротуаре, оберегаемые милицией от несчастливой оттеснённой толпы. Я среди первых на самом углу. Это так близко от кассы, что я могу попасть в две сотни на первый сеанс. Очередь движется к кассе, те, кто с билетами, пропущенные во дворик, скапливаются возле музейных дверей, ожидая открытия. Вот и я в двух шагах от кассы, ещё минута, другая – и я куплю заветный билет. Но тут окошко кассы захлопывается – проданы двести билетов. А впереди меня всего два человека… Стало быть, я был двести третьим. Вот досада – не бывает счастья без горчинки! Но два часа можно и подождать.
Через два часа сеанс закончен, первый поток посетителей изгоняют из залов, и вот я вступаю, скажем так, не очень против истины погрешив, под своды Дрезденской галереи.
…народ растекается влево и вправо по залам первого этажа. Кое-кто сразу устремляется по парадной лестнице вверх. Я по привычке поворачиваю сначала налево. Картин так много, что сразу понятно, за два часа можно только пробежаться по залам, мельком взглянув на полотна. Я бегу… и останавливаюсь. Боже! Какое чудо висит на стене! Какое лицо! «Святая Инесса» Риберы. Молодая девушка на коленях с длинными ниспадающими на грудь волосами, стыдливо прижимаемыми руками к открытой груди. Изумительное лицо её поднято кверху, и столько в нём чистой мольбы. Как можно такое передать на картине! Я стою минут десять и не могу отойти.
Но время уходит, и я, спохватываясь, бегу, скольжу глазами по великолепным полотнам. Замечаю знакомые мне по «Истории…» Грабаря. На секунду задерживаюсь перед ними. Вот «Шоколадница» Лиотара. Как я ещё в детстве восхищался выписанностью каждой складочки на её платье, на фартуке. В действительности всё ещё тоньше. Все детали прописаны поразительно. И притом всё так выпукло, так объёмно. Как же можно такого достичь?!

Рис. 6. Хосе де Рибера, «Святая Инесса»
…я люблю живопись, но я не знаток, и на вкус безупречный не претендую. Но, безусловно, я понимаю, что Лиотар – не Рибера. Выписать состояние души человека – это всё же не складочки… Многие знаменитые картины оставляют меня равнодушным. Да, написано гениально. Я чувствую это, но меня ничто в них не трогает. Другие же – очень близки мне, и, может, мастера их не так искусны, как гении, но я задерживаюсь у этих холстов.
А время бежит, вот уже и час миновал, а ещё и второй этаж есть. Надо успеть хотя бы краем глаза взглянуть. Забегаю на минутку к «Инессе» полюбоваться её чудным лицом и поднимаюсь по парадной лестнице вверх. На площадке между двумя этажами толпа. Одиноко, отдельно от всего остального, возвышаясь над всеми, висит полотно в два человеческих роста. Знаменитая рафаэлевская «Мадонна с младенцем», называемая Сикстинской. Останавливаюсь. Смотрю. Картина великолепна. Но мне «Инесса» милее.
В спешке промелькнул второй час. Я обежал все залы и на все картины взглянул. Но разве так смотрят картины?!
…звенит звонок, нас выпроваживают из залов. Уходя, бросаю прощальный взгляд на «Инессу». Самое большое впечатление – от неё. А может быть от её красоты?
…В этот день успеваю побывать и в Кремле. Площади его в этот год впервые открыты для посещения после девятьсот восемнадцатого. Воочию убеждаюсь в огромности бесполезных Царь-пушки, Царь-колокола и в великолепной гармонии Кремлёвских соборов. Но в Кремлёвские палаты попасть не могу. Не могу даже узнать, где продаются билеты. У палат есть таблички с расписанием посещений, но кассы нет, и дежурные милиционеры на мои вопросы только пожимают плечами. Засекретили так, что никто и не знает, как побывать в Грановитой и Оружейной палатах, мне знакомых тоже по Грабарю. Так я эти палаты в натуре не посмотрел никогда.
…Остаётся последнее. Я покупаю букет и еду на Белорусский вокзал к любимому Горькому. Но, подойдя к памятнику в центре вокзальной площади, вдруг смущаюсь и не решаюсь положить к подножью памятника цветы.
…почему я стесняюсь своих побуждений?
…Через день я уже в Междуреченске. Всё случилось не так, как я думал. От радости при отъезде и следа не осталось. Разрыва с Людмилой вроде бы не было, но… собственно, это был конец затянувшейся любовной истории, столь мучительной для меня. И тут, как во всяком конце, следовало бы поставить окончательно точку. Я вроде бы её и поставил, но нечаянно поставил рядом другую и третью, и вышла не точка, а многоточие. В какой раз точно по Симонову:
Раз так стряслось, что женщина не любит,Ты с дружбой лишь натерпишься стыда.И счастлив тот, кто разом всё обрубит.Уйдёт, чтоб не вернуться никогда.Он так не смог, он слишком был влюблён,Он не посмел рискнуть расстаться с нею…Мой отъезд из Алушты Людмилу нисколечко не расстроил. Дни она проводила на пляже. Вечерами иногда гуляла по набережной с Натальей Дмитриевной и вернувшимся с курсов Иваном Павловичем. «Раз, – рассказывала тётя Наташа, – зашли мы в ресторан, сели за столик, разговариваем. Вижу: один молодой человек загляделся на Люсю, потом встал, подошёл к нашему столику и поцеловал её в губы. Я удивилась: „Люся, как можно?!“ „А что тут такого, – отвечала она, – почему бы ни доставить удовольствия человеку, если это ему нравится“». Вот так-то, – почему бы ни доставить удовольствия чужому незнакомому человеку! А «самому близкому», по её же словам, – накося, выкуси!..
Да вышло по Симонову. Разумеется, тогда я о Симонове не думал, а вот сейчас, изменив «он» на «я», могу написать:
Я так не смог, я слишком был влюблён,Я не посмел рискнуть расстаться с нею.Хотя в тот момент полагал, что посмел. Да разве знаешь себя до конца, хотя пора бы о себе кое-что и узнать. Началась какая-то тягомотина в письмах, но, к счастью, она тянулась недолго. Сама же Людмила мне помогла, написав после страстной моей переписки: «Вова, я тебя не люблю, но я не кукушка, я хочу иметь нормальную семью и выйду за тебя замуж». Но об этом ей бы следовало подумать в Алуште и писать так мне не стоило, если бы она действительно хотела выйти за меня замуж. Собственно, она за меня поставила точку. Ничего себе семейка, где жена мужа не любит. Нет, пожалуйста, извините. Зачем мне жена, которая не любит меня. Впрочем, вряд ли она за меня выйти замуж хотела. Просто настроение у неё вышло такое после… после чего, я, конечно, не знаю. Но всё это будет попозже, через несколько месяцев, а пока было другое. Наверное, в Сталинск я послал ей письмо весьма резкое, ведь мне было совсем непонятно, зачем она приезжала ко мне в Туапсе.
…на него она откликнулась быстро: «Твоё письмо было неожиданным. Ведь мы (sic! – В. П.), кажется, пришли к выводу: нам тесно вместе, наша поездка ещё убедительнее слов… Ты и сам знаешь, что я рада видеть тебя, но вместе мы как-то не можем быть; уж очень мы разные люди».
Письмо это задело меня. Что же это она за меня говорит: «Мы пришли к выводу». Я к этому выводу с ней вместе не приходил. Если ей тесно, пусть так и писала бы. Мне тесно не было. Для меня быть с нею всегда было радостью, счастьем… Но вместо этого естественного ответа я выплеснул равнодушному чёрствому человеку вопль боли своей: «Люся! Ты сама виновата в этом письме. Была обида, горечь и уязвлённая гордость. Из-за них любовь моя отступила, ушла вглубь, затаилась; притупилось ощущение потери настолько ужасной, что я до сих пор не могу осмыслить её и в это поверить… И можно ли привыкнуть к мысли не видеть тебя никогда. Да, да, я говорил и тебе, и себе – можно, не вдумываясь в то, о чём говорил. А оказалось, что лгал, не помышляя о лжи, эта ложь тогда казалась мне правдой. Говорить легче, чем пережить… Никогда… Я мог в это верить лишь видя, чувствуя тебя рядом; тогда это слово не казалось мне страшным, оно было просто лишь словом, красивым словом печальной покорности власти судьбы… но тебя нет и Меня некому сдерживать, и я не хочу этой власти, этой покорности… Я люблю тебя больше всего на свете, больше себя – и как дико рядом с этими фразами нелепо жуткое «никогда». Никогда не видеть тебя, не чувствовать рядом биения твоей мысли, не слышать милого голоса, не ощущать теплоты, запаха твоих рук, губ, волос… Никогда! Какое могильное слово! А я люблю жизнь, люблю обнажённый трепет её, её дыхание, люблю за то, что в ней существуешь ты, самая умная, самая нежная, самая красивая, самая близкая мне женщина на земле. И я не могу, не хочу верить, что счастье видеть тебя кончилось навсегда, что всё уже в прошлом… а, впрочем, что же делать?! Я всё понял, так, видимо, лучше. Я опущу это письмо, поднимусь по лестнице, вытащу из кармана ключ и открою дверь. Комната встретит меня теплом, которого мне так всегда не хватало, а приёмник зелёным глазком своего индикатора поманит меня. Тепло, охватив моё тело, смягчит боль в сердце, а триумфальный ликующий марш Родамеса вольёт бодрость в него… Я раскрою книгу на давно загнутой странице и в бесчисленный раз прочитаю слова, всегда придававшие твёрдость и стойкость… и звуки победного марша сольются с мощным лермонтовским аккордом:
Печали сердца своегоОт всех людей укрой,Быть жалким – вот удел того,Кто ослабел душой.Не выдай стоном тяжких мук,Приняв судьбы удар.Молчанье – самый верный друг,А стойкость – высший дар.Прощай. Володя».Но как же ударило меня это её письмо!.. Я вышел на улицу. Было темно, тихо, пустынно. Я совершенно один, и никакой собаке не скажешь, что с тобой происходит, какую муку несёшь. Был бы волком – завыл бы от отчаянья и одиночества. Ни одной душе в мире я совершенно не нужен. Как же так жить? Я брёл по улице. Скрытая облаками луна временами просвечивала сквозь их набежавшую истончённую пелену, и тогда было видно, как они несутся мимо неё лихорадочно и тревожно, постоянно меняя свои очертания и неравномерную плотность свою. Изредка они таяли вовсе, и тогда ночная царица озаряла улицы и дома своим неземным беспокоящим светом, поселяя в душе тоску безысходную.
Я сделал по городу круг и вернулся к порогу. Задрал голову к небу и увидел в нём перемену. Облака успокоились. Они плыли медленно, величаво, и луна царила в просветах меж ними. Да, в небе установился покой, но не было покоя во мне, и, сжав зубы, я всё же по-волчьи завыл, хотя и беззвучно, мелодию тоскливую, однообразную, дикую.
…Нет, я вовсе не был таким одиноким. У меня были друзья. Я сдружился с Китуниными – Миша уже перевёз Юлю с мамой, он получил трёхкомнатную квартиру в доме напротив. Привечали меня и Тростенцовы. А через эти семьи я свёл знакомство с Астаховым Юрой, тоже строителем, выпускником нашего института, и его женой, Музой Смоленцевой.
Юрий Мефодьевич родился в городе Ленинграде в интеллигентной дворянской семье (ведущей род из донских казаков). Прошёл войну, на фронте познакомился с Музой Александровной, добровольцем записавшейся в 1942-м году в полк 150-й сибирской дивизии, формировавшийся в Кемерово.
По окончании института Юру назначили главным инженером завода домостроительных конструкций (ДСК), а Музу – заведующей горздравотделом. Эти очень милые люди пришлись мне по душе. Юра был молчалив, выглядел болезненно – высокий, сухой, сильно сутулившийся. Как человек он был порядочен и всегда был рад другому помочь. Муза же вообще представляла собой само обаяние. Она, как это ни странно, несмотря на разницу лет, сдружилась с моей мамой. Мама сблизилась и с Екатериной Константиновной Садовской. Так что дружили все мы домами, и все праздничные застолья у нас всегда были общими. Да и жили все рядом. Муза с Юрой – в нашем доме, только в другой ножке «П», нежели я.
…помню раз, прошедшей зимою вернулся я ночью из Сталинска от Людмилы удручённый как – одному богу известно, настроение – хоть топись. Открываю ключом дверь квартиры – темно. Мамы нет дома. Обзваниваю знакомых, узнаю, что мама у Музы. У той день рождения.
У меня нет подарка. Я же не знал. Но это меня не смущает. Какие подарки среди друзей! Друзья дороги без всяких подарков. И я иду к Музе. Там пир в самом разгаре. Все за длинным столом, лица красные, разгорячённые алкоголем. Моё появление встречают радостным криком, и тут же, ещё не раздевшемуся, у дверей подносят штрафной стакан водки. «Штрафной! Штрафной!» – хором скандируют за столом, и я залпом опрокидываю стакан. Это сейчас как раз то, что мне нужно. Я сбрасываю пальто и усаживаюсь за стол на освобождённое место. А там второй стакан наливают. Я залихватски опрокидываю и его в рот. Мне аплодируют, а Муза с восхищением замечает: «А ещё говорили, что Платонов не пьёт».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.