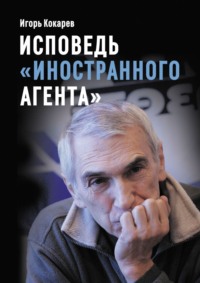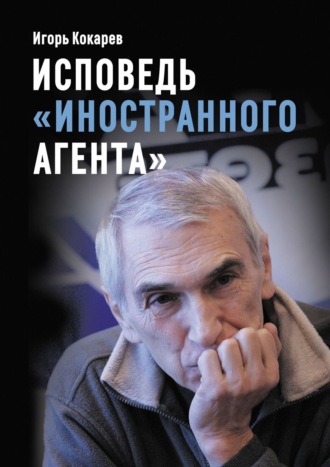
Полная версия
Исповедь «иностранного агента». Из СССР в Россию и обратно: путь длиной в пятьдесят лет
А Вадим возьми и передай письмо в «Комсомольскую правду». И ведь напечатали! Правда, без дискуссии, на третьей странице. Опять донос? Тут же прилетела корреспондентка «Комсомольской правды» разбираться. В ситцевой коротенькой юбчонке показывала она днем свои загорелые золотистые ноги, а вечером, сев за стол напротив меня и разговаривая с Володей о местной казахской кухне, мягкой босой горячей ступней нащупала под столом у меня то место, которое сразу затвердело и заныло от желания.
Володя, инженер, к которому я заходил поиграть в шахматы и поговорить за жизнь, все углядел, постелил нам матрас на полу и ушел.
– Ты всегда такой серьезный? – спросила корреспондентка, деловито раздеваясь. – Мне говорили в редакции. Я не верила.
– А ты вообще, вы вообще там, в Москве во что-то еще верите?
Больше мы с ней не разговаривали. И разбираться корреспондентка ни в чем не стала. Очерки тогда делали под копирку. Так и улетела…
Разобрался Петр Качесов, секретарь Горкома партии. Он нашел меня и сказал:
– Ты приходи вечером. Разговор есть, – и дал адрес.
Я пришел к нему домой. Сели. Поллитра на двоих – это немного. Выпили. Помолчали. Достал вторую. Закусили. Поговорили. Мне нравился этот секретарь. Не знаю, участвовал ли он в махинациях с наградами, но со мной говорил он откровенно:
– Не построишь ты тут, парень, никакого города светлого будущего. Мы можем только то, что можем. То, чему и как учили нас. Чтобы создать что-то другое, сначала надо убрать нас, целое поколение. А то и два. Сможешь? Нет!
Я молчал, подавленный его правдой.
– Ну, замутил ты воду, а чего добьешься? Закроют стройку из-за твоих статей. Накажут всех по их рангам. Кому от этого лучше? Обещаю тебе, как старый солдат: чего-нибудь, да построим. Не в первый раз. А ты уезжай учиться куда-нибудь. Дадим тебе хорошую характеристику. Прости фронтовика. И голос его дрогнул. Или мне показалось?
Хорошо, что эту историю комсомольцев-добровольцев мои давние собеседники – американцы Диана и Джим на белокрылой «Литве» никогда не прочитают…
Уже в Москве я спросил Вадима:
– На что ты рассчитывал, посылая меня в Каратау?
И Вадим ответил:
– Но ты все же попытался. Значит, я в тебе тогда не ошибся. Знаешь, жизнь обретает смысл только когда берешь ношу. Другого смысла в этой жизни не ищи, нет его…
Через годы сведет меня случай с жителем тех мест и тот расскажет, во что превратится комсомольская стройка 60-х. Покинут дома оставшиеся без работы люди, и будет он стоять вымершим, с разбитыми ветрами окнами. Не сдержал слова грустный фронтовик…
Только в новом тысячелетии в независимом уже Казахстане оживет горнорудный комбинат, косо-криво созданный в 60-х советских годах на базе Каратауского бассейна фосфоритной руды.
Но об этом я уже узнаю только из справочной литературы…
ЧАСТЬ II: ПОКОЛЕНИЕ ПОТЕРЯННЫХ
Глава 1. ВГИК в подарок
В ЦК ВЛКСМ завотделом Куклинов вопросов не задавал. Молча закрыл командировку и подписал подготовленное Вадимом направление на учебу: «Ректору ВГИК, А.Н.Грошеву». Вадим улыбнулся, увидев мое растерянное лицо:
– Ты сделал всё, что мог. Теперь иди учиться, это никогда не поздно.
Учиться. Конечно! В Одессу я вернуться не мог, в Москву тем более. Даже позвонить ей не решался, вернувшись и не на щите и не со щитом, а волоча его за собой. Прав Вадим, надо начинать жизнь сначала. Пусть по письму, но я заслужу, я оправдаюсь, я докажу… Мысли путались, но, конечно, ВГИК! Ведь звал же Юра Гусев, комсорг этого знаменитого института тогда, в Каратау. Он сказал: поступай на киноведческий, не пожалеешь.
К ректору шел, опустив голову. Секретарша, узнав, что я из ЦК комсомола, любезно шепнула мне имя, открывая дверь в кабинет:
– Александр Николаевич.
Ректор, показавшийся мне пожилым и усталым, тяжело поднялся из-за стола, молча взял направление, стоя прочитал про Высшую одесскую мореходку и вдруг сказал мягко, по-отечески:
– Ну, что ж, комсомол, так комсомол. На вас вся надежда. Высшее образование? Это хорошо. Знаете английский? Это тоже хорошо. ВГИК открывает новое направление, социологию кино. Пойдете в аспирантуру?
Я открыл было рот, спросить не ошибся ли он про аспирантуру, но во-время спохватился.
– Значит, самое трудное для вас – это сдать вступительные экзамены по истории кино. Сдадите, зачислим в аспирантуру на киноведческий факультет.
Я только спросил, сколько у меня времени на подготовку.
– Приемные в октябре, у вас почти два месяца. Желаю удачи, моряк!
Еще неделю назад я не знал, что делать со своей неудавшейся жизнью. Теперь за два месяца надо пройти то, что обычно проходят за пять лет, чтобы поступить в аспирантуру ВГИКа!
Вадим, выслушав мою бессвязную речь, сбил панику:
– У тебя же диплом о высшем образовании. Имеешь право на любую аспирантуру. Лишь бы сдал экзамен по профилю. Вот и сдавай историю кино. Лишних знаний не бывает! – И он подтолкнул меня к двери:
– Иди, моряк, начинай новую жизнь!
Я навсегда сохраню благодарную память об этом редком человеке, дважды спасительно изменившим мою жизнь. Даже страшно представить, куда бы оно все пошло, не встреться Вадим Чурбанов на моем пути… И спасибо комсомолу, все-таки он мне дал много больше, чем я ему…
Подходя к парадному подъезду, я смотрел на всемирно известную вывеску, доставал из кармана красный пропуск и гордо оглядывался, все ли видят, куда заходит этот парень. Но там, внутри, хвастаться было нечем. Вокруг меня куда-то неслись, о чем-то спорили на лестнице, стояли задумавшись у окна, что-то репетировали, почтительно разговаривали со своим педагогом мальчишки и девчонки, которые прошли жесткий конкурс по сто человек на место. Они хорошо знали, куда поступали и зачем. А я? Как вообще я оказался в Москве?
Уже поступив во ВГИК, набрал ее номер. Наташа не удивилась, сказала, как будто не расставались:
– Есть билеты на Международный кинофестиваль. Фильм «Мост через реку Квай». Пойдем?
В зале Дома композиторов, где крутили внеконкурсную программу, ее все знали, и откровенно разглядывали ее не знакомого никому спутника. Кстати, костюм я себе еще не купил, так и ходил в морской форме, известной ей еще со дня нашего знакомства. Я уже знал, какая у нее семья, хотя родителей в глаза не видел. С другой стороны, нормальная девчонка. Выпить умеет. Слова знала, если что.
Она доставала билеты в Современник на «Вечно живые», на Таганку на «Гамлета», где я впервые увидел Высоцкого, на «Десять дней, которые потрясли мир» и нас, тогда и познакомившихся со всей труппой, ходившей веселой толпой по фойе театра с выходом на улицу. Она показывала мне Москву, а своим знакомым – чудака в морской форме.
Однажды она сказала как-то просто, будто о пустяке:
– Вот что, ты давай не уходи, оставайся здесь, – она имела в виду свою комнату. – Все равно родителей нет. Они в Японии на целый месяц. А Поля и так все знает.
О любви ею не было сказано ни слова, хотя в ту нашу ночь я, кажется, впервые ощущал восторг и до и после. Но на корзину цветов со стихами Окуджавы, с которыми я приперся на следующее утро, она пожала плечами:
– Ты что, чокнулся?
Ах, так? Корзина полетела в пролет пятого этажа. Услышав, как хлопнуло там внизу, она, не дав сказать, увела в свою девичью, и мы оказались снова в постели.
И тогда, и потом насмешливостью своей она сбивала мой пафос, политический или лирический, нежность её легко смешивалась с бесшабашным цинизмом. А как она красиво пользовалась матом! Это сближало морехода с творческой интеллигенцией.
Поля, маленькая хлопотунья, деревенская наивность и строгость – ее няня, взятая в этот дом еще с довоенных лет, казалось, ничему не удивлялась и исправно кормила всегда голодного аспиранта вчерашними щами из Кремлевки.
Родители прилетели, и ей-таки досталось от матери. Я не знал, куда деваться. Но ее отец позвал в кабинет, закрыл дверь:
– Не обращай внимания. Клара такой человек. Для меня главное: Наташа тебя любит. Ты как? Значит, тому и быть.

Бракосочетание. Мои родители справа. Клара отсутствует. Тихон изображает непричастность. Остальные – Наташины друзья.
Так мы оказались в ЗАГСе.
– Ты куда? Ты представляешь, кто мы и кто они? Ты просто сошел с ума! – надрывалась мать в телефонную трубку.
– Мама, а кто мы? Да не волнуйся ты так! Лучше приезжайте на свадьбу.
Они, и правда, приехали. И чувствовали себя, по-моему, неловко, неестественно, как, впрочем, и я сам среди наташиных родственников и близких. Сестры моей Маргариты за большим столом Хренниковых в тот день не было. Хоть я и жил тогда у нее в Свиблово, этот неравный брак она считала авантюрой, как и всю мою жизнь. Хотя сама свою сломала, бросив консерваторию необъяснимо для окружающих.
Никакой свадьбы, ни пышной, ни скромной не было. После ЗАГСа, где наши родители с достоинством познакомились, все были приглашены домой за праздничный стол. Праздника, правда, не чувствовалось, в разговорах старались не упоминать о событии, ради которого все и собрались. Я чувствовал себя не в своей тарелке и просто молчал, пока кто-нибудь не обращался ко мне.
– Да перестань ты стесняться! Не обращай ни на кого внимания. Смотри на меня. Всё будет хорошо, – шептала мне в ухо Наташа. Она выглядела вполне уверенной в себе и, кажется, счастливой.
Стояли теплые сентябрьские дни 1996 года. Я торопливо из наташиной спальни убегал во ВГИК, как от самого себя. Там, проглатывая одну за другой книги по философии и истории кино, забывал о личном, постепенно очищал в мозгах место от теории машин и механизмов и прочего мезозоя.
А каково было, читая про «эффект Кулешова», видеть идущего навстречу самого Льва Владимировича? Или наталкиваться нос к носу на Сергея Аполлинариевича Герасимова, окруженного студентами, или Тамару Макарову, в фото которой я был влюблен в восьмом классе? Да и все будущие звезды – и одессит Коля Губенко, и Жанна Болотова, и Андрей Тарковский, Элем Климов, Лариса Шапитко, Василий Шукшин, Андрон Кончаловский, Вика Федорова, Валя Теличкина, Жанна Прохоренко, Елена Соловей каждый божий день здесь касались друг друга плечами.
Кто-то и меня тронул за плечо. Так это же Саня Лапшин из одесской сборной!
– Ты? Здорово! Пришел к кому? – гимнаст улыбался знакомой улыбочкой.
– А ты?
– Я на курсе сценаристов у Киры Парамоновой.
Друг мой, Саня! В одесской ДСШ №1 прошли мы вместе путь от тонкоруких подростков до мастеров спорта. Он рассказал, что после Института физкультуры работал тренером в далеком сибирском городке, стал писать рассказы о юных гимнастах и с ними и был принят.
– А что это за старуха с ядовито желтыми проволочными волосами?
– Ты с ума сошел? Это же Хохлова!
Ей чуть ли не сто, мне казалось. Дух Эйзенштейна витал над нею.
Я еще не знал, что по Cашиному сценарию студия Горького уже ставит фильм «Тренер»! Но однажды он придет к нам на Миусы с оттопыренными карманами пальто. В одном будет бутылка коньяка, в другом толстые пачки денег:
– Вот, получил, – скажет он смущаясь. – Давайте, обмоем.
И мы обмоем. Потом, к сожалению, встречаться будем реже. Он будет в своем Томилино под Москвой днем спать, а ночами писать сценарий «Клима Самгина». Получит за него государственную премию. В Москве будет бывать редко, и мы больше с ним даже не увидимся. Горько думать, что я ему стал просто не интересен. То же произошло, к моему горчайшему сожалению и с Чурбановым: между нами вырос как будто невидимый барьер. Не хотелось думать, что в связи с переменами в моей жизни Вадим потеряет ко мне всякий интерес. В такие минуты я чувствовал себя презренным нуворишем из стендалевского романа о Жульене Сореле. Что было несправедливо. Ибо я уж точно не рвался ни в какое высшее общество. И чувствовал там себя очень неуютно…
Юра Гусев, все еще комсорг ВГИКа, поздравил меня с зачислением и тут же предложил выдвинуться на комсорга факультета.
– А почему не всего ВГИКа?
– Как тебе сказать… Пока на этом месте я. Но если…
– Юра, я пошутил. Я учиться пришел. Хорошо?
Юра был добрым парнем, но занудой.
Утром десять кругов бегом по скверу вокруг дворца пионеров на Миусской площади, где рядом теперь был мой дом. Потом душ, тарелка гречки с молоком и быстрым шагом на Новослободскую, в метро. Стою в толпе, вываливаюсь с толпой на Комсомольской, дышу кому-то в спину, шагая через ступеньку по широкой площадке на переход с кольцевой на радиальную. Снова толпа заносит в вагон:
– Двери закрываются, следующая остановка Белорусская.
И так еще двадцать минут и моя станция ВДНХ.
Далее на автобусе четыре остановки, на пятой на выход: ВГИК.
Лестница слева, лестница справа. Посередине раздевалка. Поднимаюсь на четвертый этаж, иду на звуки полонеза. Это актерский курс делает свои плие, держась руками за подоконники: урок балета. А в библиотеке тихо, здесь, склонившись над книгами, о чем-то думают те, кому положено думать, а не танцевать.
Аспирантам открыт доступ еще и в особый отдел – спецхран, откуда выдают книги для «служебного пользования». Я не задавался вопросом, почему спецхран, от кого спецхран, жадно хватал все, что видел. «За французскую модель социализма» Роже Гароди разбирал по косточкам: «Руководящая роль партии в отношении специалистов в области общественных наук состоит в том, чтобы ставить проблемы, а не в том, чтобы заранее формулировать тезисы, а потом требовать от экономиста, социолога или историка их обоснования».
Ничего себе мысль. Такое еще не приходило в голову. Выписываю. А далее еще и не такое: «Реализм без берегов» того же Роже Гароди неожиданно примирял с абстракционизмом, авангардизмом, модернизмом, концептуализмом, расширяя горизонты партийного представления об искусстве. Учусь смотреть на современную живопись как на спонтанное, беспредметное выражение внутреннего мира художника, потока его сознания. Оставался, правда, вопрос: а почему этот поток должен быть интересен мне?
Так началось разрушение укрепрайонов, которыми была обнесена моя прежняя жизнь. Предстояло понять и заново переосмыслить этот огромный, бесконечно сложный мир, на просторы которого все-таки вынесло идеалиста-утописта. Вспоминал Саню Палыгу, своего однокурскника по мореходке, которому самоуверенно обещал: «Подожди, Санек. Все впереди!» А что впереди, и не знал. А оно, вот оно.
Мой научный руководитель – высокий, распрямленный, с красивой седой головой, профессор Лебедев. Николай Алексеевич в кино с 1921 года. Его, автора главного учебника по истории кино, называют патриархом советского киноведения. Он был еще редактором «Пролеткино», потом ректором театрального ГИТИСа и, наконец, какое-то время ректором ВГИКа. Несмотря на мою настороженность по отношению к тем, кто уцелел в годы идеологических чисток и массовых репрессий, Николай Алексеевич оказался интересным собеседником, чутким педагогом и, главное, искренним поборником социологии, запрещенной с тридцатых годов.
Он видел социологию кино как самостоятельную дисциплину, считал важным изучение колебаний вкусов зрителей и советовал мне всерьез заняться вновь возрождающимися киноклубами. Вскоре мы с Юрой Гусевым создадим Ассоциацию московских киноклубов. Заседания совета – в кинотеатре «Художественный» у метро «Арбатская». Ассоциация эта будет добывать редкие фильмы в зарубежных посольствах, отправлять их по стране невидимыми ручейками, удовлетворяя запросы наиболее продвинутых зрителей. А что означала эта продвинутость, станет темой моей диссертации.
Николай Алексеевич, как я понимаю, искал помощника, ассистента, и я оказался весьма кстати. Какой из меня киновед? А вот социологом, как я считал, я уже был, когда вместе с Гусевым распространял анкеты в кинозале клуба «Горняк». Правда, сейчас все иначе. Смутная догадка о том, что не люди и не боги, а идеи правят миром, уже тревожила неокрепший ум, и ленинский лозунг «из всех искусств для нас важнейшим является кино» обретал иной, более глубокий и опасный смысл.
Николай Алексеевич быстро ввел меня в свой семинар «Кино и зритель», где шла речь не о киноязыке и авторском замысле фильма, а о зрителе, в котором этот фильм отразился. Почувствуйте, как говорится, разницу. Вспоминая Турбина «Товарищ время, товарищ искусство», брался за «Психологию искусства» Льва Выгодского, написанную еще в двалцатых годах, потом наткнулся на «Искусство и мораль» Валентина Толстых, затем «Искусство и элита» Юрия Давыдова. Всё это были авторы широкого кругозора, выходившие за рамки нормативной эстетики.
Социология возрождалась после тридцатилетнего перерыва, и мне, начинающему, было легко. Мы росли вместе. Я привыкал к положению сначала ассистента профессора, а потом уже и преподавателя, хотя мы просто разговаривали. По утрам дамы на кафедре киноведения в ответ на мое «здрасьте!» ласковыми голосами задавали свои вкрадчивые вопросы:
– Как здоровье тестя? Что нового сочиняет? Как жена? А детки скоро?
От такого пристального внимания я краснел и заминал разговор. Предпочел бы, чтобы никто не знал вообще ничего о моем прошлом и настоящем. Но шила в мешке не утаишь. Слухи распространяются быстро. И от них дубеет кожа.
Однажды Олег Видов, уже князь Гвидон, принц Хаббард, всадник без головы пригласил на свою свадьбу:
– Старик, приходи с женой в ресторан «Пекин». Зал спецобслуживания на третьем этаже, на лифте. Только фамилию жены на входе скажешь, ладно?
На мой удивленный взгляд пожал плечами:
– Так это здесь работает. Да, не заморачивайся ты! Все в порядке.
Мы с Наташей, конечно, пришли. Как принято, слегка опоздали. Лифт неожиданно открылся прямо на длинный стол, полный узнаваемых лиц. Народный артист Матвеев остановился на полуслове и ждал, пока мы усядемся среди лиц, знакомых по портретам. Затем поставленным голосом он продолжил длинный тост. Я уже узнал монолог Астрова из «Дяди Вани» и забеспокоился: чем мне крыть?
Справа от меня оказалась полноватая женщина средних лет, привыкшая быть в центре внимания. Кто-то почтительно прошептал на ухо: Галина Леонидовна, Брежнева. Галина Леонидовна уже приняла, и глаза ее блестели. После того, как и я встану с тостом, отважно пролепечу что-то про служение искусству, она наклонится ко мне и скажет на ухо почти интимно:
– Мне понравилось. Вы всегда такой серьезный?
– Да, но кто это ценит? – И получил чарующую улыбку. Чьи-то заботливые руки тут же отвели Галину Леонидовну от меня подальше.
А изящная, остроглазая, с короткими темными волосами, невеста быстро подружится с моей Наташей, а я – с Олегом. Как окажется, на всю жизнь.
– Понимаешь, я по жизни нормальный, ты же видишь.
– Я тоже, Олежка!
Уже год спустя он будет сетовать, что жена усиленно работает теперь над его карьерой, гонит на хлебные концерты петь песни собственного сочинения, пытается даже продвинуть его благодаря своей дружбе с Галиной в министерство культуры каким-то большим начальником. Через несколько лет они разведутся…
Другая дружба не получилась. Случай такой странный. Московская осень регулярно валила меня с ног чертовой ангиной. И в этот раз я валялся в постели с перевязанным горлом, когда раздался звонок в дверь. На пороге стоял Александр Стефанович, вгиковский сердцеед, высокий блондин с кукольно красивой Натальей Богуновой, балериной и актрисой.
– Вот, пришли навестить больного товарища. – И торт уже вручен хозяйке.
Я эту пару вместе и отдельно до сих пор видел только издалека, а, оказывается, мы товарищи! Саша уже оживленно о чем-то болтает с моей женой, смешит ее, свой в доску. Я не знал, как реагировать и помалкивал, лишь удивляясь тому, как бесцеремонно в Москве заводят нужные знакомства.
Впрочем, эта встреча продолжения не имела. Вскоре Александр переключится на восходящую звезду эстрады Аллу Пугачеву и, наконец, женится на ней, видимо, с такой же решительностью. Но привкус чужой незаслуженной мной известности будет отравлять жизнь еще годы и годы…
Аспирантская жизнь – учеба в одиночку, по индивидуальной программе. Был еще обязательный аспирантский семинар раз в две недели, который вел Владимир Евтихианович Баскаков, заместитель председателя Госкино СССР, большой начальник. Сначала мы, числом пять, робели при нем, но постепенно атмосфера теплела. Баскаков был образованным партийцем и, реализуя руководящую роль партии в культуре и искусстве, умел обосновать ее необходимость вполне убедительно. Спорить с ним никто из нас не брался, хотя напрашивались вопросы.
Однажды мы обсуждали фильм Жени Григорьева и Марка Осипьяна «Три дня Виктора Чернышева» 1968 года – историю постепенной моральной деградации обычного рабочего парня наших дней. Владимир Евтихианович к нашему удовлетворению совершенно точно сформулировав смысл фильма. Он сказал:
– Авторы убедительно живописали разлагающее влияние социалистических трудовых отношений на формирование личности молодого человека.
Но потом добавил:
– Фильм абсолютно вредный, я бы запретил. Ну, да ладно, все равно его никто смотреть не будет.
Если мы чего-то не понимали в политике партийного руководства искусством, то теперь поняли. Зампред оказался прав: фильм действительно не всколыхнул массовое сознание. Потому что его положили на полку аж до 1988 года, когда Союз кинематографистов начал вытаскивать из цензурных лап то кино, которое должно было сформировать человека горбачевской перестройки. Не сформировало, и перестройка выйдет боком…
От «Феномена человека» Пьера Тейяра де Шардена к стенограммам съездов партии, от стенограмм расстрелянного съезда к «Доктору Живаго», от изысканной поэзии Пастернака к площадной сатире «Ивана Чонкина» Войновича, от Войновича к Элвину Тоффлеру с его «Шоком будущего» – такое бессистемное чтение делало свою незаметную работу, подталкивало сознание к размышлениям о том, насколько искусство, чья миссия нести доброе, вечное, само попадает под власть разных сил, искажающих его траекторию, и как это сказывается на людях.
Меня самого забавлял такой тест, который я иногда предлагал студентам:
– Представьте, вы идете в ветреный день по набережной вдоль озера, где гуляют волны. Вдруг слышите крики о помощи и видите перевернутую волной лодку. Тонут три человека: знакомый профессор, молодая девушка и ребенок. Вы, не раздумывая, бросаетесь в воду и гребете к ним. Пока плывёте, видите, что все трое-таки тонут. Кого будете спасать первым?
Оживление в классе. Загадка, однако. Первый голос:
– Наверное, ребенка?
Второй:
– А я бы спас сначала профессора. Он все же нужней обществу.
Бедную девушку почему-то не спас никто. Говорю:
– Хотите знать правильный ответ?
Кто-то вдруг:
– Знаем. Все ответы правильные!
И тут наступает момент истины:
– Правильный ответ: ближайшего!
И вот тут коллективная мысль впадает в крайности абстрактного гуманизма, где человеческая жизнь, чья бы она ни была, обладает абсолютной ценностью. Ну, вот так, примерно, мы и общались, так возникал (или не возникал) между нами контакт.
А в 1968 году Николай Алексеевич задумал первую после 30-х годов всесоюзную социологическую конференцию «Кино и зритель». Удалось это сделать под эгидой секции кинокритиков союза кинематографистов. Председатель секции Александр Евсеевич Новогрудский явно тормозил подготовку конференции, с мягкой отеческой улыбкой говорил нетерпеливым:
– Куда вы, ребята? Ну, что вам, жить надоело?
Социологические центры обнаружились в МГУ, в Прибалтике, в Свердловском университете, в Ленинграде, и даже во ВГИКе. Доцент кафедры марксизма-ленинизма, Сергей Александрович Иосифян со студентами, оказывается, уже год, как проводил опросы в кинотеатрах. Обрадовало участие ленинградского профессора Бориса Мейлаха, свердловского профессора Льва Когана, тартусского структуралиста знаменитого Юрия Лотмана, московских социологов Айгара Вахеметса и Сергея Плотникова.
Благодаря им возникло некое интеллектуальное общее пространство, в котором о кино говорили на языке, отличавшимся от киноведческого. Исходной точкой всех докладов и дискуссий было общественное сознание, массовые настроения как тело больного, в которое рука хирурга делает какие-то инъекции. Конечной – как на эти инъекции реагирует больной.
После конференции был напечатан на ротапринте сборник докладов, и весь гигантский тираж в сто экземпляров разослали участникам. Ни пресса, ни Госкино, ни кинокритики конференцию не заметили. Видимо, подмеченная социологами тенденция к снижению эффективности отдельных инъекций кому-то не понравилась.
Но лебедевский семинар, переименованный после конференции в «Социологию кино», продолжал свою полуподпольную работу. Обсуждались кассовые сборы, по которым можно было судить о воздействии остро социальных фильмов на общественное сознание. Как велика реальная сила художественного образа и от чего она зависит? Только ли от доступного киноязыка? Как вообще идеи фильмов взаимодействуют с общественными настроениями, кто на кого влияет и как это происходит с учетом цензурных ограничений и усилий кинокритики. Так ли проста причина ножниц восприятия фильмов кинокритиками и массовым зрителем?