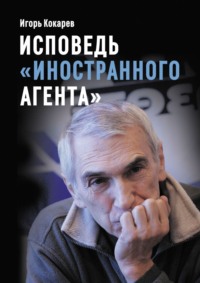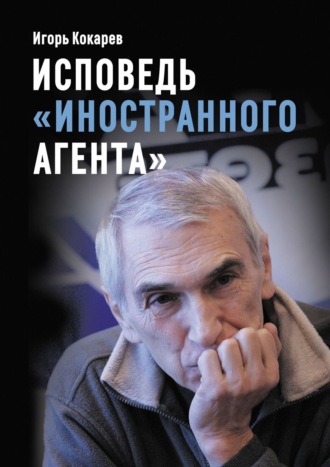
Полная версия
Исповедь «иностранного агента». Из СССР в Россию и обратно: путь длиной в пятьдесят лет
Мне было неловко перед ними опять, как и тогда, когда улетал в казахские степи, покидая навсегда дрожащую под ногами, ускользающую при штормах палубу. Непонятная им аспирантура ВГИКа, номенклатурные привилегии кремлевской поликлиники, спецпайки, санатории, специальная книжная экспедиция со всеми новинками, служебная машина тестя с шофером, дача на Рублевке, жизнь в семье знаменитого композитора в центре Москвы – как это все объяснить моим товарищам, если я и сам не очень понимал, как я здесь очутился?
В кремлевской столовой, куда мы регулярно ездили с шофером Петром Тимофеевичем за обедами, было всё. Размещалась столовая в известном Доме на набережной, спрятанная в глубине двора. Дом этот, выстроенный в тридцатых для партийной элиты, выглядел крепостью. За ее стеной избранным выдавали заказы по книжечке с отрывными талонами. Полагалась книжечка членам ЦК и депутатам Верховного Совета. За нее ТНХ платил какую-то смешную сумму.
На полках – красная и черная икра, балык, ветчина, карбонат, чайная колбаса с чесноком, угорь, кондитерские изделия и горячие обеды на все вкусы. Я ловил себя на мысли, что смотрю на все это изобилие и на всех, стоящих в небольшой очереди, с классовой ненавистью. Но подходила моя очередь, и я тоже брал… Ну, как не брать? Во-первых, дают же не мне. Хотя и мне перепадало. Во-вторых, мы берём самое простое: сосиски из микояновского мясокомбината, яйцо всмятку, чай с лимоном. В алюминиевые трехэтажные судки обычный набор – суп протертый, котлеты, тефтели с гречкой, компот. Ну, еще эти сочные, вкусные сосиски и чайную колбасу с чесноком. Этого, и правда, не найти в магазинах… Остальное докупали в Елисеевском на улице Горького. Семья большая, плюс гости.
Звонил старый товарищ по Высшей мореходке с красивой украинской фамилией Кочерга. Когда я еще болтался мотористом на танкере «Луганск», Валерий был уже начальником отдела кадров Новороссийского пароходства и посмеивался над моими «успехами» в профессии. Теперь тем же басом, каким читал на училищных смотрах самодеятельности «Стихи о советском паспорте», он рокотал из своего кабинета в Новороссийске:
– У нас хорошая погода, старик! Море зовет! Бросай все и вали сюда!
И я бросал. И валил. На озере в Сухой Щели под Новороссийском трое здоровых мужиков гоняли, как дети, на лыжах до полного изнеможения, радуясь быстроходному катеру со сверхмощным мотором, который передал яхтклубу новороссийской мореходки наш третий – великолепный Вадим Никитин, однокурсник Валерия, капитан знаменитого пассажирского лайнера «Одесса».
В годы Перестройки Валерий перейдет на профсоюзную работу в Москву. Среди прочих дел в Профсоюзе моряков он будет организовывать круизы по знаковым мировым маршрутам.
– Давай, профессор, пошли сходим в Италию в круиз со спортсменами, чемпионами мира. Там и твоя знакомая Лариса Латынина будет. Официально будешь у нас кинорежиссером, членом команды.
Сходим в Италию, где у бедной Латыниной прямо в центре Милана жулики, проносясь мимо на трескучем мотоцикле, вырвали сумочку с пятью тысячами долларов. Потом будет круиз в Японию, туда туристы ходили за подержанными Тойотами. С Юрой Синкевичем, ведущим популярного «Клуба кинопутешественников», мы весь рейс весело кутили и в порту пропустили дилеров, приезжавших за желающими. Так что вместо Тойоты успели купить только по мультисистемному кассетному магнитофону.
Наконец, Кочерга окажется с семьей на Мальте, где создаст свою компанию морских перевозок, будет опять ходить на водных лыжах и заниматься чем-то еще, о чем, посмеиваясь, умолчит.
В Москве у него оставалась квартира на набережной Максима Горького. Иногда в телефонной трубке раздавался его сочный бас:
– Я в Москве, бери жену и давай ко мне. Как всегда вас ждет крабовый салат с водорослями и моё новое видео.
А про Вадима Никитина много лет спустя будут написаны книги, он станет легендой Одессы, как мастер своего дела и любимец команды. Он сделает свой лайнер лучшим на американских линиях, работая по высшим международным стандартам и пренебрегая мелочным предписаниям из пароходства. За это его и сожрёт партийно-кагэбешное начальство. Среди прочих обвинений в нарушении дисциплины его подведут под суд за этот проклятый катер, которые он якобы незаконно списал и сбыл неизвестно куда.
Осудить Никитина не удастся, но исключить из партии и уволить из Черноморского пароходства они смогут. Он будет капитаниить на небольшом старом лесовозе на Севере, в бухте Тикси, пока четыре года спустя транспортная прокуратура Одессы не пришлет ему письмо с извинениями за причиненный ему «моральный ущерб».
Краса и гордость черноморского флота, он умрет от разрыва сердца там, на Севере, на капитанском мостике «Марии Ермоловой» в возрасте 54 лет…
Уже в независимой Украине, когда советская, не люстрированная номенклатура будет безнаказанно разворовывать пароходство, его «Одессу» сначала арестуют в Неаполе за фуфловые долги пароходства, и простоит она там целых семь лет, охраняемая верной командой, пока ее не выкупит сердобольный владелец частной одесской компании. Выкупить-то он выкупит, а вот завершить ее ремонт не сможет, так как будет убит выстрелом в затылок. Как и Деревянко, редактор одесской газеты, годами защищавший капитана своими статьями. Такие были времена и в Украине…
А ржавеющую «Одессу» в 2006 году за бесценок тихо отправят на металлолом в Индию…
Рожала Наташа на даче на Николиной горе. Старый дом, накренившись, стоял в окружении дач Михалковых, дирижера Рождественского, шахматиста Ботвинника, Секретаря ЦК ВЛКСМ Павлова, композиторов Туликова, Молчанова, Пахмутовой. Деревянный дом, купленный ТНХ у бывшего министра высшего образования СССР Каюрова, не торопясь, чинил Полин брат, алкаш с золотыми руками. «Крючок» звали его заглаза, таким он был весь скрюченным и невзрачным.
Клара свозила на дачу в сторожку тюками, коробками, ящиками старые журналы и газеты. В сыром темном подвале, куда можно было попасть, подняв половицы, виднелись забытые прошлыми хозяевами банки с разными солениями и вареньем. Сад, в котором когда-то были высажены редкие породы цветов, кустарников и плодовых деревьев, давно одичал, зарастая бузиной и вызывая литературные ассоциации с вишневым садом Чехова.
Середина лета 1966 года. Округлившаяся Наташа пишет с балкона пейзажи вплотную подступающих к даче теплых, рыжих в лучах солнца, высоченных сосен. Ходим на Москва реку, песчаный пятачок у подножья Николиной горы, там роятся иностранцы из разных посольств, им больше никуда не разрешают.
К Михалковым иногда наезжает Слава Овчинников. Автор музыки к фильму Бондарчука «Война и мир» – талант и разгильдяй в одном флаконе – Слава любил бродить ночами вокруг дома и пугать беременную Наташу страшными завываниями в лесной тьме:
– Ната-а-а-ша-а-а! А-у-у-у!..
Говорят, он вот так, шутя и играя, охмурил юную японскую скрипачку – вундеркинда Йоко Сато, учившуюся в Московской консерватории. ТНХ привез её из Японии как редкую птицу. Она и была такой, всегда готовой взлететь и исчезнуть.
А Слава… Что с него взять? Шалопай. Я же ощущал за его вечной бравадой желанную свободу от всяческих шор, включая, я думаю, и от идеологических и от нравственных. Хорошо, что он реализовался в музыке, а не в политике…
Сам ТНХ бывал здесь редко, в основном на заседаниях Правления дачного кооператива РАНИС (работников науки и искусств), подаренного, сказывали, Сталиным воспевающим его художникам. Хренникова сразу избрали председателем Правления. Недаром Овчинников говорил, подняв многозначительно палец кверху:
– Мой шеф – гениальный дипломат.
…Наташа на корточках обновляла клумбу перед крыльцом, когда начали отходить воды. До Кунцевской больницы ее со мной довез Петр Тимофеевич. И через несколько часов появится на свет малыш, названный Андреем после острой схватки с тещей, предлагавшей назвать его Тихоном. Может быть поэтому он и не стал композитором? Зато уже его сына назовем Тихоном. И он-таки станет композитором. Тихоном Хренниковым мл.
Мы тогда здорово выпили с тестем, сидя на кухне и наливая из шестилитровой бутыли, стоявшей под кухонным столом. В бутыле был первач, грузинский самогон, пахнущий виноградом, подаренный ТНХ грузинскими композиторами. Потом с Наташей мы потихоньку допивали его в отсутствие родителей…
Новорожденный сразу оказался в наташиной комнате, где уже все было приготовлению к его появлению. Мы с Наташей уже жили тогда на той же лестничной клетке напротив, в двухкомнатной. Но дитё по настоянию бабушки Клары оставалось на той большой половине. Я безуспешно перетаскивал коляску с ребенком к себе. Но вечером, когда я возвращался из ВГИКа, малыш снова оказывался у бабушки.
– Куда? Зачем? У вас же даже нет места для детской! И вас вечно нет дома!
И то правда. Я во ВГИКе, Наташа покормит дитя грудью и в театр на репетиции. А потом и вовсе уедет в Болгарию оформлять отцовскую оперу в софийском театре.

Так выглядело счастье в середине 60-х…
Не думал я тогда, что практически отдав сына на воспитание дедушки и бабушки, какими бы прекрасными они не были, мы упустили шанс создать свою семью – как гнездо, из которого должен был вылететь наш птенец. Проведя детство до 14 лет в квартире рядом, сын мой будет воспитан не так, как его воспитал бы я. Он не поймет уже одесского юмора, не узнает море, как знал его я, спорт не станет частью его жизни, как он стал частью моей. Он не разделит моих убеждений, моей вовлеченности в перестройку. Однажды, уже взрослым и успешным, он мне бросит снисходительно:
– Если ты такой умный, то почему такой бедный?
Наконец, что в конце концов нас разведет уже навсегда его Z-патриотизм. Только однажды, когда он еще учился в десятом классе, случится нечто экстраординарное. И это отдельная, почти детективная история, связанная с творчеством Владимира Высоцкого, лишь на короткий миг сблизит нас.
В 1980 году Московское правительство выделило Хренникову и его дочери две квартиры в отремонтированном доме на Арбате вместо тех двух, на Миусах, где мы прожили с Наташей первые наши пятнадцать лет. Большую квартиру тестя на четвертом этаже под нашей, трехкомнатной, планировал мой старый товарищ с комсомольской молодости архитектор первой московской мастерской Андрей Боков. Там были и раздвижные двери, превращавшие кабинет с роялем в небольщой зал для концертов, и большая гостиная с тем же старым обеденным столом, и холл для гостей с диванами, и шкафы с книгами, фотографиями за стеклом и сувенирами в широком и светлом коридоре.
Ордена и медали ТНХ никогда не носил. Они пылились у него вперемежку с письмами и старыми счетами в ящиках стола. О столе надо сказать отдельно. Это был личный стол Соломона Михоэлса. Его откопал Миша Левитин в подвале театра на Малой Бронной, где он ставил какой-то спектакль. Старинный, резной, в бронзе, в стиле ампир, забытый всеми, он тускнел под слоем пыли. Увидел его мой друг среди реквизита и ахнул. Пропадает же такое сокровище! К себе он взять его не мог, слишком велик. А мне он сказал:
– Такой стол должен быть у Тихона. Пусть Наташа его отреставрирует и подарит отцу. Я очень этого хочу! Иначе он вообще сгниет, развалится и пропадет.
Так и сделали. ТНХ как будто и не заметил перемены, когда обшарпанный, пыльный мостодонт из кабинета на Готвальда, куда-то исчез. Сверкающий накладной бронзой и вензелями антиквариат был тут же завален горой бумаг, нот, писем и газет.
Нашими соседями в этом, почему-то называемом булгаковским доме, окажутся и храбрый поручик Ржевский из «Гусарской баллады» Юрий Яковлев, и философ Валентин Толстых из родной Одессы, и мать чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, навещавшего ее регулярно с сумками продуктов.
Хочется оглянуться и увидеть их всех, кто бывал у нас в этом доме – и элегантный Веня Смехов из когорты звезд Таганки, и ленинградец Дима Брянцев, скорее похожий на футболиста, чем на главного балетмейстера театра Станиславского и Немировича-Данченко, и добродушный, большой Валентин Гафт, который, оказывается, даже читал мою скандальную «На экране Америка», вышедшую в 1978 году. У нас он и прочитал свою знаменитую пророческую эпиграмму:
Земля, ты слышишь этот зуд?Три Михалковых по тебе ползут!Бывал у нас и Слава Спесивцев, бывший актер Таганки, создавший знаменитую детскую театральную студию в Текстильщиках. На его репетициях царила такая жесткая диктатура, он так третировал влюбленных в театр девчонок и мальчишек, что я как-то попробовал его остудить. Он тут же парировал:
– А иначе у них любовь к театру не воспитаешь! – и выбил ударом ноги дверь из репетиционного зала, где только что кончилась резкая разборка репетиции его знаменитой «Ромео и Джульетты»…
Я очень ценил близкие, теплые отношения с Мишей Левитиным. Любил сохранившиеся в его голосе одесские интонации и какое-то мальчишеское отношение к жизни. Он был диктатором в своем театре, но добрым диктатором, если такое бывает. Для меня непостижимым, но очень органичным, не вызывающим сомнений способом в нем сочетались целомудрие творческого начала и здоровая мужская похоть. Как в том анекдоте: если женщин любит наш брат, он развратник, если же он член Политбюро, значит, это жизнелюб. Так вот Миша был жизнелюбом.
Но вопросы возникали периодически у его жены, непревзойденной Ольги Остроумовой, которая родила ему дочь и сына, но однажды встала на подоконник шестого этажа и сказала:
– Хватит. Или ты уйдешь к своим бабам сейчас же или я выпрыгну из окна.
И он ушел.
Ольгу очень ценила разборчивая в друзьях Наташа и, кажется, из-за нее терпела Мишу, в котором безошибочно угадала бабника…
Смешная история приключилась однажды, опять-таки связанная с Левитиным. Это он попросил меня поехать успокоить плачущую Ленку. Юная звездочка, природно талантливая актриса Лена Майорова, рыдала ему в телефон как раз тогда, да мы в жарком споре о великом русском народе приканчивали большую бутылку рома.
Ее я впервые увидел в Табакерке в роли Багиры и сразу будто что-то ёкнуло: эту ждет трагедия. Воспитанница Олега Табакова, невероятно чувствительная и ранимая, она уже страдала депрессией от какой-то печали, недовысказанности. Друзья вытаскивали ее из внезапных приступов, как могли. Но через несколько лет, уже принятая во МХАТ, она засунет голову в духовку, откроет газ и чиркнет зажигалкой…
В общем, приехал я к ней слегка нетрезвый. Мы с ней еще добавили. Ну, чтобы успокоить. И, находясь в состоянии уже уверенного опьянения, выполнив свою миссию, я сел за руль. Чрезмерно осторожно остановился на красный свет светофора около Высотки на Котельнической набережной. Гаишник заинтересовался и подошел к машине. Достаточно было одного взгляда, чтобы немедленно вытащить меня из машины… Очнулся я только утром дома и без машины.
Что случилось, вспоминалось туго. Пришла спасительная мысль обратиться к Игорю Громыко, которого охраняла Девятка. Мы с ним встречались в одной теплой номенклатурной молодежной компании.
– Почему сразу не позвонил? Протокол бы выбросили и все дела.
– Не мог, старик. Физически не мог. Ничего не помню.
– Ладно. Жди. Тебя вызовут.
Через час кто-то пригнал машину, а утром был звонок:
– Вам надлежит прибыть в управление ГАИ города Москвы.
Ну, я, конечно, прибыл, не ожидая ничего хорошего. Надо же было так напиться.
Разговор в кабинете начальника ГАИ оказался неожиданным:
– Садитесь. Ну, и удивили вы тут нас всех.
– Простите, так получилось. Коллеге было плохо, надо было, так сказать, профилактически…
– Я понимаю. Бывает. Хорошо, что без ЧП. А вы помните свое письменное объяснение? Что вы там написали?
– Честно говоря, не очень.
– Хотите почитаю? Вы давно стихи пишете?
И он, улыбнувшись, прочитал довольно сбивчивое, длинное стихотворное признание в любви «моей милиции родной, что ходит няней за тобой…»
– Мы его поместили в нашу стенгазету.
Возвращая права, он пошутил:
– Пишите нам. В стенгазету.
Я понял, как, однако, хорошо дружить с внуком министра иностранных дел…
Весь этот пестрый хоровод крутился, как планеты вокруг солнца, вокруг доброжелательного, негромкого спокойного, как озерная гладь, Тихона Николаевича. Наши две квартиры были как сообщающиеся сосуды, и наш «филиал» он нередко навещал, когда собиралась компания. Теперь с переездом мы получили и нашего сына, здорового красивого четырнадцатилетнего подростка. Сюда же, уже в десятом классе, он приведет и свою жену, одноклассницу Аню. Здесь же и появятся первые внуки Виктория и Тихон, будущий композитор Тихон Хренников мл.
С кем композитор работает, с тем и дружит. Часто работа заканчивается, а дружба остается. Так получилось и с Верой Боккадоро, к которой уже мы с Наташей частенько ходили в гости в уютную квартиру около старого Дома кино. Там на столе всегда стояли какие-то вкусности из Парижа. Французская балерина, она еще девчонкой приехала на стажировку в Большой и осталась в Москве. Поговаривали, не в последнюю очередь из-за красавца Мариса Лиепы. Во всяком случае у дочери ее некоторые видят его черты.
Вера уже не танцует, она балетмейстер и сейчас ставит на сцене Большого «Много шума из ничего». Спектакль этот останется в репертуаре надолго, будет идти больше сотни раз, и ТНХ не пропустит ни один. И я сижу в директорской ложе (она вдвинута справа в край сцены) рядом с ним, киваю музыкантам в оркестровой яме, перемигиваюсь с танцорами. Каждый спектакль – живой организм, зависит от настроения артистов, и мне нравится это чувствовать, ведь я в трех шагах от них. А знакомы мы потому что в университете марксизма-ленинизма при Большом я уже несколько лет веду свой семинар по американской культуре и слегка влюблен в Людмилу Семеняку.
Вера познакомит ТНХ с французским классиком композитором Андре Жоливе. Он полюбит посидеть в кругу друзей у ТНХ за большим столом в новой просторной гостинной. ТНХ из иностранных языков помнил только осколки немецкого, и было смешно, когда он поддакивал французу:
– Яволь, зер гутт!
Однажды Жоливе приедет в Москву с дочерью, попавшей вместе со своим женихом в автокатастрофу. У нее сложный перелом обеих ног, в нескольких местах кости просто вышли наружу. Это была идея ТНХ устроить ее к знаменитому хирургу Гавриле Елизарову. Кристину приняли, конечно, как родную, и кости срослись, как надо. Девушка вернулась через полгода домой счастливая.
В Кургане же мы, кстати, побывали вместе с ТНХ чуть позже. Надо было перевезти прах его матери с местного кладбища (умершей там в эвакуации во время войны) в Москву. И тогда нас пригласили в клинику Елизарова. Мэтр показал нам девушку. Стройное, милое существо притопало к нам на своих двоих, улыбаясь. И тогда Елизаров включил экран. Это был фильм о ней. Ее привезли с отрезанными трамваем двумя ногами.
Гениальный хирург поставил ей какой-то аппарат, за полгода нарастил недостающую длину, а потом сделал и сустав. Для чего две части его аппарата непрерывно в течение многих месяцев двигались относительно друг друга. На месте движения и возник сустав новой ступни. На ней не хватало только пальцев.
– А зачем? – спросил гениальный хирург. – На ноге они типичный атавизм. Она же ногами ложку держать не собирается.
Елизаров собрал по частям и разбившегося на мотоцикле чемпиона мира по прыжкам в высоту Валерия Брумеля. Чемпион бывал после этого у нас и даже пытался ухаживать за Наташей, что ее смешило. У Елизарова лежал и мой друг одессит Саша Лапшин. Уже известный сценарист остался жив после автокатастрофы только потому что старый гимнаст при лобовом ударе успел упереться ногами в торпедо. Машина сплющилась, ноги напряглись и сломались, но он остался жив.
Более того, еще одну историю рассказывали люди. Что побывал здесь и будущий наш король попсы Филипп Киркоров. И стал значительно выше ростом, что так важно для эстрады.
Но тогда еще это было время восхождения другой звезды. Алла бывала в доме, она что-то репетировали с ТНХ. А на кухне мы как-то слегка выпивали и говорили о ее песнях, стремительно набиравших популярность. После оглушительного её успеха в Болгарии на фестивале «Золотой Орфей» c песней «Арлекино» в 1975 году Пугачева обретет ту уверенность в себе, которая чувствовал каждый, кто когда-либо разговаривал с ней. Когда же она выходила на сцену, это была уже «черная дыра» Космоса, которая втягивает в себя все, что движется и не движется.
Она терпела мои самоуверенные суждения о каких-то новых ее песнях. Не соглашалась, смеялась своим хрипловатым горловым голосом:
– Да, наверное, так. Но людям-то нравится? Как тут быть?
Она уже познала и обожала свою таинственную власть над многотысячной толпой. Это сверхчеловеческое свойство будет вести и направлять ее долго, очень долго. Меня же привлекала эта возбудительная, безумная сила музыки и голоса, поражала способность музыки вызывать мощные душевные порывы, эмоции, похожие на взрывы.
Звала на свои концерты в Лужниках. Я приходил, стоял за кулисами, видел, как она собиралась перед выходом, раздраженная, злая на кого-то из свиты. Но вот, резко отметая полы цветного плаща, она выходит под прожектора, уже сияя, как звезда.
Победительница, фея всех золушек на свете. Она играла, пела, крутила и вертела переполненным стадионом, как ей хотелось, наслаждалась сама собой и произведенным эффектом. Вот она сходит со сцены под гром оваций, заходит за кулисы, уже расслабляясь и выходя из образа. И подмигивает мне…
Светская жизнь композитора – его премьеры и концерты. На них – вся семья и многочисленные друзья, знакомые, какие-то гости. Списки для бесплатных пропусков в руках Клары. Однажды в Большом театре перед началом спектакля толклись гости в тесной раздевалке под лестницей служебного подъезда, ведущего в директорскую ложу. Вдруг сверху полилась густая патока липких слов:
– Кого я вижу!? Самого патриарха советской музыки! Великого и гениальнейшего из всех живущих композиторов – самого Тихона Николаевича!
По лестнице спускался с распростертыми объятиями сам сладчайший, насквозь фальшивый Илья Глазунов. ТНХ было попятился, но его уже захватили мастеровые руки народного художника и мяли, мяли.
– Дорогой мой, любимый, великий человек и композитор, мой кумир, я этого не переживу! Как я счастлив вас видеть, моя жизнь озарена этой встречей! Кого мне благодарить за это счастье?
Кажется, всем окружающим было неловко от такой беспардонной лести. Всего несколько секунд, а праздник испорчен. Избавившись с помощью выдвинувшейся из-за вешалки решительной Клары от сияющего фальшивым счастьем Глазунова, ТНХ спешит за кулисы поздороваться с танцорами…
Дома до такой пошлости не доходило. Ни чрезмерных комплиментов, ни лести глаза в глаза. За кулисами после концерта – это да, там другое дело. Так положено, всем несут цветы и слова благодарности.
Зато в доме держали тетрадь. Лежала она у телефона на кухне. В нее записывались все звонки – кто звонил, зачем и номер телефона. Клара неукоснительно требовала фиксировать каждый звонок.
Я сначала дивился, зачем? Но тоже записывал. И поздравления после премьер, и благодарность за то, что чья-то племянница поступила в институт, и за квартиру, наконец выделенную кому-то Моссоветом. А вот тревожное сообщение о том, что чей-то сын взят в армию со второго курса консерватории, кого-то Минкульт не пускает с концертами за границу, кому-то надо достать лекарства, которые есть только в Кремлевке. Кто-то незнакомый: срочно нужна операция, нельзя ли попасть к Коновалову в нейрохирургию? Еще запись: Тихон Николаевич, послушайте талантливого мальчика, это просто гений, вундеркинд. И еще: скандал в дачном кооперативе на Николиной, приезжайте завтра к пяти на заседание Правления…
Как-то в удобный момент я спросил: где предел? Ответ запомнил на всю жизнь:
– Никогда не отказывай, когда к тебе обращается за помощью. Потому что придет время, когда ты уже никому будешь не нужен. И это страшнее всего.
Великие слова, в них смысл его жизни. Так хотелось бы, чтобы и моей. Ужас в том, что такое время он как будто предвидел. Для него оно наступит в эпоху, когда зашатаются партийные устои, на которых держался Советский Союз, когда распадется Союз композиторов вместе с СССР. Тот Союз, где он оставался лидером более сорока лет. Он отдавал ему много душевных сил, невидимых никому, кроме его Кларуши. На его плечи еще лично Сталин возложил руководство музыкальной жизнью страны. Партия требовала от руководства Союза композиторов глухой защиты советской музыки от буржуазного влияния. Трудно представить себе Бетховена или Чайковского в такой роли. А вот ему приходилось… Хотя ТНХ с его природным даром мелодизма отстаивать идущую от народных корней музыку было естественно…
В домашних разговорах с подраставшим внуком он считал джаз музыкой для ресторанов. Тяжелый рок, которым наш сын стал увлекаться с возрастом, был ему просто поперек горла. Однако, свое мнение он умел держать при себе. Только ироническая улыбка выдавала отношение.