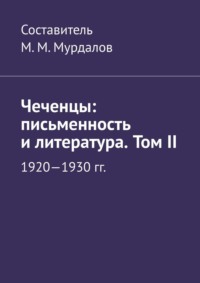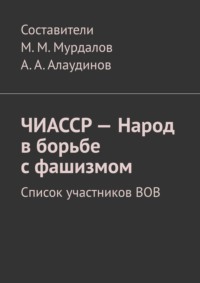Полная версия
Шамиль – имам Чечни и Дагестана. Часть 2
единственного мужчину, который допускается в их общество, второстепенным орудием своих действий против усилий Гази-Магомета и его брата «сплавить» весною непрошенных гостей из Калуги на Кавказ. Участие, принимаемое во всем этом Хайруллою, нисколько не исправляет дело, а напротив, доводит его по временам до вспышек, легко способных обратиться в полный взрыв.
Секретное дело, о котором Хайрулла пришел сегодня говорить со мною. Заключается в том, что, по его мнению, справедливо и необходимо назначить ему от казны содержание, по меньшей мере, в 150 тум. ежегодно, за оказанные им заслуги России и за службу при Шамиле. На вопрос, – какие именно заслуги оказал он России, Хайрулла отвечал – что это он убедил Шамиля сдаться; и что если б не он один Бог знает, был бы теперь Шамиль в Калуге, или держался еще в Гунибе, на погибель Русских.
По объяснению Гази-Магомета и Хаджио, оказалось: что за все время осады Гуниба, Хайрулла постоянно был вне себя от страха, под влиянием этого чувства он то молился то Богу, то кричал в беспамятстве, а когда ядро, или граната пролетали вблизи его, он умолял окружающих – идти к Шамилю и просить его сдаться, угрожая в противном случае непременно умереть. Такая трусость делает непонятною решимость Шамиля держать Хайруллу в своем доме, где было место только храбрецам, всякую минуту готовым умереть без малейшего ропота. Но это обстоятельство, объясняется тем, что Хайрулла состоит при женах Шамиля в должности евнуха.
Объяснив мне свое «дело», Хайрулла присовокупил: что теперь, когда Шамиль не в Дарго, а в Калуге, он сделался человеком свободным и потому желает: или вознаграждения за свою «службу», или паспорта для отправления на родину. Причем взял с меня слово довести обо всем этом до сведения высшего начальства.
Исполняя его просьбу, я считаю обязанностью просить распоряжения об отправлении Хайруллы из Калуги, как человека, быть может, и нужного Шамилю, но положительно вредного для него самого. К удовлетворению желания Хайруллы может служить тот законный и основательный повод, что он принадлежит к числу подданных Персидского Шаха, и с пленением Шамиля действительно не может быть сам его пленником.
2-го февраля. Сегодня Шамиль пригласил меня разделить с ним тот обед, который обыкновенно подавали ему в Дарго. По этому случаю, все женское население его дома, не исключая и жен, отправилось еще с вечера на кухню, и изгнав оттуда Русских поваров, занялось приготовлением обеда, и приготовляло его в продолжение почти двадцати часов.
Стр. 1413 …По замечанию мюрида Хаджио, обед вышел тонкий, гастрономический. При всем том, нельзя было не удивляться – как может выносить человеческий желудок такую жирную, безвкусную пищу. Масло, перемешанное поровну с медом и с сырою мукою; пироги с говядиною и сахаром; суп из курицы с крепким уксусом, множество других блюд все в том же роде, – вот составные части гастрономического обеда горцев. Шамиль, не пробовавший этих блюд с самой осады Гуниба и уже привыкший к европейской пище, казалось, и сам получил в эту минуту не совсем выгодное мнение о тонкостях Даргинской кухни. Подметив раз на моем лице усилие, с которым я старался выполнить все требования застольного этикета, он заметно смущенный, обратился ко мне с объяснением о необходимости тяжелой пищи для горцев, как для людей, постоянно находящихся в тяжелой работе. На этот раз, он не зная того сам отступил от всегдашнего своего обыкновения говорит одну правду, потому, что все мужское население нашей колонии, за исключением самого Шамиля, в продолжение целого дня занимается только игрою в дурачки. Занятие это, которому они предаются секретно от главы семейства, служит, как мне кажется одним из многих доказательств стремления горцев уклонится от строгости учения (и требований) мюридизма. Все же остальное, что представляется мне в моих с ними сношениях, говорит о полном их равнодушии к весьма многим требованиям Шамиля, которые от всей души признаются ими нелепыми, а если исполняются, то единственно из уважения к личности экс-Имама.
За обедом, кроме меня и переводчиков: Грамова и Турминского, находились оба сына Шамиля, старший зять Абдуррахман (младший не допускается в общество взрослых) и мюрид Хаджио.
Сначала разговор шел о скором отъезде Грамова на Кавказ. Шамиль спросил меня: имеет ли он право послать с Грамовым письма: к фельдмаршалу, к гр. Евдокимову, к ген. Муссе, к кн. Джорджадзе, и к брату Шуаннет, купцу Улауханову?
Предвидя это желание, я заблаговременно спрашивал разрешения и. д. начальника Калужской губернии, вследствие чего на вопрос Шамиля отвечал утвердительно. Тогда, он обратился ко мне с просьбою – написать последние четыре письма на Русском языке. Письмо же на имя фельдмаршала изъявил желание написать по-арабски. При этом он сообщил мне содержание писем и указал самый стиль их.
Соглашаясь исполнить просьбу Имама, я спросил его: «кто такой ген. Мусса»? Шамиль отвечал, что фамилии его не знает, а живет он в Буров-Кала (кр. Владикавказ). Тогда я обратился к подпор. Грамову с вопросом: «не тот ли это Мусса, о котором спрашивал меня полк. Богуславский еще в декабре месяце, желая знать, где именно он служит и чем командует? при этом, я присовокупил, что если он тот самый, то это должен быть начальник Осетинского округа, ген.-м. Мусса Кундухов, которого я знаю лично.
Услышав имя полк. Богуславского, поставленное в разговоре рядом с именем ген. Кундухова, Шамиль встрепенулся: по всей вероятности он имел с полк. Богуславским какой-нибудь разговор о нем и теперь получил подозрение, в передаче его мне, потому, что с заметной поспешностью он сказал: «я ничего особенного не говорил Богуславскому о Муссе».
Я отвечал, что не знаю даже, говорил ли он с полк. Богуславским «что-нибудь о нем»; а только слышал от него тот самый вопрос, который вместе с моим ответом приведен выше.
Шамиль этим не удовлетворился: он продолжал говорить о «Муссе», и высказал то, что по его словам, было передано им полк. Богуславскому. Вот его собственная речь:
– Я говорил Богуславскому, что ходить в 1858 году к Владикавказу по той причине, что лазутчики мне дали знать – будто бы Мусса меня приглашает и обещает свое содействие. Но это оказалось ложью, и я был обманут. Доказательством этого служит: во-первых, – моя неудача, а, во-вторых, что я встретил только самое незначительное содействие со стороны одних Назрановцев, да и то весьма немногих. А если бы действительно Мусса хотел моего прихода, – так успехи мои были бы совсем не те. Но я никогда не имел с ним никаких сношений, и по всей вероятности, меня звали некоторые недовольные Назрановцы. Вот все, что говорил я Богуславскому, больше я ничего ему не говорил и ничего не мог сказать, потому что по истине ничего больше не знаю.
В заключение Шамиль объявил, что теперь писать к Муссе не хочет. Вместо того, младший сын его Магомет-Шаффи и оба зятя объявили мне желание отправить с Граммовым письма к родным, а первый, кроме того, и к знакомому офицеру поруч. Лебле.
Об этих письмах, также как и о содержании их, я также докладывал и.д. начальнику губерний, и получив его разрешение, передал письма Грамову.
22-го февраля. В происходившем сегодня между нами разговоре, Шамиль, между прочим, сообщил мне, что за все время его Имамства, он никогда не знал, сколько у него было денег общественных и сколько его собственных. Казначей его Хаджио, действовавший на своем поприще вне всякого контроля, тоже не имел о состоянии вверенных ему сумм ни малейшего понятия. Что касается до шнуровых книг, или чего-нибудь подобного, необходимого на записку прихода и расхода денег, то и Шамиль и Хаджио не только не знали о существовании таких книг, но и не подозревали возможности вести счет деньгам иначе, как только приход сосчитать и положить в сундук, а расход вынуть из сундука, пересчитать и передать по принадлежности.
В заключение, Шамиль выразил твердую уверенность, что ни его, ни общественная казна никогда не подвергались ни малейшему хищению до тех пор, пока не встретилась она с Кибит-Магома, при перевозе ее из Веденя в Гуниб.
24-го февраля. Когда Шамиль увидел дагеротинный портрет жены своей, Шуаннет, присланный ему с Кавказа, он сказал: «лучше бы я увидел ее голову, снятую с плечь».
Вчера он позволил снять портреты со всех женщин, принадлежащих к его семейству, не исключая и жен. Это вторая уступка, касающаяся гаремной его жизни – предмета, на который также мало можно было ожидать уступки, как на предложение принять христианскую веру.
Это самое обстоятельство возбуждает большее недоумение по поводу замеченного мною противоречия между этою внезапно родившеюся терпимостью и нижеследующим фактом.
Сегодня утром я зашел в кунацкую, сборный пункт всех мужчин в продолжение дня. Вместо обычного занятия, игры в дурачки, я увидел их всех, кроме больного Магомета-Шеффи, сидящими очень чинно вдоль стен и слушающими Шамиля с полным вниманием, которое впрочем, изредка сопровождалось зевотою.
Сидя на самом видном месте, Шамиль читал им какую-то очень оборванную книгу, прерывая по временам свое чтение замечаниями, вероятно служившими толкованием текста книги.
Заметив мое намерение не входить в кунацкую из опасения помешать его занятию, Шамиль остановил меня и пригласил сесть. Потом, здороваясь со мною, он сказал, что решился наконец сам учить своих детей тому, что написано в книгах, так как заметил, что они по доброй воле совсем не исполняют его приказаний учиться закону и учиться по-русски, без чего по его мнению нельзя поступить им на службу – предмет, о котором говорил он с фельдмаршалом в Москве.
На Гунибе они совсем избаловались у меня, сказал Шамиль в заключение: все время только играли в пушки да в ружье, а о законе Божием совсем позабыли.
Стр. 1414 Затем он объяснил мне содержание бывшей у него в руках книги: она учит тому, что всякое знание полезно, а потому полезно знание и иноземных языков, хотя бы они были даже христианские.
Прежде всего, это явно противоречит словам Магомета-Шеффи в происходившем вчера между нами разговоре о покойном брате его Джемаль-Эддине. Магомет-Шеффи, между прочим, рассказывал мне, что Джемаль-Эддин, умиравший можно сказать от жажды к чтению, имел у себя очень много Русских книг (более 300 томов), частию завезенных им из России, а частью, взятых вместо денег за освобождение одного пленного Грузина, которого Шамиль отдал ему в рабство, и которого он не замедлил отпустить. Не смотря на то, что Шамиль не мог надышаться Джемаль-Эддином, последний из опасения жестокого наказания, а главное из страха неминуемого сожжения книг, должен был прятать их от отца самым тщательным образом и даже сделать для них особое секретное помещение. Независимо того, собеседник мой и брат его Гази-Магомет постоянно были одушевлены сильным желанием учиться по-русски, к чему они имели возможность, всегда окружая себя беглыми и даже пленными Русскими. Но и они встречали сильное противодействие со стороны отца, грозившего им лишением жизни, если только они заговорят по-русски.
Все это подало мне повод спросить сегодня вечером у Гази-Магомета: от чего он, обещавшись сначала приходить ко мне вместе с братом каждый день для того, чтобы постепенно узнать то, чего они не знают, до их пор еще не исполнил свое обещание, а только лишь несколько раз был у меня вместе с отцом?
Я действительно имел надобность разъяснить это обстоятельство потому, что в заметном усилии со стороны обоих братьев избегать моего общества tete-a-tete, следовало видеть или недоверие их ко мне, основанное на каком-нибудь недоразумении, или же прямое нежелание выйти из гнусной сферы «дурачков», в которой они ежедневно находятся. Первое невыгодно лично для меня, а стало быть, и для моего положения при Шамиле, что должно быть как можно скорее устранено разъяснением недоразумения. Во-вторых, я считаю своею обязанностью извлечь обоих братьев из этой сферы ради собственной их пользы, но конечно с тем непременным условием, чтобы они сами того пожелали. К тому же, бывая часто в их обществе, я бы имел возможность обогатить мой дневник сведениями, более или менее полезными правительству и приятными для публики; чего не могу исполнить в настоящем месяце, по случаю крайней запутанности во взаимных отношениях пленников обоего пола и происходящего в их умах брожения, при котором им совсем не до меня и не до моего дневника. Нельзя, однако, сомневаться, чтобы все это не разрешилось в самом скором времени; и тогда, в нашей жизни можно ожидать больше простоты и естественности, нежели, сколько я вижу теперь.
Со своей стороны, я с величайшим интересом всматриваюсь, насколько позволяет приличие и возможность во внутреннюю жизнь этого семейства: она представляет собою всю закулисную историю последнего двадцатилетия Кавказа; и если я могу в настоящее время составить из своих наблюдений что-либо положительно верное, то все это следует ограничить только одним выводом, который может быть изображен в виде следующего силлогизма: если Шамиль прав говоря, что падение Кавказа совершилось преждевременно; если он прав утверждая, что событие это совершилось вследствие капитальных ошибок, сделанных в последние годы его управления; и если, наконец, ошибки эти действительно совершены под влиянием людей, окружавших его, то нет сомнения, что преждевременностью падения Кавказа мы обязаны супруге Шамиля – Зейдат.
Вопрос, предложенный мною Гази-Магомету, по-видимому, застал его врасплох: в ответе своем, он старался меня уверить, что опасался обеспокоить меня, помешать моим занятиям. Намерение его, однако, не удалось, потому что я тотчас же опровергнул выставленный им довод и, вслед за тем, дал разговору такое направление, которое очень скоро привело моего собеседника к полной откровенности.
Прежде всего, Гази-Магомет выразил опасение, что я пишу и именно о Шамиле и обо всем его семействе, а главное, что все это, как он слышал, печатается в газетах, которых горцы боятся пуще всего на свете. Хотя он слышал, что я пишу о них постоянно с хорошей стороны, но что, по всей вероятности, я изменю свою систему, как только ознакомлюсь с ними поближе, потому что при этом условии я легко замечу все их недостатки, которых, по свойственной ему скромности, он приписывает себе и брату своему слишком много.
В ответе своем, я объяснил ему, во-первых, что недостатки всякого рода существуют в каждом человеке, как бы безгрешен он не был, что хорошо известно и публике и начальству, которое поэтому были бы недовольны мною, если бы я вздумал описывать их недостатки, о которых никто не интересуется знать, а оставил бы без внимания все хорошее, которого так много и в обоих братьях, и в их отце и в остальном ими крае; во-вторых, если он слышал, что я пишу о них только хорошее, то это должно бы по моему мнению служить ручательством на будущее время, и вызвать скорее доверие их ко мне, нежели какие либо опасения; в-третьих, подозрение, которое могло бы по этому предмету зародится в них, – опровергается уже тем, что я в своих занятиях не скрываюсь от них, а напротив еще до приезда моего в Калугу, они были предупреждены о том полк. Богуславским, который даже читал им то. Что было мною писано. В заключение, я выразил уверенность, что если б я и имел желание описывать их недостатки, то все они, сколько б я их не заметил и сколько не выдумывал бы еще от себя, – в совокупности не столько бы удивили публику, как если бы я решился написать, что Гази-Магомет, управлявший семью наибствами, сделавший поход в Кахетию и возбудивший в публике столь значительное о себе мнение, что этот Гази-Магомет, в продолжение почти двух месяцев, ничего больше не делает, как только играет в дурачки.
Склонный, как и все горцы, к правдивости, Гази-Магомет был поражен простою истиною, заключавшеюся в последних словах. Сначала мысль о том, какому, в самом деле, занятию он предается – рассмешила его самого, но потом, сообразив всю мизерабельность подобного мнения о нем публики, против которого, он однако ничего не мог бы сказать, Гази-Магомет обратился ко мне с убедительными просьбами не печатать в газетах об игре в дурачки. Успокоенный моими уверениями, что это дело домашнее, семейное и что из избы не следует выносить сор, он тотчас же с полною искренностью сознался мне в двух обстоятельствах. Первое касается апатии, съедающей его самого и не дающей никакой возможности заняться, чем-либо дельным. Апатия происходит от безнадежности соединиться с женою, которую он любит по-видимому до безумия. Здесь против обыкновения, Гази-Магомет был очень красноречив, и в его словах слышалось так много задушевного чувства, что я с большим изумлением смотрел на него, которого до сих пор считал совершенно неспособным к чувству глубокому, а тем менее искреннему.
Говоря о втором обстоятельстве, он сначала казался несколько сконфуженным, потому что дело касалось его отца, которого должен был выставить не совсем в выгодном свете.
Прежде всего, Гази-Магомет высказал общее и очень сильное желание обоих братьев учиться Русскому языку, и из разговоров со мною знакомиться с подробностями Стр. 1415 Европейской жизни вообще и наших обычаев в особенности. К этому они, было, думали приступить вскоре по возвращению из Москвы. Но тотчас же, по приезду в Калугу, Шамиль строго запретил им это на целый год, в продолжении которого они должны в совершенстве изучить Коран и все прочие книги, в совокупности, составляющие полный кодекс Ислама. Это, говорит Шамиль, необходимо для того, чтобы дети его вышли людьми. Замечая в Магомет-Шеффи отвращение ко всем этим книгам, – он его очень не любит. Внушения Зейдат едва ли не обращают этой холодности в полное отвращение, доказательством чего служит, между прочим, то обстоятельство, что за все время болезни сына, Шамиль ни разу не посетил его. Чтобы не раздражать отца еще более, оба брата согласились хотя и против собственного желания исполнить волю его буквально, для чего признали необходимым избегать по возможности моего общества, так как Шамиль требует чтобы они постоянно сидели за книгами.
Передавая это мне в виде своей исповеди, Гази-Магомет просил меня не сердиться на них и понимать обоих братьев так, как он теперь высказался; а в заключение, просил поговорить с отцом об их нежелании посещать меня, с тем, чтобы речь моя имела бы форму жалобы на них; после чего, по мнению Гази-Магомета, Шамиль к особенному удовольствию обоих братьев, вероятно, будет несколько снисходительнее.
Я обещал пожаловаться. А между тем, высказанные Гази-Магометом факты возбуждают, как мне кажется, следующий вопрос: действительно ли их глубины души Шамиль считает изучение закона Божия началом премудрости житейской, без которой сыновья его не могут быть полезными службе и обществу; или же он пользуется этим случаем, чтобы закалить молодых людей в деле мюридизма, к которому, как заметно они питают сильнейшее отвращение, но которым, быть может, еще живет ум муршида, успокоенный в недавней тревоге великим множеством излившихся на него Монарших щедрот и милостей?
25-го февраля. Сегодня Шамиль сообщил мне несколько финансовых данных, к которым за время его управления придерживался он сам и все его горцы. Вот эти данные:
1) Деньги в горах обращались только Русские и именно серебряные. Не было даже Грузинских двадцати и сорока-копеечников, распространенных в Закавказском крае повсеместно, а в Кавказском частью.
2) Русских полуимпериалов и голландских червонцев в горах было очень много; но между горцами они редко имели значение ходячей монеты, а большею частью, составляя украшение женских нарядов, приобретались как товар, а не как деньги.
3) Медных денег в обращении совсем не было; те же, которые попадались каким-нибудь очень редким случаем горцу в руки, обыкновенно шли в лом, как деловая медь.
4) Депозиток и вообще ассигнаций наших в горах было очень много (все доставшиеся посредством грабежа): но оне не имели никакой ценности, и часто не узнаваемые в своем достоинстве, предавались уничтожении; а те, о которых горцы имели должное понятие, немедленно сбывались ими в Русских крепостях, или своим более смышленым родичам, жившим на мирную ногу; – и
5) Кредитным учреждением для хранения капиталов служила горцам их собственная земля, в которую они имели и еще долго будут иметь обыкновение зарывать свои деньги.
26-го февраля. По поводу высказанного мною вчера Шамилю предложения о переменах, происшедших с приездом женщин в его обыденной жизни и в самой обстановке комнат, я был приглашен к нему на верх, в серал, чтобы по беседовать и кстати взглянуть на предполагаемые мною перемены.
Войдя в кабинет Шамиля, служащий ему и молельнею, я нашел здесь все по прежнему, кроме только того, что на полу разбросаны были в великом множестве книги, а посреди их, тоже на полу, сидел Шамиль, пилежно переворачивая листы и делая из них какие-то выписки.
Поместившись возле него, я спросил, чем он занимается?
– Пишу название тех книг, о которых говорил тебе и которых недостает для моего благополучия, отвечал Шамиль, когда кончу, то прошу тебя написать кн. Барятинскому, или к дежурному ген. (муинь-уль-узир), чтобы велели разыскать их… можно их просить об этом?
– Просить можно, наверное, они сделают все, что от них зависит… но «только где же книги находятся и как их разыскивать»?
– Я и сам не знаю, отвечал Шамиль; – они разграблены вместе с прочим моим имуществом и кто теперь ими владеет, неизвестно. Впрочем, когда кончу реестр, то можете быть для этого и придумаю что-нибудь.
В это время в кабинет вошел мюрид Хаджио.
– Имам, сказал он: – у нас денег нет: сегодня все вышли.
Слова эти произвели на Шамиля весьма небольшое впечатление: деньги и всякие удобства в жизни он считает последним делом; если бы ему предложили на выбор: пять миллионов рублей, которых он первоначально требовал за выкуп пленных Грузинских княгинь, или хорошую книгу, – то, без всякого сомнения, он избрал бы последнюю. Я даже имею причины думать, что он предпочел бы ее и тогда, если бы вместо пяти миллионов ему предложили прежнюю власть и прежнее значение на Кавказе. Занятый рассматриванием книг, Шамиль только искоса посмотрел на непокрытую голову Хаджио, и в виде ответа на его представление, заметил – что в последние четыре месяца, он, Хаджио, очень много потерял мусульманского стыда: перестал, например, брить голову, вследствие чего сделался похожим на Суженского казака; волоса мажет пахучим составом, в котором есть сало животного, убитого рукою немусульмана; ходит в комнате без шапки, что составляет великий соблазн, и вообще, усвоив себе много иноземных привычек, совсем почти сделался Русским.
Хаджио возразил – что хотя это и правда, но что в сущности он сделался Русским гораздо менее, нежели сам Шамиль.
Отложив в сторону книгу, Шамиль устремил глаза свои на мюрида, и, сохраняя наружное спокойствие, сквозь которое нельзя было не заметить некоторой ажитации, потребовал объяснения: на основании каких данных, он, Шамиль, сделался Русским?
Разговор происходил на кумыкском языке. Переводчиком был в этот раз Мустафа-Ях-Инь; но кроме того, я и сам на половину мог понимать разговор.
Хаджио объявил, что, однако коренное обыкновение Русских, совершенно противоречащее правилам Корана, вкралось, по его замечанию, и даже распространилось в доме Шамиля.
Шамиль спросил – какое это обыкновение?
В пространном ответе, Хаджио объяснил, что оно называется «угождение женщинам»; что угождать женщинам есть дело хорошее, в чем он убедился из своих сношений с Русскими, но, во-первых, Русские ввели своих женщин в общество, и поставили их так высоко, что теперь волей или неволей, а должны угождать им. В деле же расходов на наряды, Русские, по всей вероятности, угождают своим женщинам только до известной степени, тогда как у нас этого незаметно. Впрочем, он, Хаджио, не сказал бы против этого ни слова, если бы «наши» женщины имели возможность пощеголять своими нарядами где-нибудь и перед кем-нибудь; а оне вечно сидят дома и даже редко переходят из одной комнаты в другую. Потому ясно, что деньги расходуются без всякой надобности, и что Шамиль, видя это и не принимая надлежащих мер, потворствует женщинам, угождает им, а стало быть, сделался Русским.
Стр. 1416 …Выслушав внимательно это объяснение, Шамиль задумался.
– Нет, сказал он наконец: – я не сделался Русским от того, что позволяю женщинам одеваться как им угодно; но именно потому и позволяю женщинам одеваться как им угодно; но именно потому и позволяю, что они никуда не выходят. Я даже радуюсь, что они занимаются нарядами: наряды доставляют им удовольствие, а стало быть облегчают их затворничество… Мы ведь с тобою в плену, продолжал Шамиль: – а они два раза в плену; надо же выкупить их хоть из одного плена. Я очень жалею, что не могу им возвратить бриллиантов (их): это облечило бы их глаза, которые с тех пор, как были у нас здешние дамы, начали сильно болеть; но Бог даст, они выздоровеют и без брильянтов… А что касается до того, что для них нет места и нет общества где бы оне могли пощеголять, то ты ошибаешься друг Хаджио: вон комната (он указал на противоположную дверь), где оне могут сходиться и щеголять: их много – скучно не будет… кроме того, у них есть мужья, которые составляют для них самое лучшее общество; в этом обществе они, скорее всего, перещеголяют друг друга: тут оне могут даже достигнуть и цели своего щегольства…