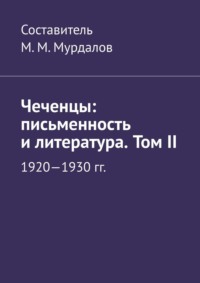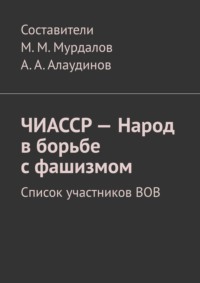Полная версия
Шамиль – имам Чечни и Дагестана. Часть 2

Шамиль – имам Чечни и Дагестана
Часть 2
Муслим Махмедгириевич Мурдалов Редактор
Абдула Аронович Алаудинов Редактор
Джабраил Мурдалов Набор текста, редактура
Микаил Мурдалов Набор текста
ISBN 978-5-0050-5941-3 (т. 2)
ISBN 978-5-0050-5933-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
«Дневник полковника Руновского, состоявшего приставом при Шамиле во время пребывания его в городе Калуге, с 1859 по 1862 год». «АКАК». Том X. Тифлис. 1885 год.
Руновский, Аполлон Иванович. Из дворян Воронежской губернии, православного вероисповед., род. в 1823 году, воспитывался во 2-м Кадетском корпусе, откуда, не окончив курса наук, выпущен в 1840 году юнкером в Куринский полк; в 1845 году из Куринского полка переведен в 6-й резервный батальон Кубанского егерского (ныне пехотного) полка; в 1846 году за отличие в делах против горцев произведен в прапорщики с переводом в Тенгинский пехотный полк; в 1847 году назначен плац-адъют. в кр. Георгиевскую; в 1850 году произведен в подпоручики и назначен на должность гевальдигера штаба 19-й пехотной дивизии с переводом в Навагинский полк; в 1852 году за отличие в делах против горцев производен в поручики; в 1854 году переведен, согласно прошению, в Коммисариатский штат с назначением смотрителем Грозненского временного госпиталя; в 1855 году за отличие в делах против горцев произведен в шт.-капитаны; в 1857 году уволен от службы без прошения за употребление нижних чинов в прислугу для себя и госпитальных чиновников; в 1858 голу вновь принят на службу смотрителем Хасав-Юртовского военного госпиталя; в 1859 году отчислен от Коммисариатского штата с зачислением во 2-й Сунженский казачий полк и назначен приставом при военно-пленном Шамиле; в 1860 году произведен в капитаны; в конце 1869 года (23-го ноября) назначен для особых поручений к главнокомандующему Кавказской Армией; из Калуги, где жил военно-пленный Шамиль, Аполлон Иванович выехал к месту новой своей службы в марте 1862 года; в 1863 году за отличие в делах против горцев переведен в л.-гв. Московский полк с оставлением в прежней должности; в 1865 году за отличие по службе награжден орденом св. Анны 3 ст.; в 1866 году за отличие по службе произведен в полковники; в 1871 году отчислен от должности с зачислением по армейской пехоте и прикомандирован к штабу местных войск С.-Петербургского военного округа; в 1872 году награжден орденомн св. Станислава 2 ст. и назначен в распоряжение Туркестанского ген.-губернатора; в 1873 году назначен делопроизводителем Комиссии для окончательного пересмотра положения об управлении Туркестанского края; в 1874 году (10-го января) назначен и. д. помощника военного губернатора Сыр-Дарьинской области; в томже году 28-го апреля Аполлон Иванович скончался.
Аполлон Иванович участвовал с военных действиях против горцев в 1841—1843 годах на левом фланге Кавказской Линии; в 1851 году на Правом Фланге той же Линии; в 1841 году он ранен был ружейною пулею в правую ногу выше колена, где пуля и осталась. Состоя с 1859—1861 года приставом при военно-пленном Шамиле, Руновский вел, согласно данной ему инструкции, весьма интересный дневник, ныне печатаемый в Актах Археографической Комиссии. Женат быль Аполлон Иванович на дочери подполк. Безака Надежде Васильевне.
ДНЕВНИК. 3-го ноября. По словам людей, окружающих Шамиля, сегодня седьмой день, как он находится в самом плачевном расположении духа. С отъездом полковника Богуславского оно усилилось до того, что Шамиль казался мне человеком близким к самоубийству. Это побудило меня принять все зависящие от меня меры для извлечения Имама из неблагоприятного настроения, которому он поддался. С этой целью, воспользовавшись тем, что сегодня вечером Шамиль, в крайней степени печального состояния, лег спать в семь часов, – я позвал к себе мюрида Хаджио, чтобы посоветоваться с ним на счет выбора средств к развлечению пленника и спросил его: что находит полезным в этом случае он, который так любит своего Имама, и так хорошо знает все его привычки и вкусы?
Весь приводимый разговор был веден через прапорщика Грамова, который только немного менее Хаджио знает Шамиля; притом же очень им любим и пользуется от него большим доверием, в чем я убедился как из того, что видел лично, так из слов полковника Богуславского.
На мой вопрос, Хаджио отвечал – что, прежде всего, единственным и самым верным средством он признает музыку, которую Шамиль страстно любит; а уж потом выезды в общество, к чему он тоже изъявлял прежде желание.
Узнав от Грамова, – что я позвал человека тотчас после его ответа, для того, чтобы распорядиться переносом на следующее утро органа от подполк. Еропкина в гостиницу, – Хаджио выразил полное свое удовольствие, и как видно, под влиянием этого впечатления, просил Грамова передать мне, что причины теперешнего положения имама заключаются в опасениях его за семейство, о чем в подробности известно полк. Богуславскому; что хотя опасения эти составляют главнейший предмет заботы Шамиля в настоящее время, – но что есть еще одно обстоятельство, которое мучит его столько же, как и мысль о семействе; и что с устройством этого обстоятельства в таком виде, как бы ему хотелось, – он считал бы себя вполне счастливым.
При этом, Хаджио повторил слова, сказанные самим Шамилем прежде: что настоящее свое положение в плену он считает несравненно покойнее и безопаснее прежнего, когда, пользуясь властью, он был окружен соотечественниками и людьми «преданными».
Речь Хаджио, естественным образом требовала с моей стороны вопроса: какое же это обстоятельство? Хаджио объяснил его очень красноречиво, очень подробно и, как можно было заметить, очень искренно. Вот сущность его объяснения.
Шамиль до того проникнут чувством благоговения к Государю Императору за все милости, которыми был осыпан и которых он совсем не ожидал; до того тронут вниманием, оказанным ему Русскою публикою повсеместно, где только он ни показывался, наконец, впечатления, зарожденные в нем предметами цивилизации, так сильно изменили прежний его взгляд на вещи, и особенно на смысл Кавказской войны и на намерения нашего Правительства относительно Кавказских племен, —
что все его чувства и все желания слились теперь в одно желание, сделавшееся можно сказать его жизнью, именно: отыскать случай для представления Государю Императору доказательства своей признательности и своей преданности, которые могли бы выразиться фактом, имеющим существенную важность.
Будучи убежден, что для более успешного выполнения возложенного на меня инструкцией поручения, главным условием должно считать осторожность и постепенность в разговорах подобных этому, я решился не возбуждать мюрида к развитию его идеи вполне; но, вместе с тем, признал необходимым воспользоваться настоящим случаем, чтобы вызвать его на умеренную только откровенность, – извлечь из его слов какой-либо полезный факт, или, по крайней мере, облегчить себе последующие сношения с Имамом. А потому, обдумав условия, в которые поставила меня случайность, я сказал, что Государь Император, осыпая щедротами своими Шамиля, хотел только показать этим —
что ценит способности и достоинство в каждом человеке, к какой бы нации он не принадлежал, даже и в неприятеле; по что Его Величеству без сомнения будет приятно узнать, что Августейшее Его внимание принесло добрые плоды; что, наконец, остальное зависит от самого Шамиля, которого, впрочем, я не намерен ни к чему побеждать потому, что имею строгое приказание не беспокоить его никакими распросами, разве только, сам он захочет о чем-нибудь поговорить со мною.
На это Хаджио выразился в том смысле, что Шамиль будто бы того только и опасается, что когда он начнет говорить, – то ему или не поверят, или не обратят внимания на его убеждение.
Я спросил: разве Шамиль скоро намерен говорить о том, что его занимает?
Хаджио отвечал, что он дожидался только моего приезда и моих вопросов, и что он будет отвечать мне с большою охотою и с полною откровенностью.
На это я возразил, что если у Шамиля есть такое намерение, – то почему же он не высказал того, что хотел, полк. Богуславскому, к которому он, по-видимому, питал так много доверия; а между тем, меня он почти совсем не знает, и потому, имеет полное право не доверять мне ни в чем, кроме желания способствовать его спокойствию и благоустройству его домашней жизни.
Хаджио отвечал на это, что, во-первых, полк. Богуславский не делал Имаму подобных вопросов; во-вторых, что еще вчера Шамиль лично выразил полное ко мне доверие в пространном разговоре, возбужденном им самим; о теперешних взаимных наших отношениях, для чего, он пришел ко мне тотчас после отъезда полк. Богуславского в сопровождении переводчика Грамова и того же мюрида Хаджио; и в-третьих, что намерение Имама говорить со мною основано на отзывах обо мне г. Богуславского, и на каком-то особом доверии, которое он питает к моей физиономии.
Заметив на это, что наружность бывает обманчива, я повторил прежние свои слова, что расспрашивать Шамиля не стану ни о чем, сколько из опасения лишиться этого самого доверия, столько же и для того, чтобы не обеспокоить его и не сделаться ему в тягость.
Тогда Хаджио сказал: Если так, то позвольте же мне говорить об этом. Мне тоже хочется выказать чем-нибудь мою благодарность за все, что я получил и что видел; когда приеду домой, вы скоро услышите о том, что я буду говорить; но я хочу исполнить это теперь, не выезжая из России. К тому же, я буду говорить с вами через Грамова, о котором и я и Имам, наверное, знаем, что он передаст наши слова без ошибки, и именно в том смысле, как мы желаем. Но прежде я должен вас предупредить, что если вы получите от ваших начальников позволение спросить Имама о чем-нибудь касающемся Кавказа, или сами издумаете это сделать, то сделайте это теперь, когда Исай (Грамов) еще здесь; а в особенности, когда приедет Казы-Магомет: это человек умный, и имеет большое влияние на отца, который, по случаю сведающий его печали, не всегда может сразу выразить свои мысли безошибочно (действительно, в последние два дня, до появления в гостинице органа, Шамиль в разговорах часто перемешивал в рассеянности один предмет с другим, посторонним разговору, и вообще, что называется, заговаривался); между тем Казы-Магомет знает кавказские дела и Кавказский народ не хуже Имама, с тою только разницей, что голова у него, как у человека молодого, свежее, чем у отца, хотя не такая светлая. С отъездом же Исая, я не думаю, чтобы Шамиль, а тем менее Казы-Магомет, были бы очень откровенны с новым переводчиком; если это и случится, то разве через долгое время.
Окончив эту речь, Хаджио снова попросил позволения «говорить». Сохраняя равнодушный вид, я исполнил его желание. Вот сущность его рассказа:
За все время Имамства Шамиля, в целом крае, признававшем его власть, лучшим наибом считался Тилитлинский наиб Кибит-Магома, в заведывании которого Шамиль отдал семь других наибств Дагестана, соседних с Тилитлем. Кибит-Магома пользовался большою популярностью за свою ученость, храбрость, а главное, за справедливость управления, во время которого народ чувствовал себя совершенно довольным, и начал уже забывать значение слова «взятка», так хорошо знакомого во всех других наибствах. Шамиль видел действия Кибит-Магома, сознавал всю огромность влияния его на страну и чувствовал, что в критическом случае, это влияние может подорвать его собственный кредит. Но признавая Кибит-Магома человеком чрезвычайно умным, а главное управляющим своим краем безошибочно и с полным знанием дела, – он оказывал ему высокое уважение, простиравшееся даже до того, что когда Имам получил в 1856 году неопровержимые доказательства сношений Кибит-Магома с Русскими через ген.-м. Агалар-хана Казикумухского, – то вместо смертной казни, которой подлежал виновный и на основании правил Корана и по требованию общественного мнения, – Шамиль, призвав Кибит-Магома к себе в Дарго, сказал ему: «у меня есть ясные доказательства твоей измены. Народ знает про нее, и требует твоей смерти. Но я, уважая твой ум, твою ученость и престарелые лета (он двумя годами моложе имама, но дряхлее его), а главное, хорошее управление краем, – не хочу исполнить волю народа, в благодарность за твои услуги ему. Вместо того, оставайся у меня в Дарго: я сам буду наблюдать за тобою; а в последствии, когда народ успокоится, а ты заслужишь полное прощение, – я отправлю тебя на прежнее место».
С тех пор, Кибит-Магома постоянно жил в Дарго, до самого взятия Веденя. После же этого события, он отправился вместе с Шамилем в Ичичали, где последний начал строить укрепление, чтобы привлечь войска наши в эту сторону, на основании того, оправданного долголетним опытом, расчета, что Русские не могут удержаться, чтобы не положить много народа там, где Шамиль производил хоть какие-нибудь инженерные работы. Вместе с тем Шамиль думал отдалить часть своего падения, в скором наступлении которого он не обманывал себя. Но вскоре, заметив, что Русские отряды на обращают на его укрепление ни малейшего внимания, а вместо того охватывают его с трех сторон, —
Шамиль почувствовал, что оставаясь в Ичичали одною минутой долее, он скорее приблизит свой час, нежели отдалит его; и поэтому бросил Ичичали и направился к Гунибу, приказав Кибит-Магома ехать в ближайшую к Ичичали деревню, и дожидаться там развязки последней экспедиции, в конце которой стояло путешествие в Калугу.
Вместо того, Кибит Магома лишь только кинжалы мюридов скрылись у него из глаз, собрал войско в народе, всегда готовом подняться по первому его слову, и явился в тылу Шамиля. Последствием этого было отбитие всего имущества Имама, взятие в плен его казначея и бегство его самого, при чем, он только с большим трудом достиг Гуниба. «Начальству вашему», продолжал Хаджио, – «известны все эти подробности; и так как они очень ясно показывают взаимные отношения Имама и Кибит-Магома, то он и опасается, чтобы не приписали его слова о Кибит-Магома вражде, которую он к нему питает».
Находя опасение Шамиля довольно основательным, а в рассказчике признавая одного из самых жарких приверженцев вверенного мне пленника, я спросил мюрида: «что же хочет он сказать от своего лица?»
Хаджио отвечал, что Кибит-Магома, будучи известен теми качествами, о которых упомянуто выше, не менее того известен во всем народе как величайший честолюбец, питающий в себе такие желания, которых Русское правительство не может и не захочет удовлетворить.
«Ко всем достоинствам Кибит-Магома», говорил мюрид, «следует присоединить еще обширные родственные его связи и необыкновенное красноречие, против которого трудно устоять мусульманину. Я сам, после того, что видел в России, смело могу назвать себя одним из преданнейших вашему Правительству людей и теперь еще повторяю: вы скоро услышите, что я буду говорить; но несмотря на это, я тотчас же явлюсь послушать Кибит-Магома, когда заговорит он».
Заметив мюриду, что после этого я и сам начинаю верить в силу красноречия Тилитлинского наиба, я спросил: «что же из всего этого следует?»
Хаджио ответил довольно ясным намеком на возможность желания со стороны Кибит-Магома надеть на себя вакантную Имамскую шапку.
Я отвечал, что это дело возможное: что стоит только Кибит-Магоме заслужить своим усердием и преданностью внимание Русского правительства, так оно не долго заставит его дожидаться Имамской шапки.
Хаджио выразил надежду, что он не дождется этого, а наденет шапку сам; и потом, прибавил: «Шамиль тоже скажет: спросите у него». Сказав на это еще раз, что спрашивать не стану, я взглянул на часы, и заметил, что пора спать.
4-го ноября. Сегодня утром принесли орган. При первых его звуках, Шамиль как будто ожил. С полчаса слушал он музыку внимательно, почти не шевелясь; потом начал рассматривать инструмент во всей подробности, для чего нужно было совершенно снять наружную его оболочку. Слова Хаджио оправдались: Шамиль сделался как будто совсем другим человеком; он заговорил о знакомстве с Калужским обществом, и выразил желание начать скорее визиты. Говоря об органе, он упомянул, между прочим, что в горах не было ничего подобного; да и вообще, он запретил всякое подобие музыки, всякий намек на нее, ради тех же причин, по которым запретил употребление табака во всех его видах.
Такой оборот речи предоставил мне возможность подвинуть Имама на дальнейшие подробности и быте горцев, и при этом спросить, не подавая ему повода к предположению о каком-нибудь особенном с моей стороны намерении: кто остался теперь на Кавказе из умных людей, которых любит народ?
Шамиль отвечал, что умных людей на Кавказе много; но из таких, которые вздумали бы воспользоваться любовью народя для того, чтобы пойти по его стопам, – он знает только одного, да и, то не думает, чтобы он решился на что-нибудь против Русских, уж потому только, что народ давно уж этого не хочет, и еще потому, что три известные ему на Кавказе начальника знают, как ему кажется, этого человека очень хорошо и, по всей вероятности, не допустят его сделать что-нибудь важное. Вот сущность слов Шамиля.
«Теперь Кавказ – в Калуге» начал он, и Русским уж нечего опасаться какого-либо серьезного восстания: в Чечне нет людей, не только способных руководить делом, а тем менее большим, но и таких, которые желали бы его. В Дагестане есть один такой человек: он столько же, если не больше меня, имел влияние на народ, и если не больше, то столько же, как и я, имел и имеет теперь средств для такого дела. Но я не думаю, чтобы он решился на это: в настоящее время ему кажется никакой нет в том выгоды. Я знаю, что если назову его, мне не поверят, так как между нами есть счеты, которых, конечно, не суждено мне покончить на этом свете; но все-таки я назову его для того, чтобы сказать: что когда на Кавказе случится что-нибудь, ищите концов у Кибит-Магома: кроме его, никто не в состоянии и никто не захочет сделать что-либо. Впрочем, повторяю: едва ли он решится пойти по моим следам, особливо, если за ним будут хорошо присматривать, да не забывать причин, побудивших Даниель-бека явиться ко мне, бросив свое султанство; помнить также характеристику Хаджи-Мурата, и не упускать из вида, что Кибит-Магома есть Даниель-бек и Хаджи-Мурат, взятые вместе, а главное, что он больше мусульманин, нежели я сам. но если бы что-нибудь и случилось, то есть у вас на Кавказе три человека, которые также хорошо, как и я, знают и Кавказ, и тамошнюю войну, и тамошний народ, да и самого Кибит-Магома. Пока не возьмут оттуда Учь-геза (граф Евдокимов), Орбелиана (ген.-адъютант) и Лазарева, всякое движение будет подавлено в самом начале. Кн. Наместнику и бар. Врангелю известно, что Лазарев большой мне враг; но я назвал его тотчас после Учь-геза и Орбелиани потому, что говорю по совести. Так и все это я говорил».
Предполагая, что вышеприведенные слова Шамиля и его мюрида могли быть сказаны под влиянием неприязненного чувства к Кибит-Магоме; но, вместе с тем, считая возможным, что сведение об этом может понадобиться на всякий случай теперь же, я позволяю себе представить эту выписку на благоусмотрение начальства ранее определенного инструкцией срока, и просить разрешения представлять подобные сведения таким же порядком и на будущее время.
9-го ноября. По поводу бывшего вчера, у губернского предводителя дворянства, танцевального вечера, на котором присутствовал и Шамиль, сегодня произошел между нами разговор о влиянии свободы, которою пользуются у нас женщины, на общественную нравственность.
Скоро заметив, что Шамиль сознает убедительность моих доводов за свободу женщины, но не хочет выразить своего согласия больше потому, что «так в книгах написано», я тотчас, же прекратил спор об этом предмете, а обратил разговор на постановления, существующие в немирном крае, относительно преступлений против общественной нравственности.
Вот данные по этому предмету, сообщенные мне Шамилем. Преступление против общественной нравственности, тогда только признается действительным и подлежит гражданскому суду, когда оно обнаружено не менее как четырьмя свидетелями, или захвачено на месте его действия.
В таком случае, правила Шариата предписывают следующее:
1) Если в преступлении обвиняется замужняя женщина, или девушка, обещанная кому-нибудь в замужество, то обе они подвергаются смертной казни.
2) Этому же подвергаются их обольстители, невзирая на возраст и звание. Мюрид Хаджио участвовал в избиении бывшего своего товарища, пятнадцатилетнего мальчика.
3) Муж, получивший указанные Шариатом доказательства неверности своей жены, имеет право убить ее и ее любовника безнаказанно; но если он сделает убийство по одному подозрению, то подвергается кровомщению со стороны родственников. Если в деле преступления своей жены он не хочет кровавой развязки, то должен простить обоих преступников безусловно; в противном же случае, если доведет об этом до сведения суда, то преступники все равно будут преданы смертной казни.
4) Если в любовной связи обвиняется девушка, еще не обещанная в замужество, то ее и ее любовника, если он не женат, наказывают публично ста ударами розог и выгоняют из деревни на один год, по истечении которого, девушка может возвратиться в свой дом и даже выйти замуж; но в последнем случае, редко выходит за человека порядочного. Если обольститель был женат, то его предавали смертной казни.
Все эти постановления исполнялись немедленно и без всяких исключений, или отступлений. Смертная казнь за прелюбодеяние состоит в избиении каменьями.
Казнь совершается церемониальным образом: для этого вырывают неглубокую яму и сажают в нее преступника, с руками, привязанными к ногам. Потом, бросают в него кругловатыми, величиною в кулак, камнями до тех пор, пока он не останется ни малейшего признака жизни. Мужчины побивали мужчин, женщины – женщин. Однако, невзирая на строгость этих постановлений, общественная нравственность в горах не могла, по замечанию Шамиля, похвалиться своей чистотою; и этому в особенности способствовала трудность приискания четырех свидетелей.
10-го ноября. Сегодня, прочитав в статье: «Шамиль и Чечня», что между многими административными мерами Шамиля была одна насильственная, принятая им в видах увеличения народонаселения, именно: принужденные браки, я спросил его: в какой степени достоверно это известие.
Шамиль отвечал, что оно не совсем справедливо, хотя и имеет в своем основании истину. В доказательство, он привел предположение, не лишенное основательности: что если бы он позволил себе вмешиваться в семейные дела горцев, то нажил бы себе очень много врагов, и без сомнения, давно бы уже не существовал. Причина же, послужившая автору статьи «Шамиль и Чечня» поводом назвать распоряжение его по этому предмету мерою насильственною, заключалось в следующем:
Замечая по числу преступлений против общественной нравственности усиление разврата между горскими девушками, и желая отклонить их заблаговременно от ожидавшей их участи, а семейства их от бесславия, Шамиль предписал своим наибам заботиться о заключении возможно большего числа браков, стараясь склонять к тому как молодых людей, так и их родителей; но не иначе, как благоразумными увещаниями. Некоторые же наибы, или, не поняв настоящего значения его распоряжении, или от излишнего усердия, позволяли себе выведывать через старух о совершеннолетии девушек, и о сформировании их, а потом, имененм Имама, требовали от них, или от их родителей, скорейшего заключения браков; в яму же никогда не сажали ослушниц, и никаких других принудительных мер не принимали; да этого, никто бы им и не позволил.
Со своей стороны, Шамиль, до которого доходили слухи о превратных действиях наибов, всегда делал с них за это взыскания и строго подтверждал исполнять его приказание в настоящем его смысле.
Объяснив это, Шамиль, присовокупив, что в этом случае, он имел в виду совсем не увеличение народонаселения; а что действительно, была принята им одна мера с этой самой целью, – но только и ее он не может назвать насильственной. Затем, отдавая обстоятельство это на мой суд, Шамиль объяснил мне сущность этой меры.
Дело заключается в том, что беглые Русские солдаты, принявши ислам и сделавшись семейными, вели свой домашний быт по Русским обычаям, предоставляя женам свободу, и окружая их ласками и попечениями, которых не знали горские женщины, всегда игравшие в семейной жизни роль вьючного скота. Этот Русский обычай очень нравился горским девушкам; и чтобы воспользоваться удобствами его, многие из них убегали из родительских домов (чаще всего, это случалось в обществе Ахвакх, в котором более всего ренегатов), и являлись к Имаму с изъявлением желания выйти замуж за солдата.
Хотя Шамиль очень хорошо понимал, что устройством таких браков он мог возбудить против себя неудовольствие многих; но пользуясь согласием девушек и всегдашнею готовностью солдат жениться, он сме6ло давал разрешение, имея при этом в виде не одно увеличение народонаселения, но и необходимость привязать беглецов к новой их жизни более надежными узами. С этой целью, он даже сделал небольшое дополнение к основным правилам Шариата, и разрешил девушкам, которые после наказания должны были подвергнуться остракизму, выходить за солдат замуж тотчас, не оставляя деревни.