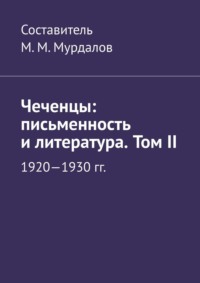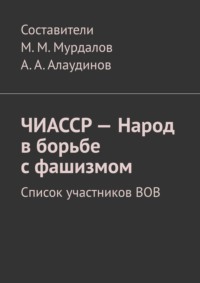Полная версия
Шамиль – имам Чечни и Дагестана. Часть 2
Благодарю вас за то, что вы не забыли упомянуть в своем письме и обо мне, – это доставило мне такое удовольствие, как будто я виделся с вами и лично беседовал. С каким бы удовольствием я теперь посмотрел на вас и поцеловал не только вашу благородную руку, но вашу благородную стопу! Об этом я прошу и молюсь Всевышнему, надеюсь, что и вы присоедините к моим мольбам ваши светые молитвы! Что касается до нас, то мы, слава Богу, по милости великодушного нашего Монарха, живем в совершенном довольстве и спокойствии, без тоски и печали, неприятно только то, что мы живем в разлуке с вами. Я посылаю вам это письмо для того, чтобы засвидетельствовать почтение всем нашим домашним, в особенности вам и любезному брату своему Сейду-Ахмеду-Бедави. Любезная дочь твоя Зайдат также кланяется всем нашим родственникам, в особенности тебе. Не забывайте нас в ваших святых молитвах. Писано в Калуге 1278 года 22-го числа месяца Шуаля. Бедный, нуждающийся в помощи Божией, Абдуррахман.
Письмо Хасама Хаджио Бен-Нурич, взятого в плен в Кахн. Любезному брату Мухаммеду и всем прочим родственникам, мир и благословление Божие! По приезде Шамиля в Богоспасаемый град Калугу я отправился к нему для свидания с ним и его детьми и узнал от него, что вы живы и здоровы, воздал Всевышнему хвалу и благодарение. Что касается меня, то прошу вас на счет меня не беспокоится: я жив и здоров и совершенно счастлив, по милости Государя Императора произведен в чин поручика, командую полком, состоящим из ста пятидесяти чел., живу недалеко от Имама и по временам навещаю его. Писано в Калуге 1278 года 23-го числа Шуаля. Нуждающийся в помощи Божией Хасан Хаджио Бен-Нурич. Ашильты.
Письмо Вали-Кизы к родственникам в Гарчиги и Арсахан. Мир вам, благословение Божие! Вот я по воле Всемогущего нахожусь в отдалении от вас, что делать, таково предопределение Божие. Знаю, вы желаете, чтобы я жила с вами, благодарю вас за это желание – мне и здесь при семействе Шамиля хорошо по милости милосердного нашего Монарха. Не беспокойтесь обо мне, я совершенно счастлива, нет у меня никакой тоски и печали, кроме только той, что живу в разлуке с вами. Посылаю вам на память янтарные четки, а жене вашего сына – тафту, прошу вас принять от меня эти посылки, как знак моей вам любви и душевного расположения. Писано в Калуге 1278 года 23-го числа Шуаля. Бедная, нуждающаяся в помощи Божией, Вали-Кизы.
1-го мая. Вчера приехал в Калугу Магомет-Амин, и остановился в доме Шамиля. Свидание бывшего Имама с его бывшим мюридом было интересно и заключало в себе много смысла. Нет сомнения, что они имели многое для передачи друг другу. Магомет-Амин рассказывал о нравах, обычаях и об особенностях наречия Абадзехов, а также и Турков, с которыми он имел частые сношения и даже был в Константинополе, где, по случаю происходивших в то время переговоров о мире с Россиею, его чуть было не арестовали, невзирая на то, что он считается ген.-л. Турецкой службы. Рассказы его о Турции, по-видимому, усилили и утвердили в Шамиле то невыгодное мнение о ней и нелюбовь к Султану, которые он питал до сих пор; а Магомет-Амин, имеющий с своей стороны причины быть недовольным Турецким правительством, – постарался украсить свои рассказы меткими сарказмами и ловкими оборотами речи, на что, как кажется, он большой мастер.
Стр. 1431 …Репутация набожного человека и ревностного мюрида, которою Магомет-Амин пользовался в прежнее время, осталась бы за ним и теперь, если бы множество намазов, совершенных им за короткое пребывание в Калуге, не показывали желание порисоваться, в глазах Шамиля, Таравехами, и пощеголять перед бывшими своими товарищами мюридами особыми молитвенными приемами, вероятно заимствованными им от Мекских ханжей, или от его недругов – Турков, которые, не смотря на то, в мнении его и в мнении всех горцев, считаются настоящими законодателями мод» и Магомет-Амин, усваивая себе фасон в костюме и способ ношения оружия от Турков, – передавал постепенно изменения в том и другом своим родичам в Дагестане. Точно также подражает он Туркам и в обращении, и теперь видимо старался изумит простодушных горцев своим наружным лоском и занятием светских приличий. Но все это, подобно наказам с Таравехами, выходило у него уж слишком неискренно и только послужило для защитников Гуниба поводом втихомолку подсмеиваться над ним и прозвать его «Кизилбашем», слов, которое в полном переводе означает лгун, хвастун. Вообще, впечатление, произведенное Магомет-Амином на горцев, нельзя назвать вполне для него приятным. А что касается Шамиля, то мнения своего о «теперешнем» Магомет-Амине он не высказал еще ни словом, ни жестом.
5-го мая. Сегодня, Гази-Магомет с прочими горцами выехал в Темир-Хан-Шуру. Отъезд его был назначен на другой день отъезда Магомет-Амина, т.е. 3-го числа; но вследствие оказавшихся разного рода неисправностей относительно дорожных сборов, Шамиль отложил поездку до 4-го числа. Утром же этого дня, он прислал просить меня к себе для сообщения одного очень экстренного обстоятельства. Отправившись тотчас же на свидание, я был встречен вопросом: есть ли у нас такие нехорошие дни, в которые нельзя делать ничего важного? Я ответил утвердительно и назвал понедельник.
У нас тоже есть такие дни, сказал Шамиль и потом поспешно спросил: – а, что можно ли отложить отъезд Гази-Магомета да завтра: не составит ли это разницы? Начальство не будет за это сердиться на нас?
Я поспешил успокоить его и потом спросил – какой день считается у них черным? – Таких три дня, отвечал Шамиль: воскресенье, понедельник и суббота; но из этих дней суббота самая черная: в этот день мы ничего важного не предпринимаем.
Из дальнейшего разговора оказалось, что у горцев (надо полагать, что и всех мусульман) есть и легкие дни. Их два: среда и четверг. Среда пользуется такою привилегию, что если мусульманин будет брить голову сорок сред сряду, – то из него непременно выйдет человек ученый, который со временем поглотит всю книжную мудрость. Из числа членов семейства Шамиля, только один Гази-Магомет исполнил это в точности, и на этом основании пользуется репутациею ученого человека. Впрочем, он действительно обладает большим запасом знаний. Что касается четверга, то этот день считается самым легким и удобным для начала всякого рода сложных предприятий, и Шамиль всегда вступал в поход против нас не иначе, как в четверг.
5-го мая, когда, по последнему назначению Гази-Магомет должен был выехать, приходится в четверг, но и четвертым числом была среда, которая, кроме своей «легкости», есть день весьма знаменательный для мусульман вообще, а для Гази-Магомета в особенности. Я отметил это Шамилю, и спросил, не потому ли он назначил для отъезда четверг, что этот день, быть может, в особенности благоприятствует путешествующим? Шамиль отвечал, что и среда очень хорошее для этого время, но что именно нынешняя среда, 4-го мая по нашему стилю, считается у них самым тяжелым днем в целом году, потому, что в этот день случилось ужасное событие, явившее собою весь гнев Бога на преступных людей. Вслед за тем, исполняя мою просьбу, Шамиль рассказал мне легенду, про которую, по его словам, он совсем было позабыл, но к счастью, просматривая вчера свои книги, снова напал на нее. Сущность легенды заключается в следующем.
Во времена давно минувшие, «еще задолго до Евреев», в Арабистане, лежащем по близости Египта, проживал пророк Самуд, посланный Богом для удержания жителей этой страны от греха, в котором они постоянно пребывали. Исполняя свое назначение, пророк Самуд проповедовал людям заповеди Божие и учил их жить таким образом, чтобы угождать Богу. Не взирая однако на всегдашние напоминания и поучения, жители Арабистана не только не оставляли преступного своего поведения, но укрепляясь в грехе, побуждали посланника Божия на проповеди более суровые, обратившись под конец в угрозы и обещания вызвать на преступников возмездие свыше. Но вместо покаяния и исправления, жители Арабистана совсем оставили Бога и до того предались разврату, что привели пророка в ужас и негодование и он, убедившись в бесполезности своих увещаний и необходимости наказания преступных людей, – начал молить Бога о ниспослании на них кары. Тогда Бог приказал подняться такой сильной буре, что действие ее были раскрыты все дома и подняты на воздух бывшие там люди. Порывистые вихри долгое время носили преступников по всей стране, и не затрудняясь встречными препятствиями, продевали их сквозь всякие отверстия в домах и деревнях также свободно, как нитка продевается сквозь ушко иглы. Гнев Божий окончился только с истреблением всех людей и всего, что было ими создано.
Рассказ этот сопровождался большим одушевлением, заметным как в словах, так и в жестах Шамиля. Он закончил его вопросом: можно ли, после этого, решится начать в столь несчастный день такое далекое путешествие, какое предстоит Гази-Магомету и о которое к тому же имеет в своем основании весьма неблагоприятное для него условие, именно: самую тяжелую неизвестность.
Не надеясь опровергнуть такого довода, я вполне согласился с Шамилем, чем по-видимому доставил ему большое удовольствие.
8-го мая. Сегодня, прогуливаясь с Шамилем в саду, я, между прочим, заметил, что теперь в нашем доме сделалось как-будто пусто и что это конечно произошло вследствие отъезда многих хороших людей. Шамиль улыбнулся, и очень спокойно ответил:
А хоть бы они все уехали. Для меня это решительно все равно: если будут со мною жены и мои книги, то, как бы пустынно не было то место, где я буду жить, – оно для меня никогда не будет пусто.
Стр. 1432 …Затем он завел разговор о Гази-Магомете и выразил при этом опасение на счет увлечений, к которым оп по молодости лет способен, и которые могут подвинуть его на какой-нибудь необдуманный поступок.
Такого рода опасение уже было высказано Шамилем однажды зимою, во время поездки Гази-Магомета в Темир-Хан-Шуру. Но тогда он опасался необдуманного поступка со стороны Гази-Магомета в случае невыдачи Даниель-Султаном дочери, теперь же оно возбуждено совсем другим предметом.
Подобно тому, как сам Шамиль, лишившись власти, значения и всего состояния, жалеет искренно только о потере своих книг, сыновья его тоже ни о чем больше не скорбят, как о потере своего оружия, между которым были, например, шашки, стоившие по их словам более 1,000 р.с. каждая, и при том не за дорогие украшения, а единственно за доброту стали и за древность своего происхождения. В бытность свою в минувшем году в Темир-Хан-Шуре, Магомет-Шеффи и наперсник его, мюрид Джемаль-Эддин, имели случай собрать сведения о месте нахождения оружия, а также и фамильных драгоценностей. По этим сведениям, оружие и большая часть дорогих вещей и денег находится у Даниэль-Султана, а все остальное у Кибит-Магома. Сколько мог я заключить из происходивших в моем присутствии разговоров на Кумыкском языке, а также из слов, сказанных собственно мне, братья также мало думают о потерянном богатстве, как и отец их, но что касается оружия, то они совсем были бы не прочь возвратить хоть часть его. Мне неизвестно, какие меры думают они для этого принять; но судя по выраженному Шамилем опасению, можно заключить, что они, говоря с ним об этом предмете, что-нибудь да имели в виду; и Шамиль употреблял все свое влияние для уничтожения в них такого рода помыслов. Вот что говорил он мне об этом:
– Я очень опасаюсь, что Гази-Магомет, приехавши в Темир-Хан-Шуру, будет искать случая возвратить оружие, принадлежащее ему и его брату. Прощаясь с ним, я много говорил ему и о ненадобности теперь для нас оружия и о дурном мнении, которое получит о нас Русское начальство, если мы станем добиваться того, что по праву войны нам уж не принадлежит. Я уверен, что по первому моему слову, Гази-Магомет ляжет на костер также охотно, как сделал это Исхак по слову Ибрагима; но я боюсь, что хорошее оружие составляет для Гази-Магомета, также как и для всех горцев, такой соблазнительный предмет, что если бы на месте моего сына был сам Исхак, то и он мне кажется не послушался бы своего отца. Впрочем, прибавил Шамиль в заключение: если Богу угодно, так этого не случится.
Заговорив через несколько времени о том же предмете с Магометом-Шеффи, – я услышал от него односложную фразу, которую слышал от Шамиля: «нам теперь оружие не нужно».
14-го мая. Мусульманские дети начинают молиться и исполнять все религиозные обязанности: мальчики с семи лет, девочки с девяти. Первым до десяти лет, а последним до одиннадцати лет, молитва не обязательна: она составляет Суинат; это время они могут молиться и изучать требования религии по произволу, и за уклонения и неуспехи взыскания не полагается; только их родителям или воспитателям вменяется в непременную обязанность наставлять детей в Законе Божием со всевозможным усердием. В последствие же, когда «Суннат» обращается в Фарыз, именно: для мальчиков от 13-15-ти лет и для девочек от 13-ти лет, их подвергают за проступки этого рода исправительным наказанием. С этого последнего возраста, т.е. для мальчиков с 15-ти, а девочек с 13-ти лет, дети обоих полов, превращаясь в молодых людей, способных к семейной жизни, – становятся настоящими мусульманами: требования религии делаются для них полным «Фарызом», и они исполняют их наравне со взрослыми, подвергаясь за уклонения и упущения совершенно одинаковой ответственности.
Кроме «Сунната», о котором упомянуто выше, религия предлагает «Суннат» и детям малолетним: они могут молиться и ранее 7-ми лет; но тогда молитвы их, принятые Богом, принесут великую пользу не для них самих, а для их родителей, грехи которых этим способом много будут облегчены.
При таких условиях, дети мусульман приготовляются к будущему своему званию, можно сказать, с колыбели, потому, что их и укачивают, напевая «ля илли-га, илль алла-гу», и забавляют их этою же песнею и всякое к ним обращение начинают этим же стихом; так, что в 7 лет, дети горцев (преимущественно мальчики) по большей части знают все религиозные обряды почти в совершенстве и даже выучивают со слов родителей несколько молитв. С этого же возраста их начинают учить и грамоте (девочек учат только чтению).
Предписываемое «Суннатом» бритье головы начинается у мальчиков с сорокового дня по рождении. Для девочек этого постановления нет; но некоторые родители бреют им головы по собственному произволу, с единственною целью – избавиться от необходимости ежедневно приводить в порядок волосы их. Этот способ облегчения родительских забот прекращается с семи летнего возраста, когда девочка считается способною ухаживать за собою лично.
Бритье прочих частей тела, оскверненных нечистым прикосновением первых человеков, – начинается у молодых людей обоих палов со времени, когда волоса показываются. Волосы, растущие под мышками, не бреются, а вырываются особыми щипчиками.
20-го мая. У младшей замужней дочери Шамиля, Фатимат, открылась нервная горячка – от простуды, по словам доктора, а, по словам Магомета-Шеффи от радости, что муж ее Абдуррахман уехал и по ее мнению больше не возвратится. Перед отъездом, он заколотил наглухо единственное окошко в ее комнате, отчего воздух в ней до того сделался тяжелым, что вынудил доктора требовать освобождения ее, или перемещения больной в другую комнату. Считая неуместным изменять в жизни женщины то, что установлено ее мужем, Шамиль приказал перенести Фатимат в свое отделение наверх, а окно оставил, по-прежнему заколоченным.
Болезнь Фатимат опасна; но доктор рассчитывает на ее крепкую натуру, которая впрочем, по словам его, уже испорчена отчасти Абдуррахманом.
22-го мая. Шамиль разрешил своим женщинам исполнять, во время болезни, требования доктора относительно испытания пульса и языка, чего до сих пор невозможно было от них добиться. Теперь же, хотя они и исполняют это, но совсем неохотно, и притом не из жеманства, или желания пощеголять своею скромностью, а единственно по привычке к своему затворничеству. Доказательством этого служит решительное нежелание их воспользоваться другою привилегиею: гулять в саду во всякое время дня; и они гуляют только ночью с десяти часов. Шамиль говорит, что если б он позволил им выезжать в гости, или просто для прогулки, – то они отказались бы еще положительнее.
Мелкие подробности обыденной их жизни вполне удостоверяют справедливость его слов.
Стр. 1433 …23-го мая. У жены Магомета-Шеффи, Аминат, обнаружилась болезнь «тоска по родне». Из всех женщин, принадлежащих к семейству Шамиля, Аминат имеет к ней наклонность более, нежели кто-нибудь. Причина этого, по объяснению Шамиля, заключается в следующем:
Настоящею родиною горцев следует считать не то место, где они родились, а то, где основали свою семейную жизнь.
Подтверждением этого служит коротенький разговор, играющий в горах роль пословицы.
– Из каких ты лесов? Спрашивает один горец у другого.
– Не знаю; я еще не женат.
Это свидетельствует о склонности горцев к оседлой жизни. В женщинах же, симпатия к тем местам, где они родились и где живут их родственники, обаяние, производимое на женщину воздухом гор, – чрезвычайно усиливается исключением ее из общества. При этом последнем условии, единственное развлечение, допускаемое в ее затворнической жизни, составляет беседа с родными, которых она имеет право посещать в известные дни, а кроме того, ежедневно встречается с ними у реки, или во время других занятий.
Здесь, в Калуге, горские женщины лишены и этого удовольствия; и хотя положение их, по-видимому, одинаково для всех, – но, в сущности, между Аминат и остальными женщинами существует огромная разница, потому, что у некоторых из них есть дети, другие же живут в своем собственном семействе, и, стало быть, счастливы вполне, за исключением сознания, что они дышат не родным воздухом, который, впрочем, в Калуге почти такой же, каким дышали они в Дарго. Что касается Аминат, то она кроме мужа не имеет здесь никого из близких к себе людей; по приятному же обычаю, он видится с нею только ночью, и очень редко днем. Все служит для нее крайним стеснением, вследствие чего она, несравненно более других, сделалась способною к восприятию болезни, которую можно назвать вторую чахоткою. Бедная молодая женщина заметно худеет и, как говорится, с каждым днем тает как свечка.
Разговаривая вчера о ней с Магомет-Шеффи, я, между прочим, заметил, что для нее, кажется, необходим Дагестанский воздух, который, по моему мнению, скорее всего, восстановил бы ее здоровье.
– Нет, возразил Магомет-Шеффи: ей не нужно ни гор, ни воздуха, в Калуге он такой же, как и у нас; а вот, если бы увидела она отца, или мать, или брата своего Измаила, – она тотчас бы выздоровела.
Соображая эти слова с рассказами Шамиля, нельзя не признать основательности мнения Магомета-Шеффи.
27-го мая. Вчера Шамиль ездил в сопровождении оставшихся при нем горцев на писчебумажную фабрику Говарда. Дорогою, он дал мне объяснение на два предмета, о которых я имел до сих пор ошибочное понятие, разделяемое впрочем, весьма многими.
Во-первых, мне казалось, что тюрбан, составляющий головной убор Шамиля, – есть знак Имамского достоинства. Но он объяснил, что такой тюрбан обязаны носить все добрые мусульмане, ревностно исполняющие предписания Сунната. А так как устройство тюрбана требует некоторых издержек, не всегда возможных для большинства мусульман, особенно Кавказских; да к тому же необходимо некоторое искусство в обращении с материею, составляющею чалму, и кроме того тяжеловесность этого убора делает его весьма неудобным для людей, занятых постоянно войною, или тяжелыми работами, – то вместо тюрбана дозволяется оборачивать вокруг шапки кусок какой бы то не было материи. В горах, тюрбан носили постоянно и охотно только Шамиль, Даниэль-Султан, Кибит-Магома и еще очень немногие горцы, «ревностные исполнители предписаний Сунната». Кроме того, употребление тюрбана Шамиль сделал обязательным для всех мужчин своего семейства; но все они, не исключая и Гази-Магомета, исполняли эту обязанность очень неохотно, особенно Магомет-Шаффи, тут же признавшийся, что он надевал тюрбан только раз десять, во время церемониального шествия в мечеть. На это призвание, Шамиль заметил, что теперь мусульмане вообще сделались какими-то неверующими; но что полнокровие Магомета-Шеффи может послужить в этом случае достаточным извинением, так как об этом упомянуто и в книгах.
В то же время, Шамиль рассказал мне, что вводя в немирном крае низам, «порядок», «благоустройство», он сделал, между прочим, чалму наружным знаком отличия между разными званиями и должностями, которые, по большей части, им же и учреждены. Отличие это заключалось в цвете чалмы. Таким образом, кадиям, муллам и вообще ученым людям, «алимам», присвоен был зеленый цвет; хаджиям, т. е. Мекским пилигримам – гранатовый; наибам – желтый; пятисотенным и сотенным – пестрый; десятникам – красный. Сам Шамиль, вместе с остальным населением, носил белую чалму.
Другой предмет, послуживший только для нашей дорожной беседы, была особенность, замеченная мною в обыденной жизни Шамиля, и тоже известная многим. Шамиль всегда обедает один, точно также, как делал он это в горах, бывши Имамом. Жены иногда только прислуживают ему, стараясь при этом угодить каким-нибудь особенным кушаньем, приготовленным собственноручно и известным как в своем составе, так и в способе приготовления лишь каждой из них порознь. Отчуждение мусульманской женщины от общества мужчины, даже в домашней жизни, – составляет требование религии, лишившей женщину принадлежащего ей в обществе места единственно за проступок Евы. Поэтому не удивительно, что Шамиль, как самый ревностный в целом мире исполнитель предписаний своей религии, заставил своих жен соблюдать в отношении себя этикет даже в тесном кругу домашней жизни, несмотря на то, что одну из них по-видимому он любит сердечно, а другая имеет на него самого очень сильное влияние. Скука же, на которую он осудил себя, обедая один, породила во мне тем больше недоумения, что Шамиль, во-первых, человек чрезвычайно общительного характера, особенно там, где он видит себя «в своем» обществе; а во-вторых, большую часть минувшего поста он обедал в сообществе Гази-Магомета, тогда как прежде никогда этого не делал ни в Калуге, ни в Дарго, за исключением первого дня Байрама, в который он, хотя и присутствовал (в Дарго) за общей трапезой, – но, как недавно мне объяснено, ничего при этом не ел и выходил из столовой комнаты почти в самом начале беда.
Соображая эти подробности, я приходил к тому заключению, что обычай обедать в одиночку Шамиль усвоил себе не столько из пристрастия к отшельничеству, сколько из очень понятного желания – оградить неприкосновенность высокого своего сана от случайностей застольной беседы. Вероятность этого мнения подтверждалась еще и тем обстоятельством, что ближайшие к Шамилю люди: Даниель-Султан и Кибит-Магома допускались к его столу в чрезвычайно редких случаях.
Сделанное теперь Шамилем объяснение открыло, что дело было гораздо проще того, каким оно казалось.
Прежде, когда он жил еще в старом Дарго, он всегда с кем-нибудь обедал, если были приезжие гости наибы или другие, то с ними; а нет, так с почетными людьми, которые жили в Дарго постоянно. Но через несколько времени жены его заметили, что присутствие его за столом как будто стесняет гостей, которые поэтому почти совсем не дотрагиваются до пищи. Когда дошло это до Шамиля, он решил обедать один, чтобы гостей своих не стеснять.
Стр. 1434 …Выслушав это, я заметил, что Гази-Магомет и Магомет-Шеффи, быть может, не стеснялись бы за обедом его присутствием: а между тем, удостоив их своим обществом, он доставил бы себе некоторое разнообразие, а им несомненную пользу.
Шамиль сделал отрицательный жест, и потом сказал: «какое общество они могут составить для меня! Они еще мальчики!»
Сколько мне кажется, это не так: Магомет-Шеффи он еще имеет причину считать мальчиком, не столько, впрочем, за его молодость, или неразвитость, сколько за игривость характера, большую симпатию к Русским, стремление к познанию неизвестных ему новых истин, и не слишком твердое верование в старые, которые, вместе с «Имамскими» книгами, нередко соблазняют его острый ум и вызывают с его стороны нередко едкие сарказмы. Наконец, Магомет-Шеффи, в мнении Шамиля, есть слишком понятливый ученик брата своего Джемаль-Эддина, каким он действительно и выглядывает, а это составляет важную причину для того, чтобы Шамиль считал бы его мальчиком и тогда когда ему будет даже шестьдесят лет. Что же касается Гази-Магомета, то судя по всему, чему я был свидетелем в продолжение 5-ти месяцев и в чем принимал более или менее деятельное участие, – то мне кажется, никто другой не может составить для Шамиля более приличного и более приятного общества, хотя он молод и в глубине его сердца весьма живо сохраняются впечатления, зарожденные рассказами Джемаль-Эддина о России и о порядке вещей, не имеющем ничего общего с тем, который окружал их в Дагестане.
По этому самому, отзыв Шамиля о его сыновьях и устранение их от частого сообщества с собою, —
должны, по крайнему моему разумению, заключать в себе какое-нибудь другое побуждение, кроме описанных выше.