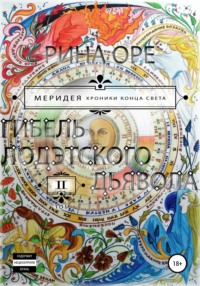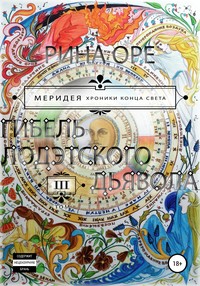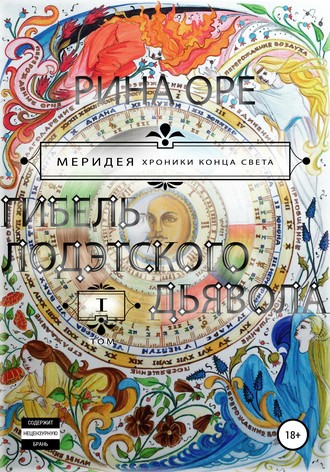 полная версия
полная версияГибель Лодэтского Дьявола. Первый том
Ранний обед проходил без досадных происшествий и казался вполне «культурановым». Убедившись, что Гиор Себесро ничуть не увлечен Маргаритой, Клементина Ботно впала в благое расположение духа (этот богатый торговец не уделил даже полвзгляда красавице в переднике, и тетка хвалила себя за придумку с уродливым чепчиком). Что до самой Маргариты, то она успешно справлялась с прислужничеством: ей нужно было забирать использованные квадратные тарелки и ставить чистые, разрезать на большом блюде свиное жаркое и раздавать желаемые куски гостям, а если просили что-то, чего не было на столе, приносить это из кухни и делать поклон. Девушке такой труд казался игрой: она чувствовала себя одной из тех важных прислужниц, которые угождали знати. Вино разливал дядя Жоль, за что Маргарита его про себя горячо благодарила: тетка наверняка бы исполнила угрозу и растерзала ее за порчу вышитой скатерти, покрывавшей до этого дня ореховый стол только по Возрождениям. Правда, вино гости едва пили, хотя бочонок санделианского красного разорил Оливи аж на пятьсот регнов. Дамы Себесро едва пригубили бокалы. Гиор, вообще, пил воду, объяснив, что позволяет себе вино исключительно по благодареньям. Из-за такой привычки он стал немного нравиться Маргарите. Дядя Жоль тоже почти не выпивал, боясь чего-нибудь натворить, тетка Клементина растягивала свой бокальчик, зато Оливи опустошил целый кувшин. Он не казался пьяным, лишь немного расслабленным, – на его губах лежала легкая, сытая улыбка.
Залия сидела за столом с каменным лицом и пустым взглядом. Когда ее отвлекала мать, она моргала, пыталась следить за беседой – потом всё повторялось. Маргарита посматривала на нее с любопытством и сочувствием: Экклесия таких людей называла вольнодушными, то есть не получившими с Небес душу, а с ней и человеческого разума.
Душу Экклесия определяла как загадочною сущность, благодаря которой человек имел совесть, умение отличать добро от зла и желание хоть немного, да страдать, вопреки здравому смыслу, – словом, душа давала всё то, чего не было у более счастливых животных, обладающих одной плотью. Плоть дарил Бог, точнее, Создатель даровал жизни, чудо живой плоти, и она была у всех земных тварей – и у льва, и у жука, и у человека. Луна наделяла только человеческую плоть крестом Пороков и Добродетелей, а уже примерно в трехлетнем возрасте в окрепшую плоть попадала, как зернышко в землю, душа. Она проливалась сама по себе с облаков или же осознанно возвращалась из Элизия. Душа росла в плоти, словно дерево, цвела и плодоносила в возрастах Благодарения, затем увядала, возвращаясь в слабое состояние, какой попала в плоть. В скорби по преждевременно усопшему меридианцы утешались тем, что душа погибшего в зрелом возрасте человека ушла сильной: и в следующем перерождении она явит свои неутраченные навыки – покажет какой-нибудь талант. Самоубийство приравнивалось к Унынию. За такой страшный проступок Дьявол сурово карал самоубийцу на том свете, Экклесия и власти наказывали его останки и семью, так что нарочно люди не погибали, надеясь на более удачное перерождение.
Вольнодушные люди не имели Добродетелей и Пороков, не приобщались и не посещали храмов, и всё же их единили с Богом, чтобы обуздать животную силу плоти. Чаще всего душа преждевременно расставалась с телом старцев, но изредка случалось так, что и в теле младенца никогда не возрождалась душа. Тем не менее даже плоть без души, единенная с Богом, заслуживала могилу с крестом. Экклесия предписывала родне заботиться о слабых разумением созданиях, старых или молодых, проявлять уважение к человеческой плоти и капельке божьей крови в них. Слабоумных священники называли Божьими любимчиками, чистыми от грехов и избавленными от борьбы с Пороками, позволяли им венчаться, чтобы продолжить род, их мертвые тела на всякий случай предавали огню наравне со всеми покойниками, но женихи издревле боялись подобных невест из-за подозрения в родовом проклятии, что еще не раз проявится вольнодушием у потомков.
Маргариту Залия тоже немного пугала, хотя та не делала ничего дурного. Она казалась погрузившейся в себя и умиротворенной. Кроме этого отрешения, Залия более ничем не отличалась от других людей за столом: она ела приборами, только крайне мало, сама вытирала рот и руки салфеткой (если мать просила ее так сделать) и не трогала своих одежд, пытаясь избавиться от неудобства. Из невольно услышанных бесед Маргарита узнала, что Залия очень любит детей, радостно смеется в их обществе и желает иметь своего малыша.
Больше всех за обедом говорили тетка Клементина и Гиор Себесро. Иногда вставляла слово Деора. Дядя Жоль из опасения разозлить супругу помалкивал и лишь отвечал, когда его спрашивали. Оливи пил. Так, перед десертом из марципановых конфет, от пересказов новостей и обсуждения погоды, беседа плавно перетекла к вопросу помолвки.
– Господин Оливи Ботно прекрасный молодой человек… Культурен, образован, почтителен к моей сестрице… Пожалуй, лучшего супруга Залии и не надо, – говорил Гиор, а тетка Клементина широко улыбалась. – Но… – строгим тоном продолжил Гиор, – я не понимаю ваших намерений на будущее, господин Ботно. Вам уже двадцать, должности вы не имеете… На что вы собираетесь содержать семью?
– О, не стоит беспокоиться, – мягко отвечал жених. – Я разузнал, что городу не помешает еще один нотариус.
– Нотарюс! – резко рассмеялась Залия, из-за чего Маргарита громыхнула тарелкой об стол. Никто этого не заметил, кроме тетки Клементины, побледневшей от уверенности, что ее бедовая племянница в конечном счете расколотит новую глиняную посуду.
– Милая, – взяла дочь за руку Деора, – попей воды.
– Нотарюс, – улыбаясь, повторила Залия и стала пить, пока мать не отобрала у нее бокал и не начала что-то тихо и ласково ей говорить. Маргарите вдруг стало жалко своего сужэна, который погрустнел и уже не улыбался.
– Ну вот, – продолжил Оливи, – я собираюсь им стать. На весь Элладанн их всего четверо, и очереди к ним выстраиваются с рассвета. Дохода у них, по самым скромным подсчетам, не меньше сорока золотых в год. Мне лишь нужно заплатить управе пять альдрианов и щедро умаслить кого-нибудь близкого к градоначальнику, чтобы получить дозволение на дело. Первое время буду работать один, найму лишь писаря… нотария, – прошептал он и беспокойно посмотрел на Залию, но она молчала.
Оливи расслабился и продолжил:
– Место я присмотрел: напротив самого большого северо-западного рынка. Думаю, торговцы станут моими… кли-ен-тами, – осторожно произнес он. – Времени у них между торговлей всего ничего, многие прибывают из других мест и не знают наших законов, едва могут читать, не то что писать по-меридиански или верно составить грамоты, указав века и високосные годы. Мои услуги нужны всем, кто имеет хоть что-то, даже свободным землеробам, – это я хорошо усвоил, трудясь в Бренноданне. На вывеске так и напишу: Нотариус, – заговорщически прошептал он и продолжил громче, – из Бренноданна.
– Да, звучит недурно, – согласился Гиор, принимая из рук Маргариты чарку с конфетами. – Кроме Бренноданна. После того как наша столица столь трусливо сдалась врагам, ее жители достойны презрения, и только. Советую подумать над названием: «Рожденный в Элладанне» звучит куда как более гордо… Но в остальном я доволен. Я даже помогу вам получить грамоту на дело, господин Ботно. Градоначальник, как вы знаете, мой постоянный заказчик. Думаю, я смогу его, хм… убедить и выхлопотать для вас дозволение. Тогда давайте поговорим о праздновании. Сейчас, в столь непростое время, не стоит бросаться деньгами и шумно отмечать венчание: предлагаю обойтись скромной свадьбой в семейном кругу без друзей или соседей. Траты на приглашенного повара – это около золотой монеты, всё прочее обойдется во столько же. Расходы поделим поровну. Думаю, наш дом более подойдет для торжественного застолья, – глянул Гиор на угловой буфет. – Да, еще… Скажу сразу: я настаиваю, чтобы первое время вы жили у нас. Сестрице нельзя резких перемен. И забота матушки для нее важна.
– Да, конечно, я со всем согласен, господин Себесро, – ответил Оливи, понимая, что с этой минуты он уже может считать себя богатым нотариусом, вот только радости не почувствовал. Уныло посмотрев на свою невесту, Оливи извинился перед гостями за то, что вынужден ненадолго удалиться.
После уборной он решил заглянуть в кухню и прошел туда из коридора. Дверь в обеденную оказалась плотно закрытой, а Маргарита, находясь у длинного стола, спиной к нему и лицом к стене, полоскала посуду в деревянной лоханке, после чего вытирала ее полотенцем. Молодой мужчина в нерешительности постоял, косясь на лоханку, но затем подкрался, обнял девушку одной рукой и зажал ей рот другой. Маргарита вскрикнула почти бесшумно.
– Тише, тише, дикарка, – прошептал ей на ухо Оливи. – Что же ты такая недотрога? Я сейчас тебя отпущу. Давно хочу тебе кое-что сказать и хочу, чтобы ты меня выслушала, а не убегала. Хорошо?
Маргарита кивнула и, только он перестал ее держать, сразу отскочила от сужэна. Оливи, усмехаясь, помотал головой, снял свою шляпу и бережно опустил ее на сухой край стола.
– Вот что, – негромко, почти шепотом, говорил он. – Ты сама всё видела: я женюсь на некрасивой слабоумице. Она вроде вовсе не буйная… Как жена с приданым в двадцать золотых – она годна. Но мне нужна возлюбленная… красивая содержанка, с которой я, как наладятся дела, буду выходить в люди. И тебе повезло, сужэнна. Я решил, что она – это будешь ты.
– Оливи, прошу, смолкни, – раздраженно зашептала Маргарита. – И уходи немедля. Ты чё удумал? Мы ж родня!
– Нет, тебя мать родила неизвестно от кого.
– Оливи! Это сплетни и неправда, – так мне дядя, твой батюшка, сказал! Я никакая не преступнорожденная!
– Не об этом речь. Неважно, забудь… Пусть мы двоюродные, всё равно нас обвенчают, если мы захотим. А раз так, то можно и лечь вместе.
– Молчи же, ради Бога, – шепотом взмолилась девушка. – Я не хочу. Не хочу!
– Грити, – стал приближаться к ней Оливи с того угла, где за его спиной оставалась спасительная глубина кухни с дверью в лавку, а оттуда на улицу. – Ну зачем тебе быть бедной, дурочка? Целый день стираешь, готовишь, моешь. Руки на черт-те что похожи. Я тебя в шелка одену, дом сниму, прислужницу найму. Ничего делать не придется, – наступал он, а Маргарита пятилась. – Будешь кушать как дама, спать как дама. Только со мной…
Маргарита бросилась в коридор, но он ее там догнал и прижал к стенке.
– Да подумай же головой, дуреха… Ну что тебя ждет? Выйдешь замуж за какого-нибудь нищеброда – за такого, как тот кузнец… И ему прислуживать будешь, как сейчас…
– Уйди! – пыталась освободиться девушка. – Пусти меня! Говорю, что не хочу!
Но Оливи крепко держал ее за запястья той же стальной хваткой, как у его матери. Он пытался ее поцеловать – она, избегая губ Оливи, отворачивала лицо и елозила головой по стене, из-за чего ее чепец неряшливо сполз набок.
– Да уйдиии же, – чуть не плача, простонала она. – Я закричу…
– Нет, не закричишь, – тяжело дышал Оливи. – Давно б закричала, да мою мать боишься.
Он плотно прижал ее своим телом к стене, и ему почти удалось ее поцеловать, как в коридоре показался Гиор, шедший к уборной. Он громко хмыкнул, отчего девушка сразу оказалась свободной, после пристально вгляделся в нее, следом в Оливи – и резко вышел из коридора, направляясь через гостиную в обеденную. Оливи грустно посмотрел на Маргариту.
– Ну вот что ты наделала? Надо было шуметь? Дуреха! – заключил он и тоже ушел, но вверх по лестнице, в свою спальню.
Маргарита, оставшись одна, не знала, что делать. Она поправила на голове чепец и тихо подступила к гостиной. Скоро ей стало понятно, что Себесро покидают дом без объяснений и навсегда. Девушка обхватила щеки руками, моля Небеса и Бога на них, чтобы тетка не прознала о причине расстройства помолвки. Пока одни уезжали, а другие старались их отговорить, она успела убежать в свою комнатку за лестницей и запереться там.
Небеса и Бог за что-то не любили Маргариту или же они ее испытывали: когда тетка Клементина вошла в кухню и увидела там шляпу сына, она всё сразу поняла. И, конечно, ринулась к спальне племянницы, стала орать и пытаться вломиться туда. Дверь едва не слетала с петель от рывков тонких, но сильных рук тетки. Еще Маргарита слышала голос дядюшки Жоля, безрезультатно пытавшегося урезонить разъяренную супругу. Потом голос дяди исчез. Через пару минут за дверью что-то негромко заговорил Оливи, которого привел дядя Жоль. Далее раздался плач Клементины Ботно, затем все голоса удалились.
Несчастная Маргарита сидела на кровати, в кромешной тьме, вжавшись в угол. Если бы в комнатке были окна, то от страха она убежала бы навсегда. Даже бродяжничество стало пугать ее меньше, чем расправа тетки. Девушка плакала и проклинала свою горемычную планиду.
Минут через восемнадцать из-за двери раздался голос дяди Жоля:
– Вот чего, дочка, поеду я к Себесро и постараюся всё сладить, – тяжело вздохнул он. – Верно, что заперлася. Сиди так всё ж таки до моего возврату, а то Клементина тебя взаправду изувечит. Ну… кх… мх… я пошел, – покряхтел он. – Ты-то как тама? Живая хоть? Отзовись.
– Возвращайся побыстрее, – взмолилась подошедшая к двери Маргарита. – Мне страаашно…
– Страаашно, – передразнил ее дядя Жоль. – Конечно, страшно. И верное, что страшно. Я такой Клементину отродясь не видал, хоть казалось, всякое уж былось. Мне тож страшно. Навытворяли вы с Оливи делов…
– Я не виновааатая… – простонала Маргарита.
– Может и невиноватая, но, – тяжело вздохнул он. – Так-то оно так… но вот только отчего ж с тобою… и впрямь стоко бедствий?
________________
Через час добряк дядя Жоль скандалил с боевой прислужницей, не желавшей впускать его в дом Себесро. В конце концов он попытался силой зайти внутрь, но не менее широкая, чем он, прислужница сама выпихнула его с крыльца и захлопнула дверь. Если бы это сделал мужчина, то Жоль Ботно бы плюнул, сел на телегу и гордо отправился домой, но, вспомнив недавние унизительные шлепки от своей супруги, пришел в такой гнев, что даже его колпак съехал со лба к затылку – и показался нелепо торчащий, будто тоже возмущенный распустившимся поведением женщин клок волос. Жоль Ботно принялся кричать под большим окном дома Гиора на всю оживленную и шумную Восточную дорогу, одну из трех главных улиц Элладанна:
– Гиор Себесро, поди сюдова! Будься мужчиной и не кройся за дурной бабой, что тебе служивает! Нельзя без разъяснениёв покинуть дом, где тебя обедували! Я так и буду тута орать! Не уйду, покудова с тобой всё не поясняю!
На забавного толстяка оглядывались с повозок. Торговки цветами и сластями толкали друг друга локтями, показывая на него пальцем. Прохаживавшиеся по широкой мостовой модники прыскали смешком, а их яркие спутницы улыбались. Звездочка и та отворачивала голову, будто испытывала за хозяина стыд. Но Жоль Ботно никуда не уходил, продолжая звать Гиора и угрожая, что будет так орать хоть до следующей медианы.
Шумная настойчивость Жоля Ботно возымела успех – спустя триаду часа он оказался в кабинете суконщика. Гиор Себесро усадил своего возможного отца по мужу сестры на скамью, а сам принялся ходить по комнате.
– Да не маячь ты, Гиор, – сказал дядя Жоль. – Я ж тебя еще малюткой помню. А ты? Как попал в беду, позабыл уж? Ты спал в моем дому, а я тебе сказки сказывал. Помяташь про сбежавший блинчак и как ты рёвом от этой сказки восплакал, а я тебя утешал?.. Охолодись давай… и прямо поговорим. Не делай Конца Свету из того, что былось, всё ж таки час Кротости еще не истек.
Гиор остановился. От гнева его острые скулы едва не прорезали кожу.
– М-моя сестрица д-орога мне, – срывающимся голосом выговорил он. – Нам не нужен ох… хотник за приданым.
– Да чего ты! Наверное, хотишь выдать сестру по любви? Кто не хотит? Да вот вряд ли таковский жених сыщется, сам знаешь, – увещевал суконщика дядя Жоль. – Оливи, хоть и дурень, но не дурак. Он знает, как себя весть и блюдёт приличья. Вот всё, что нас всех устраивает, разве не так?
– Он обнимал и целовал другую в то же время, как в соседней зале, почти за стенкой, мы… Мы – дураки, обсуждали венчание! Для меня, Жоль Ботно, это неприлично! Если для твоей семьи такое – это прилично, тогда нам точно не по пути!
– Конечно, и нам всё это неприличивувставаёт, – заверил суконщика дядя Жоль, снимая колпак и промокая рукавом лоб. – Оливи… Он так кается…
Гиор хмыкнул.
– Кается, – повторил дядя Жоль. – Он не виноватый.
Затем дядя Жоль, обиженный на весь женский род, сказал то, чего не смог простить себе даже после покаяния и отпущения священником этого греха:
– Эт она всё. Девушка эта… кх… м-да… – замялся он, подбирая слова, и затеребил округлую бородку. – Вертигузка она как бы… Нууу мы следить за ей будём, ты не боись. Околь Оливи она уж не повертится! Забудь про ею.
– Да, как же… – недовольно проворчал Гиор, немного утихая. – Она красивая… Может, это Оливи к ней бегает, а не наоборот?
– Да нет же – это она ему пути никак не даст: всё трогает его и целуваться лезет, а Оливи просто устоять не могёт. Она всё ж таки красивая – ты сам сказал. Сегодня он выпил спустеньку… кхм… Дааа… многова выпил… Не будется больше́е такого: ни до венчанья, ни опосля.
– Вы ей уже отказали от места?
Дядя Жоль снова замялся и закряхтел.
– Виделишь ли… кхм… Гиор, не могём мы… кххх… Племянница м-да… она нам… ро́дная. Скоко бед уж нам учинила, ох!
Гиор Себесро сузил глаза.
– Пле-мян-ни-ца? – повторил он по слогам. – Ты что издеваешься, Жоль Ботно?
Дядя Жоль развел руками, а Гиор снова заходил по комнате.
– Гиор… – начал новую речь дядя Жоль.
– Молчи, я думаю! – грубо перебил его суконщик, совершенно позабыв об обходительности.
Он сделал еще несколько кругов по кабинету, потом подошел к шкафу, достал крепкую анисовую настойку на куренном вине, налил две неполные чарки и поставил их на столик перед скамьей. Сам сел рядом с дядей Жолем.
– Я решил. Если бы не моя несчастная сестрица, которая сейчас наверху рыдает, так как хочет замуж и хочет чадо, то мы бы сейчас не разговаривали. Ты прав: не надо себя обманывать, – твой сын женится на ее деньгах, как сделает это и другой. Но вряд ли у того другого будут такие же красивые сужэнны, какие будут свободно посещать дом моей сестрицы, угощаться с ней за одним столом и унижать ее одним своим присутствием в доме. Сужэнна – это не просто содержанка. Она не исчезнет, если с ней прекратят связь. Возможно, даже мстить начнет. Ботно, я хочу, чтобы ты избавился от нее – чем скорее, тем лучше.
– Чего значит «избавился»? – тихо и изумленно спросил дядя Жоль.
– Мне всё равно. Отдай ее в монастырь, раз она распутна, или выдай замуж – пусть супруг за ней следит. За кого-нибудь не из нашего окружения, чтобы Оливи и эта твоя племянница пересекались как можно реже. Идеально, если бы она уехала из города, и подальше.
– Ну я как-то даже не знаю…
– И это надо сделать быстро. К празднеству Перерождения Воды, к этому благодаренью, ее уже не должно быть рядом с женихом моей сестрицы, рядом с твоим сыном. Если ты согласен, то пожмем руки, заключим сделку и выпьем.
Жоль Ботно встал.
– Нет, Гиор. Так вот я не могусь. Мне на нее не плевать – родная как-никак. Я ее второй отец, а она мне дочка сердешная… Мне хоть раздумать это надобно…
– Думай, – встал со скамьи и Гиор. – Времени у тебя: до благодаренья. Если надумаешь – жду приглашение на венчание твоей племянницы. Своими глазами хочу видеть, что ты меня не обманываешь.
________________
Ночью дядя Жоль снова ругался – на этот раз с женой. Та была неузнаваема: с красными веками от бесконечных рыданий, с заострившимся лицом, но с опухшей «луковицей» носа, она в свои сорок лет походила на старуху.
– Вот чего, слушай меня, Жоль Ботно, – сказала тетка Клементина супругу. – Я ее долго терпела, хотя она нам небось даже не родня. Не зря мне дали имя, значающее «милостивая». Я прикинула тут, во сколько она нам обошлася за все эти лета. Сам почитай: десять золотых монет, перцу кулек, моя зеленая ваза, прочие ее бесконечные пакостя… Часы твои, к примеру… Горшков не упомнить скольких набила, кувшин глазурный из-за нее с трещиной по дну! Питанье, траты ей на башмаки всякий год, на одежды и белье… Так вот – я навскидку сосчитала еще три альдриана! Если мы потеряем приданое на двадцать золотых – это будет тридцать три! Столько же дают за голову самого Лодэтского Дьявола! Она – вот кто истинный Дьявол для нас, для Ботно! Не знаю, от кого ее путаница-мать пригрела, но ручаюсь – не меньше́е чем от черту! Я уже не будуся ее терпеть, хватит! Я на нее уж глянуть не могу! Я, клянуся, удавлю ее, коли ты дозволишь ей остаться и ныне – будь что будет! А если ты против, то лучше́е тоже поди, Жоль Ботно, с этой вертигузкой!
– Клементина, душа м…
– Я всё сказала! Монастырь, улица или венчанье! И раз ты на самом деле желаешь ей счастия, Жоль, то сыщи для её такового супруга, какового хуже́е на всём свету нету! Лишь самый лютый муж и никакой другой сделает довольной эту белую волчицу! Вот поглянешь еще, что я былась правая. Всё! Иль она подёт прочь, иль и ты поди, если потерял совестя, поди с этой зелёноглазьей дрянью! Предавай, давай, меня и сына! Забудь нас!
Она снова принялась рыдать, уткнувшись лицом в подушку. Жоль Ботно, глядя на ее вздрагивающую спину, сдался:
– Полное, Клементина, ну не плачь… не рви мне души. Спробую выдать ее замуж.
________________
Маргарита тоже заливалась слезами в своей комнатке. Синоли тайком принес ей обед, маленькую глиняную лампу и масло для нее, после чего сообщил, что он и Беати помолвлены, что скоро обвенчаются и даже устроят пиршество, ведь Нинно «наиотменнюще» заработал на новобранцах. Синоли, пребывая в счастье, несильно переживал за сестру, уверенный, что через несколько дней, как уже случалось не раз, Маргариту простят и тетка успокоится.
После ухода брата, Маргарита, радуясь за него и за Беати, в то же время стала острее чувствовать свое горе, несправедливость к ней звезд, одиночество и ненужность никому. Она так желала исчезнуть из этого дома, где, сколько бы она ни старалась сделать добро, выходило наоборот.
– Боженька, ну пожайлста, молю, исполни, чтоб я былась от тетки и Оливи даль-далёко, – просила она, засыпая. – Я уйду куда угодно и с кем угодно, клянусь. Пожайлста… Или пускай я сгибну. Попросту започиваю, как матушка, – и всё! – и она начинала горше плакать от жалости к себе.
Глава IV
Шутник, ангел и праведник
Место в гильдии давало горожанину уйму преимуществ. Через гильдию можно было получить крупный заказ, ссуду в банке, льготы, помощь братьев по ремеслу в случае болезни или иного несчастья; можно было найти щедрых заказчиков, сбыть залежавшийся товар, отлично праздновать в торжества, даже отправиться в странствие по монастырям, торговую поездку или путешествие. Городские стражники расследовали преступления в своем квартале, патриции защищали свою гильдию законами, внутренний суд гильдии без проволочек разбирал споры и ссоры, нарушения устава, плутовство, мелкие кражи и карал за бесстыдство. Самые богатые гильдии имели свои храмы, лекарей, красивые дома на Главной площади для проведения собраний, заключали союзы с другими городами по всей Мередее. Мастера могли выбрать старейшиной, а там и патрицием… Но главное: старейшины гильдии отвечали за сбор всех налогов со своих мастеров и их подмастерьев, они же давали отсрочки и послабления, определяли размер торгового сбора и поручались за доход горожанина. Скупой златокузнец Леуно платил управе столько же налогов, как дядюшка Жоль, торговец различным товаром, – сто двенадцать серебряных регнов в год. Мамаша Агна отдавала в городскую казну аж тысячу триста девяносто два регна за себя, а за своего сына-отрока – еще четыреста тридцать два регна. Коваль в среднем платил податей и сборов на две золотые монеты. Если мужчина не владел ремеслом, не состоял на службе, не имел явного источника доходов, то с него могли взять всего тридцать два регна, как с обездоленного, но могли стребовать и три золотые монеты, как с торговца рыбой.
Дело в том, что подоходного налога не существовало, ведь доход невозможно было проверить. Вместо этого власти придумали поимущественную подать, мерила какой были весьма сложны – кроме заявленного дохода учитывались предметы роскоши, наследство, животные, слуги, ученики, иждивенцы, их одеяния – если говорить грубо, то оценщик от управы глядел с улицы на дом, мастерскую и их обитателей (внутрь дома чужаков не впускали), после чего «на глазок» решал: честно ли горожанин заявил свой доход или обманул власти. Если обманул, то гильдию ждало разбирательство, крупное взыскание, кое-кого и казнь. А ведь помимо поимущественной подати глава семьи платил еще подушные подати за себя и за зависимых от него домочадцев, поземельную подать и подомную подать, различные сборы и пошлины. Заносишь лесную ягоду в город – плати и за ягоду и за вход, выносишь из города что-то ценное – опять плати. Время от времени поднимали цену на соль и на дрова, вводили временные сборы или устанавливали новые. Словом, так никаких заработков не хватит.