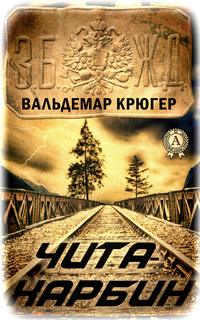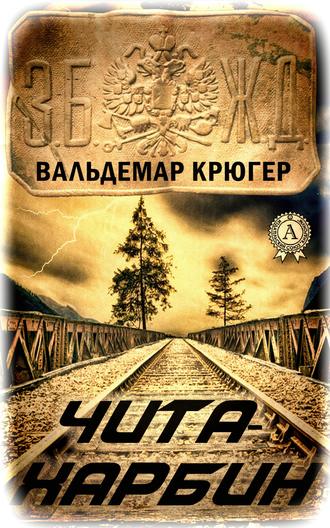
Полная версия
Чита – Харбин
Избоченясь в седле, безмерно гордясь оказанной ему ролью, Степа ехал на бегунце среди бывалых казаков кричавших не раз «Руби их в песи, круши в хузары!», обрушивая острые клинки на головы врагов Царя и Отечества. Густые травы доходили коням по брюхо, местами касаясь стремени. Воздух был напоен умопомрачительным ароматом множества ярких цветов; красных маков, синих и бордовых колокольчиков, желтых лилий, зовущихся грамофончиками, дикого клевера, и над всем этим бушующим разноцветьем порхают и кружатся бесчисленные мотыльки и бабочки, и неумолчный стрекот кузнечиков звенит в ушах чарующей мелодией лета, песнью нескончаемой жизни.
Поодаль, по широким зеленым еланям пестрят чуть заметные глазу полоски хлебов. К концу сенокоса обозначатся четко границы пашни, отделятся от леса наливающимся желтеющим колосом поля пшеницы и ярицы, зашумит, заволнуется темнеющими волнами забруневший[119] овес и от розовеющих нежным цветом гречишных полей нанесет на покосы ветерком запах меда.
– Копен тридцать с десятины смело будет, – осмелился сказать Степа, прикинув на глазок травостой.
– Через край хватил малый, – осадил его рябой писарь, недовольный присутствующим «посторонним». Проели мне всю плешь эти Нижегородцевы, особливо дед евоный, Марк, лавочник. Ух и жила!
Атаман глянул гневно на являвшегося аховым наездником писаришку, и не особо церемонясь рявкнул рассерженным гураном.
– Чево вертишься, как сыч на колу? Ты мне лайку не распускай! Пиши вон, и помалкивай!
Писарь заткнулся наказанной хозяином собачонкой, строча обслюнявленным карандашом в разлохмаченной тетрадке, затаив злобу. Ну погодите у меня, будет еще и на моей улице праздник.
В день выезда на покос, уже после первых петухов задымились в Могойтуе первые бани. Раноставы спешили провести обязательную процедуру помывки в бане и моления в горнице при горящих свечах. Всегда так было у православного люда, так должно и остаться. Весь поселок наполнился скрипом дверей, мычанием буренок, радостного говора людей. Севодни на покос!
Семья казака Сергея Нижегородцева не являлась исключением. Проводив коров в стадо, она в полном составе: отец, мать и пять сынов выехали на трех повозках на покос. Да, вы не ослышались, пять сынов. Три года тому назад, в 1913 подарила Анисья Сергею пятого сына, названного Петром. Уж так хотелось ей дочку, хватит уже мужиков, с Сергеем их пять, но на свет появился Петя. Сидят сыночки на телеге в рядок, словно славные грибочки, один одного ростом догоняет. Михаилу девятнадцать, Степе шестнадцать, Сергей Сергеевичу одиннадцать, тезке Пушкина шесть и Пете-петушку три. Вон сколько помощников у отца и матери.
На телегах находился сенокосный инвентарь: косы, деревянные и железные вилы, ручные грабли, оселки, козелок и молоточек для отбивания[120] литовок, запасные зубья к граблям. Кроме того, топоры и двуручная пила, потники и два старых полушубка, пайвы и чуманы[121] с собранной на покос едой, лагушок[122] для питьевой воды, таган, ложки-поварешки и другая хозяйственная мелочь, отсутствие которой обыкновенно замечают при прибытии на место, вспоминая невольно поговорку «мал золотник, да дорог».
С раннего утра потянулись из поселка многочисленные тарахтящие по ухабам подводы с людьми, инвентарем, провиантом. Словно пчелы из улья тянулись они, направляемые незримой рукой, к благоухающим цветами сенокосам. Кто-то ехал налегке, старясь попасть первым, другие, не торопясь, делая все солидно. К ним относились и Нижегородцевы. Покос от нас никуда не убежит, вон они стоят колышки, отметившие наш пай.
Приехав на место, взялись первым делом за обустройство стана. Сыны, впятех[123], молодцы, один одного краше, схватив три топора и две свистульки отправились рубить березки. Сам Сергей принялся скашивать траву на месте облюбованным им для устройства балагана. Этим он убивал двух зайцев сразу. В траве гнездятся полчища комаров, и скошенная трава была необходима для сенокосного жилища. Анисья приехала на покос всего лишь на один день. Помочь своим мужикам устроиться на месте, и самое главное – сделать зачин.
А пока она сгребала скошенную мужем траву в кучу, поглядывая украдкой на Сергея. Машет-то косой, как оглашенный, муженек мой, сокол ненаглядный. Заметив взгляд жены, Сергей еще шире расставил ноги, стараясь захватить пошире полоску скашиваемой травы. Вжик-вжик, свистит остро отточенная коса, ложатся, поникая колокольчики и ромашки, сбиваясь в тугой, ершащийся цветами валок, так напоминающий девичий венок. Словно прочла эти мысли Анисья, выбрала из валка цветы, сплела венок, сняв бабий платок, возложила на голову. Никто меня здесь не видит, кроме Сергея, для него это. Берег он свою Анисью, шутя говоря, на другую жену денег у меня не хватит, да к тому же неизвестно, будет ли новая лучше.
Отбросив косу, Сергей сделал лишь пару шагов, намереваясь обнять Анисью за стройный стан, как от околка раздался звонкий голос Сергуньки.
– Тятя, тащить березки?
Остановившись на полдороги, Сергей с сожалением вздохнул, и прокричал в ответ.
– Неси сына, у нас готово!
Очищенные с одной стороны березки, установив шатром, связали макушками, и закидали сначала срубленными ветками, а затем толстым слоем травы. Несрубленные снаружи балагана ветви служили упором и не давали «зеленой крыше» сползти вниз. В балаган натаскали травы на постель, наверх кинули войлочные потники и шубенки, сложили пайвы и чумашки. Прихваченную из дома дерюжку – на вход, готово!
Осталось за малым. Перед сном развести внутри костерок-дымокур, чтобы выгнать зануд-комаров, и вот оно походное жилище сенокосчиков. Сметану в глиняной корчажке поставили в холодную воду ручья. Там она не закиснет, простояв несколько дней, пока Анисья не привезет из деревни свежей.
К полудню на стане Нижегородцевых выросли четыре пузача-балагана. Семьи Сергея Нижегородцева, Георгия Рукосуева, отца Прошки, и двух других могойтуевских казаков, приходившего вчера говоруна Значитца и навязавшегося в кампанию Поршня, громогласно заявившего «Одним сугланом веселей будет!»
Сергей покачал лишь головой, зная по опыту, чем кончались встречи Значитца и Поршня. Подвыпив, начинали они выяснять, как это среди дальних родственников водится, степень родства. Приходились они друг другу, то ли троюродными братьями, то ли бог весть кем, величая однако себя кумовьями. После третьей рюмки дрались, после шестой мирились, чтобы затем подравшись во второй раз, заснуть на столе или под столом крепко обнявшись неразлучными кумами.
Четвертый из посельщиков, Георгий Рукосуев, Прошкин отец, был сослуживцем Сергея Нижегородцева и происходил из разорившейся казачьей семьи, что было среди забайкальских казаков далеко не единичным явлением. Почему, об этом чуть позже.
Биография семьи Рукосуевых началась многообещающе во здравие, и закончилась за упокой. Отец Георгия богатырь Софрон, родом из Зоргольской станицы, женился на могойтуйской казачке из зажиточной семьи Поповых. А что Поповы, что Потехины, что Нижегородцевы – один суглан, переженились, перекумились, сам черт ногу сломит. После шумно отпразднованной свадьбы построили всем гуртом в Могойтуе дом, дав на новоселье наказ – живите, трудитесь, плодитесь!
Домовитая Акулина и жадный на работу Софрон трудились в поте лице своего, вставая до зари, ложились, когда другие уже шестой сон видели, не забывая однако третьего пункта наставления. Неполную дюжину подарила Акулина Софрону, из которых шесть детей выжило – три мальчика, и три девочки. В ежедневных трудах и заботах, стайкой голубей незаметно пролетели годы. Вырастили, подняли на ноги всех шестерых, собрали девчатам приданое, выдали их замуж. Но раскошелиться, три свадьбы справить, все село пригласив, было полбеды. Пришло времечко собирать сынов-казаков на службу, вот тут-то и началось то, что переломило хребет Рукосуевым.
Дело было в том, что призывающийся на службу казак должен был приобрести снаряжение, обмундирование, оружие (за исключением огнестрельного), коня, за свой счет из личных доходов своего хозяйства. От кавалерийского седла[124], являвшегося самой дорогостоящей частью снаряжения, до флажка на пику и запасных подков, все должен предъявить казак явившийся на смотр, чтобы не пришлось краснеть его отцу перед всем селом. И все это удовольствие стоило 250–300 рубликов, вынь да положь.
Собрал Софрон двух сынов-погодков на службу, разорился до нитки, хоть по миру иди, милостыню собирай. А тут еще третий, Гоша на подходе. Как говорится, хоть яловый, но телись.
Надеялся Софрон, вернутся сыны со службы, наверстают, поднимут пришедшее в упадок хозяйство. Но увы. Большак Тихон, звавшийся дружками Тихоней, учудил, лучше не придумаешь. Втюрился, как тарбаган в петлю в китаянку, женился на ней без благословления родителей и не казав глаз в Могойтуе, остался с ней в китайском городе Хайларе, где русских было пруд пруди.
Средний сын, Иван – того хуже. В 1906 году разгонял, служа у генерала Ренненкампфа, бастующих железнодорожников на станциях Борзя и Чита-1, где и познакомился с некоторыми из них поближе без казачьей нагайки. Вернувшись со службы, переночевав одну ночь под крышей отцовского дома, уехал в Читу, где устроился на работу в железнодорожные мастерские слесарем. Провались она в тартары слава казачья, да жизнь собачья.
Решение сына подкосило трудолюбца Софрона под корень. Деповщина – хуже мужика сиволапого, такой позор отцу на старости лет.
Один младший Гоша остался у отца с матерью, последняя надежда в этой жизни. Может хоть он пойдет стопами отца, возродит крестьянское подворье, подарит родителям утешение, внеся успокоение в их исстрадавшиеся души. Но подошло время и Георгию отправляться на ратную службу. Денег в семье не было, оставалась одна дорога – идти в батраки, зарабатывать себе коня и шашку. Но не в родной же станице, стыдно, вот и уехал Гоша Рукосуев в Акшу из Могойтуя, совестно было ему и родителям-старикам перед родственниками – голытьба, с того времени и дала трещину семейная спайка, сторониться стали их посельщики. Но Георгий не сдавался, мечтал, вернусь со службу, раздую кадило, утру нос зазнайкам.
Служил Георгий в одной сотне с посельщиком Сергеем Нижегородцевым, охраняя строящуюся железную дорогу в Маньчжурии, получившую позже название КВЖД. Служба протекала спокойно, если не принимать во внимание редкие стычки с хунхузами и усмирение китайцев, недовольных засильем иностранцев, к которым относились и русские, на их исконной земле. В свободное от караулов время Георгий и Сергей приучались к чужой культуре, поедая в харчевне паровые пампушки и закусывая их вонючим ханшином.
Одна из стычек с хунхузами изменила навсегда течение жизни забайкальского казака Георгия Рукосуева, направив челн его судьбы в пропахшее болотиной тупиковое русло.
Шесть казаков, охранявших станцию Мяндухэ, приняли бой с бандой хунхузов в тридцать человек. Обнаглевшие безнаказанностью хунхузы напали на станцию среди бела дня. Завязалась перестрелка. Уже первым выстрелом сбил Георгий одного из бандитов. Сергей тоже не зевал, выцеливая мелькавших среди вагонов грабителей. Но силы были неравны. Один из казаков уткнулся, упав ничком на негостеприимную землю, и его земляк положил ему на глаза два медных пятака. Смерть товарища разозлила оставшихся казаков. О том, чтобы отступить, оставить станцию на разграбление, не могло быть и речи. Сблизившись, схватились в рукопашную.
Сергей заколол одного хунхуза штыком, Георгий сцепился с другим. Ловкий, как кошка, прыгнул он на него, взмахнув клинком, распорол, словно подопревший куль с зерном. Огляделся, где следующий? Ага, вон, крадется волком к зазевавшемуся казаку. Несдобровать бы ему, если бы не Георгий, отлично владевший ножом. Вытащив из-за голенища, ловко метнул, угодив точняком в горло. Захрипело, забулькало, потекла кровь злодея на халат, расписанный драконами, огонь из пасти мечущими.
Спас Георгий сослуживцу жизнь, да сам угодил нечистому в лапы. Не ожидавшие такого сопротивления хунхузы бросились врассыпную, отстреливаясь на ходу. И надо же было такому случится, угодила шальная пуля в правую руку Георгия, перебив кисть.
После госпиталя рука начала сохнуть, не было в ней прежней силы, культя, да и только. Вот так и случилось, что из бравого казака Георгия Рукосуева получился жалкий инвалид Гошка-пахаручка[125].
Вековал бы свой век искалеченный Георгий извечным горемыкой-бобылем, если не пожалела бы его казачка из бедной семьи, да богатая и не пошла бы замуж за инвалида. Тяжелую работу, пахать да косить, Георгий выполнять не мог, но приловчился к столярному, бондарному и другому ремеслу. Начал с плетения корзинок да туесков, гнал деготь, но уже скоро перешел на маслобойки, прялки и телеги.
Отец Георгия, Софрон, к тому времени уже умер, так и не дождавшись возрождения порушенного хозяйства. Большие надежды возлагал он на младшего сына, но увы. Унаследовав от отца золотые руки, хоть по дереву, хоть по коже, что хочешь сделает, любо-дорого посмотреть, начал Георгий попивать. Да кого там, пил запоями, по две-три недели, не просыхая. Спустит все до нитки, просит прощения у жены Пелагеи и детей Проши и Глаши, все, больше не буду, да кого там, как попадет шлея под хвост, начинается все сначала.
Жили Рукосуевы бедно, очень бедно, другой раз хлеба не было на столe. Вот и пришлось с малых лет Прошка мантулить на могойтуевских богатеев, на троюродных дядек, кумов да сватов, седьмая вода на киселе.
Степа Нижегородцев любил бывать у Рукосуевых. Мал был еще, не бросалось ему в глаза ни скромное убранство избушки, ни покосившиеся, крытые кое-как камышом повети, ни просевшая крыша стайки, в которой мычала жалобно единственная корова. Лошади у Рукосуевых долгие годы не было. Как ехать на покос, или привезти дров из леса, приходил Георгий к однополчанину Сергею Нижегородцеву. Чаще всего после очередного запоя, заросший щетиной, что дикий кабан. Пряча глаза, стыдно, просил коня с телегой. Сергей ему никогда не отказывал, но все же не мог понять. Ну коня нет, а телегу-то мог бы себе сделать. Вон сколько продал их за бесценок.
Посельщики знали слабое место Гошки-Пахаручки, и пользуясь этим, старались покупать у него, когда тот был во хмелю. Дешевле обойдется.
Пить Георгий пил, но совесть ни пропивал. Возвращал Сергею взятого внаем коня с нагруженными на телегу черенками, ручными граблями или запасными осями и ступицами для телеги. Ходовой товар в деревне. Все сделано добротно, комар носа не подточит.
В этом году Рукосуевы ехали в первый раз на покос на собственном коне, запряженном в свою собственную телегу. Казалось на первый взгляд, услыхал бог молитвы Пелагеи, снизошел с небес, милостиво одарив за труды многолетние праведные. Ан нет. Не от благ всевышнего, ни манна то была небесная. Три последних года чертомелил Прошка на богатого казака-скотовода, зарабатывая себе на коня и обмундировку, как когда-то его отец Георгий. Как была несправедливость, так и осталась. Богатому телята, а бедному ребята. Сколь уж казачьих семей разорила служба царю-батюшке, посеяв среди казаков семена раздора, которые дадут вскоре дружные, кровавые всходы.
Мишка Нижегородцев был одногодком Прошки. И ему надлежало этой осенью, как и всем казакам 1897 года срока службы, явиться при полном снаряжении для отправки в полк. Казачья справа для сына была у Нижегородцевых давно собрана. Не нужно было Мишке пасти три года чужих лошадей, вон своих табун, выбирай любого.
Всегда гордились отцы и деды казацким званием, по первому зову отечества посылая сынов и внуков на службу царю-батюшке. Но нынче не было того задорного огонька, как прежде, когда молодых казаков провожали из станицы. Шли они теперь прямиком в полымя войны, откуда пока вернулись в поселок лишь похоронки.
Если нюхнувшие пороха казаки еще храбрились, защитим от ворога землю русскую, то казачки утирали украдкой слезы, глядя на выношенных под сердцем сыночков.
Так и Анисья, не сводила взгляда с Мишки, отгуливавшего последние денечки. Хоть бы пронесло, молила бога Анисья, целуя оберег, приготовленный ею для уходящего на войну сына.
Зачин Нижегородцевы на этот раз без Степы, отпросившегося у отца помочь Рукосуевым ладить балаган. Сергей кивнул, иди мол, помоги. У забайкальцев помочь завсегда считалось святым делом.
Пока Георгий да сын его Прохор, полтора мужика, рубили и таскали березки, Степа принялся скашивать пятачок травы совсем рядышком с балаганом Нижегородцевых. Сергей обернулся, хотел уже сказать, что места больше не нашлось, но промолчал.
Скошенную Степой траву сгребала сестренка Прохора Глаша. Каких год-два тому назад дергали ее Прошка и Степа за косички, а теперь подтянулась дрыгалка, налились вешним соком волнующие округлости девичьего тела, зарумянилось, зацвело симпатичное лицо, оттеняемое искусно сплетенным венком из белоснежных ромашек и синих как безбрежное небо васильков. Только сейчас заметил Степа, как красива Глаша, встретились их глаза, опустился долу ее смущенный взгляд. Незаметно для себя подобрался Степа, выгнул колесом грудь, держась молодцом, особенно усердно строя балаган, стараясь держаться поближе к Глаше. Неизвестно сколько бы еще крутился Степа возле балагана Рукосуевых, если бы не прибежал братишка Санька, выпалив.
– Где ты там шляешься, тятя велел передать, чтобы косить шел!
С сожалением вздохнув, Степа отправился следом за умчавшимся вихрем Санькой, чувствуя спиной взгляд Глаши. Перескочила искорка, зажгла два сердца первой чистой любовью.
Пока Степа зачинал «балаганные отношения», Нижегородцевы сделали «сенокосный зачин». Повернувшись на восток, Сергей и Анисья перекрестились, Мишка застыл истуканом сзади с фуражкой на локтевом изгибе левой руки, как на полковом молебне. Рядом пристроились рядком, по росту Сергунька, Санька и Петька. Сергунька и Санька, подражая старшему брату, сняли с головы помятые картузы с волосяными накомарниками, пристроив их на руку, Сергунька, на левую, как подобает справному казаку, Санька впопыхах на правую. Трехгодовалый Петька стоял в головном уборе, вытирая некстати побежавший нос.
– Ну с богом, зачнем! – проговорил почти с пафосом Сергей, и взмахнул косой. За отцом шел Мишка, оставляя после себя такой же широкий прокос. Третьей косила Анисья. Ее литовка была на номер меньше, и прокос соответственно уже. Сергей, вынося косу до упора вправо, старался захватить пошире. Мотня просторных штанов качалась в такт взмахов литовки. Ичиги, попеременно двигаясь, скользили лодочками по свежескошенной стерне, оставляя за спиной две темнеющие полоски. Такие же оставались после Мишки. Анисья, обутая в легкие чирки, с явным наслаждением махала острой косой, идя вплотную за старшим сыном.
– Эй, шевелись мужики, а то пятки подкошу, – звенел ее по-девичьи задорный голос.
Нижегородцевы прошли по два прокоса, когда пришел Степа. Мишка обрадованно вздохнул. Теперь за ним будет косить матушка, пятки подрезать.
В четыре литовки дело пошло еще веселее. Как прошли по ручке[126], четыре тугих валка прибавилось к кошенине, глядишь корове на неделю хватит, зиму с молочком и сметанкой будем. Сергунька вжикал маленькой литовкой «по кустам», набивая руку. Год-два, и еще один косарь будет.
Сергей косил, протяжно, с расстановкой, при каждом взмахе делая резкий выдох «Ыых!», Мишка и Степа подражая отцу «ыхкали», лишь Анисья косила по-бабьи молча, как это могут делать лишь женщины, выполняя любую, даже самую тяжелую работу.
Пройдя по ручке, точили литовки, Сергей свою и Степину, Анисья и Мишка ширкали оселками сами. После очередного прокоса, Сергей пошарил в кармане широких штанов и вытащил оттуда «голубушку». Открыв крышку, взял щепоть увлаженного, мелко покрошенного табака из жестянки с китайской барышней, положил за щеку, утрамбовал языком, порядок. С табаком во рту попритих Сергей, а с ним и сыновья. Коли отец молчит, не к лицу и нам поперед батьки в пекло лезть. Слово старших всегда было у казаков закон.
Обедать сели поздно. Пока утречком в бане помылись, пока доехали, построили балаган, зачин сделали, полдня, как корова языком слизнула. Покосили, чтобы сбить первую охотку[127], уже и солнце под скатку покатилось. Накрыв мужикам стол, Анисья заторопилась домой, коровы «с пастуха»[128] вернутся, а дома никого нет. Вскочила в седло, посадила перед собой Петьку, сзади Саньку, оба счастливые, с мамкой домой едем, и след простыл.
Анисья, как и почти все казачки, умела ездить верхом, и не так, как городские барышни, свесив ноги на одну сторону, а по-казацки, в полный галоп.
После отъезда Анисьи, обещавшей приехать через три дня, привезти свежеиспеченного хлеба, сметаны и другой домашней провизии, Нижегородцевы, пообедав, отправились опять косить. В отличии от некоторых казаков берег Сергей свою жену, отшучиваясь, на другую денег мол не хватит, да это еще и бабушка надвое сказала, будет ли новая лучше прежней. Прав курилка. Так что мотайте себе на ус мужики.
Ближе к вечеру Сергей отправил младшего из оставшихся на покосе сыновей собирать валежник и разжигать костер. Сергунька с радостью отбросил литовку в сторону и побежал к стану. Надоела она ему за неполный день хуже горькой редьки, какой и является настоящая крестьянская жизнь безо всяких прикрас. Пройдя еще по ручке, закончили на сегодня и Сергей с Мишкой и Степой. С непривычки ломило все тело, и в особенности правое плечо. Попробуй помаши, узнаешь почем фунт лиха.
– Ничего, через день-два втянемся, – успокаивал себя и сыновей Сергей, оглядывая с удовольствием выпластанную[129] ими за день площадь. Рядки валков убегали вдаль, сливаясь в сумерках с синеющей линией горизонта, где на западе затухали последние отблески розовеющего багульником заката. Приятная истома окутала усталое тело, хотелось опуститься, лечь на валок и смотреть не мигая в темно-синее небо, незаметно заснув под приглядом выкатившегося гречишным колобом месяца.
Коротки летние ночи, не успеет потухнуть вечерняя заря, как на востоке начинает белеть, и птахи-раноставы, предвестники грядущего рассвета, выводят первые робкие трели. Поднимайся косарь, пора тебе в поле идти. Верно то. Коси коса, пока роса, вот первая заповедь косаря. Неспроста ночует он в балагане, чтобы встать с зарей-заряницей и пойти в поле. Легко косятся росные травы по утренней прохладе. Нет еще изнуряющей жары и беспощадно жалящих паутов. Вечером на смену одним крылатым татям приходят другие – комары и мошка. Вот они, легки на помине, висят тучей, над возвращающимися к стану людьми. Ужинали все четыре семейства вместе, чужое сало оно завсегда вкусней.
После ужина мужики остались чаевать, молодежь потянулась к Шаманке, где на вершине скалы горел светлячком во мраке ночи костер. Там, каждый год, сходились на вечерку парни и девчата с окрестных покосов. Место заметное, притягивающее к себе чародейскою силою.
В старину, по преданьям, собирались у подножия скалы бурятские шаманы для проведения своих ритуалов. Шаманка, или Шаманский камень, был овеян многими былями и небылицами, последних несоизмеримо больше. Некоторые даже рассказывали, что будто бы там, у скалы, приносили людей в жертву. Все это являлось, разумеется, сущей чепухой.
Хотя, согласно одной легенде, однажды молодая шаманка пошла вечером в одиночку к скале, и не вернулась. Отправившиеся на следующий день на ее поиски буряты нашли ее у подножья скалы мертвой. На шее молодой шаманки были следы зубов неведомого чудовища, высосавшего из ее тела всю кровь. Совершенное злодейство припасали анахаю[130]. С тех пор буряты обходили Шаманский камень за три версты, пока не появились в этих местах русские. Поселковая молодежь жгла по ночам там костер, рассказывая страшные история про анахая, охотящегося там по ночам за девушками. Каждый из молодых людей считал своим долгом, хоть раз посетить Шаманский камень, чтобы показать свое бесстрашие, доказать другим, что не трус. Тем не менее в одиночку посещать это место никто не решался, боясь повторить участь молодой шаманки.
Когда молодежь скрылась шумной толпой, оставшиеся на таборе отцы, могли безбоязненно почесать языками, рассказывая глупости, как зачастую делают взрослые люди, когда остаются одни. Четыре наших мужика: Серега, Гоша, Значитца и Поршень, не являлись тому исключением. Именно так обращались они у друг к другу. Первый вечер сенокосной страды сидели у костра особенно долго. Много накопилось о чем поговорить.
Гоша, вытащив из-за голенища ичиг нож, тот самый, который он метнув воткнул в горло хунхуза, строгал им из сосновых колышков зубья для ручных грабель. Смолистая древесина сосны ровно кололась, а что недолговечна, то не беда. За вечер между делом я их уйму настрогаю, сломается какой, выбил, новый вставил, и вся недолга. Георгий он вообще не мог сидеть без дела. Что-нибудь, да и мастерил. Уж коли золотые руки достались, чего же им без дела скучать?
Остальные мужики чаевничали, потягивая неторопливо гуранский чай, разумеется с солью и забеленный молоком из «самоковочных[131]» стаканов, изготовленных из обрезанных бутылок, обмотанных снаружи берестой. И не сломается, стакан-то, и руки не жжет. Вот она настоящая мужицкая смекалка!