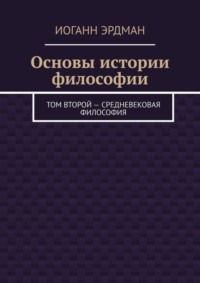Полная версия
Основы истории философии. Том третий – Новое время
Гассенди, отрицавший всякое знание о бесконечном, нападает на то, что мы имеем о нем определенное представление. Декарт отвечает, что, подобно тому как тот, кто не владеет геометрией, тем не менее имеет представление о целом треугольнике, так и мы, хотя и не имеем исчерпывающего знания о бесконечном, тем не менее постигаем не только его часть, но и все его целое (Resp. quint p. 66). Однако ему часто приходилось оправдывать свою попытку вывести существование Бога из содержания идеи Бога. Они видели в ней только онтологический аргумент Ансельма, и поэтому один возразил, что он уже был опровергнут Фомой Аквинским. Декарт ответил (Desp. princ. p. 60), что существует очень большая разница между выводом из значения слова, поскольку именно это доказательство критиковал Фома, и его собственным аргументом. Последний основан на том, что, когда мы мыслим Бога, мы должны мыслить его (как мы мыслим все, мысля его) не только как существующего, но и как обязательно существующего, а также на том, что эта наша мысль – не произвольный плод нашего ума, а необходимая мысль, поскольку она врождена или дана Богом. Поскольку Декарт здесь, как и в других местах, всегда дает в дополнение к своему выводу из содержания идеи Бога еще и вывод из необходимого существования оной, читателю как будто нарочно предлагается объединить оба вывода, чтобы утверждать, что существование Бога несомненно, поскольку Бог свидетельствует о себе в нас и доказывает свое существование. Другие (Object secundae) критикуют пробел в аргументации (как они говорят, недавно обнаруженный кем-то) теми же словами, что и позднее Кадворт и Лейбниц: прежде всего необходимо доказать, что понятие бесконечного существа возможно, не содержит противоречия. Декарт признает это (Respons. secund.), но показывает, что такое доказательство не представляет никаких трудностей. Так же позднее поступает и Лейбниц.
3. Насколько уверен я, настолько же уверен и Бог, бесконечное существо, исключающее из себя все пределы. Прежде всего, из него исключены все препятствия для его могущества; Бог – абсолютная причина как самого себя, так и всего остального, поскольку все имеет свое бытие от Бога Если у кого-то есть сомнения в том, чтобы называть Бога causa efficiens самого себя, то следует называть его causa formalis самого себя В любом случае, то, что Бог есть a se или causa sui, не следует воспринимать только в негативном смысле. Бог является положительной причиной хотя бы того, что у него нет никакой (другой) причины (Respons. prim. p. 57 ff.). Но это также означает, что Бог исключает всякое несовершенство и включает всякое совершенство, ибо абсолютно всемогущее существо может, а значит, и хочет, наделить Себя всяким совершенством. Среди этих совершенств ни одно не имеет для нас такого значения, как абсолютная правдивость, в силу которой Бог не способен желать обмана (Prine. I, §29). Но о Боге нельзя было бы сказать, что он свободен от намерения обмануть, если бы причина, которую Он нам дал, не говорила нам правильные вещи. Поэтому божественная правдивость гарантирует нам, что то, что мы ясно и отчетливо распознаем с помощью разума, истинно. Поскольку сомнение, с которого мы начали, также основывалось на том, что разум может нас обмануть, теперь это сомнение должно быть отброшено, разумеется, только теперь, и оно установлено как совершенно определенный канон: все, что ясно и отчетливо распознается, истинно (Prine. I, 30. Med. ΠΙ, p. 35). Декарт также должен был немедленно защитить этот результат, полученный путем самоопровержения изначального сомнения, от возражений. В частности, нападавшие настаивали на двух моментах: Во-первых, что здесь доказывается слишком многое, поскольку из его рассуждений следует, что мы никогда не можем ошибаться. Декарт отвечает, что ошибка возникает не от того, что мы узнаем что-то неполно, а от того, что мы соглашаемся с неполнотой узнанного, утверждаем его. Если, таким образом, мы все же судим о том, что мы не распознали ясно, что выходит за пределы нашего ограниченного познания, то ошибка, которую мы совершаем, – это не вина того, кто дал нам ограниченное познание и неограниченное воление, а наша собственная ошибка. Нет такой ошибки, которая не была бы самообманом (Prine. I, §. 34. 35. 38). Второй упрек состоял в том, что Декарт фактически двигался по кругу. Сначала он говорит: истинно то, что так же очевидно, как и я. Исходя из этого, он заключает, что Бог существует. Из существования Бога, однако, он делает вывод, что истинно то, что разум делает очевидным для нас. Декарт оправдывается тем, что различает первые бесхитростные рассуждения, которые опираются на очевидное, и рассуждения, основанные на размышлении, которые могут дать основания, почему на них можно полагаться (Resp. IV, p. 134. Resp. VI, p. 155. Resp. II, p. 74), но затем также таким образом, что он указывает, что можно было бы вполне сделать «Я есть» principium cognoscendi Бога, и снова сделать Бога principium essendi Я и самоочевидности, и описать «Я есть» как врожденную идею (Medit. III, p. 24).
4. То, что Декарт начинает действовать быстрее после того, как первоначальное сомнение опровергнуто и найдено правило доказательства, вполне объяснимо. Но он всегда исходит из того, что непоколебимо фиксировано, – из мыслящего «я»: Если мы проанализируем все акты или идеи в нем, то сначала найдем те, которые являются более близкими определениями других идей, без которых они не могут быть мыслимы. Так, понятие треугольника требует в качестве своей предварительной идеи идеи фигуры, понятие боли невозможно без вспомогательной идеи ощущения и так далее. Теперь такие мысли, которые могут мыслиться только с помощью других (per aliud concipiuntur), Декарт называет модусами, так что треугольник – это модус фигуры, и так далее. (Notae ad progr. quodd. in Ren. des C. Medit ed. Eher. 1650 p. 183). При более тщательном исследовании выясняется, что фигура и ощущение сами по себе являются модусами, определениями других идей, и что все идеи в конечном счете восходят к очень немногим примитивным идеям, которые как таковые являются concipiuntur per se. Эти идеи Декарт называет атрибутами 9, поскольку, как он, этимологизируя, говорит, они приписываются вещам a natura как основные свойства, составляющие их сущность naturamque (Notae ad progr. p. 179. Pcip. I, §. 53. Ср. Lettre ä Vatier d. d. 17. Nbr. 1642). В качестве таких высших, или примитивных, идей Декарт теперь выделяет две: протяжение и мысль, каждая из которых умопостигаема без другой, более того, без всякой другой мысли. Он упоминает только эти две, хотя и признает, что в Боге, в котором, конечно, нет никаких модусов, что было бы ограничением, multa sunt attributa (Notae 1. c.). Хотя протяжение и мысль отличаются от фигуры и треугольника, или от ощущения и боли, как первичное отличается от вторичного и третичного, между ними опять-таки есть сходство, поскольку они оба являются предикатами, и в силу этого их (прилагательных) бытие требует дополнительного (субстанциального) субстрата, на который они опираются. Эти независимые носители атрибутов Декарт называет субстанциями и, соответственно, определяет субстанцию как то, что не нуждается ни в чем другом для своего бытия и мышления, то есть как то, что абсолютно независимо, как он сам прямо говорит, что substantia incompleta есть противоречие в терминах (Respons. quartae p. 122). В то же время он признает, что, если строго придерживаться этого определения, существует только одна субстанция, а именно Бог (Prine. I, p. 51). В более широком смысле, однако, сотворенные вещи также могут быть названы субстанциями, если они не требуют для своего бытия никакого сотворенного другого, если они независимы друг от друга (хотя и не от Бога), если они могут мыслиться и существовать друг без друга, чего нельзя сказать о модусах и атрибутах, поскольку последние встречаются только в атрибутах, а последние – только в субстанциях.
Таким образом, вне идеи субстанции в собственном смысле слова мы находим в нас идеи (сотворенных) субстанций, и притом, согласно этим двум атрибутам, двух видов – протяженных и мыслящих. Первые называются духами (mentes), и их совокупность – это natura intellectualis, вторые – телесными, и их совокупность – это телесный мир. Существование тех и других гарантировано нам истинностью Бога, поскольку разум заставляет нас предполагать архетипы (ideates) этих идей. Уже потому, что они субстанции, они взаимоисключающие, ибо такова природа субстанций (Resp. quart. p. 124), но еще более потому, что их атрибуты полностью противоположны (Notae in progr. p. 178). Мышление – это чистая внутренность, сознание, простое Я-сущность, протяжение же, напротив, – чистая внешность, исключающая всякую аналогию с Я-сущностью. Поэтому не может быть и речи об общении между ними, оба мира абсолютно разделены; то, что есть в одном, в другом отсутствует. Следствием этого крайнего дуализма, который был подчеркнут в §265 как нечто, что должно быть в первой системе нового времени, является то, что две ее части, физика и философия разума, полностью распадаются, не находятся в таком отношении, что одна образует предпосылку другой, так что можно с таким же успехом начать изложение как с одной, так и с другой.
5. Декарт посвятил физике так много времени, что очень часто называл ее своей философией, особенно в письмах. Его задача – представить все, что можно найти в природе, с помощью мышления. Но тогда ясно и то, что мы должны абстрагироваться от того, что, по свидетельству органов чувств, является качествами тел, ибо эти чувственные качества – лишь состояния воспринимающего и имеют так же мало сходства с телом, вызывающим ощущение, как слова, с помощью которых человек передает свои мысли, имеют с ними сходство (Le monde ed. Cousin V, p. 216). «Все чувственные качества вещей заключены в нас, то есть в душе» – это утверждение повторяли все картезианцы. То, что предстает перед нами, когда мы думаем о телах как об их действительной сущности, – это их протяженность в длину, ширину и глубину. Пространство и материя, таким образом, совпадают; пустое пространство – это противоречие в терминах, и тело следует понимать только как то, что стереометрия понимает под ним. Любой внутренний двигатель, который приближал бы протяженную материю к мыслящему разуму; любая сила, которая была бы чем-то иным, чем протяженность, например гравитация, «должна» отрицаться для тела (Prine. II, §. 4. 64. Medit IV, p. 40). – (Это утверждение, что тело есть не что иное, как занимаемое им пространство, Декарту пришлось защищать от нападок как со стороны физиков, утверждавших, что в таком случае не может быть ни конденсации, ни разрежения, так и со стороны католических теологов, возражавших против транссубстанциации. Первым он отвечал, что губка, всасывая воду, не увеличивает тем самым своего протяжения, и что всякое разрежение, как и изменение губки, состоит в расширении пор [Prine. II, §. 6. 7J. Что касается второго возражения, то Декарт в своем ответе Арно [Respons. quart.], опираясь на то, что наши ощущения порождаются поверхностью тел, то есть их границей, которая не принадлежит ни им, ни окружающему воздуху, попытался показать, что они могут оставаться неизменными даже там, где тело преобразуется. Многих это удовлетворило, но когда позже в письмах к иезуиту Месланду он попытался разъяснить само превращение с помощью аналогий с физиологическими процессами, а тот, против воли Декарта, донес это до публики, разразилось новое возмущение. Эти споры породили ряд исследований, которые были обобщены под названием philosophia eucharistica и объясняют, почему среди предложений, отвергнутых иезуитами и другими теологами, всегда присутствует предложение о том, что сущность тел состоит в протяженности. С этим следует сравнить Булье в вышеупомянутой работе). – Поскольку физическое наблюдение, таким образом, полностью совпадает с математическим, понятно, что Декарт претендует на славу своей физики, которая столь же очевидна, как и геометрия (письмо к Племпиусу от 17 ноября 1637 года).
Еще одним следствием является то, что, как отмечал Аристотель в отношении пифагорейской физики, картезианская физика также полностью исключает понятие цели, которое чуждо математике. Хотя сам он не отрицает, что Бог преследует цели в физическом мире, он считает самонадеянным желать знать их. Однако, помимо самонадеянности, есть еще и самонадеянность, когда человек понимается как цель мира. Все, что вытекает из понятия протяженности, естественно, должно утверждаться телами и их комплексами, а все, что с ними спорит, должно отрицаться. Поэтому в телесном мире нет ни атомов, ни пределов (Prine. II, 20. 21). В понятии протяженного, как и в способности мыслить, заложены способность формировать и способность двигаться. Чтобы эти возможности были реализованы, необходима дополнительная причина, и ею является Существо, которое также является конечной причиной протяженного, – Бог. Он делает это посредством движения, то есть перехода одного тела в другое, так что всякая множественность, даже разделение и становление, имеет своим конечным основанием движение, и для построения мира нужны только протяжение и движение (Prine. II, 23). Поэтому Декарт совершенно прав, когда заявляет в своих письмах, что механика для него не является частью физики, но что вся его физика – это механика и, следовательно, математика (письмо к Босе от 30 апреля 1639 года). Поскольку причина движения, Бог, неизменна, то и следствие должно быть таким, и первый из всех законов природы, действительно сложный из всех, таков: сумма движения всегда одна и та же (u. Λ. Prine. II. §. 36). В качестве производных, или вторичных, законов следует далее: 1. что каждое тело остается в том состоянии, в котором оно находится; 2. что тело в движении сохраняет то направление, в котором оно двигалось, то есть, если не вмешиваются другие причины, оно движется по прямой линии; наконец, 3. что когда одно тело, приведенное в движение, встречает другое, происходит разделение движения (Prine. V, 37. 39. 40). (Там, где Декарт переходит к изложению более точных правил связи движения, он часто противоречит опыту). Построение Вселенной, которое в его «Луне» облечено в фикцию, что должен быть создан совершенно новый мир, так что в нем будут использоваться только материя и движение, связанные с указанными законами, предполагает, что Бог первоначально разделил материю на бесчисленные куски разного (среднего) размера и разной (но не круглой, указывающей на центр, т. е. внутренность) формы. (но не круглой, указывающей на центр, то есть на внутренность) и раз и навсегда дал им возможность двигаться в самых разных направлениях, но затем предоставил их самим себе, а точнее, продолжил или сохранил неизменным то, что уже сделал. В результате, благодаря столкновению тел и хаотическому смешению направлений, одна часть этих материальных частиц агломерируется в большие массы, другая, стирая углы, образует необычайно маленькие сферы, которых, возможно, миллионы в каждой песчинке, Наконец, третья часть образует еще более мелкую пыль, эту materia infiniment subtile, иногда называемую также эфирной массой, части которой не отделены друг от друга и могут принимать любую форму, так что мы имеем дело с континуумом. Последнюю из упомянутых субтильных материй можно назвать элементом огня.
Декарт обычно называет ее первым элементом и считает, что из нее состоят солнце и неподвижные звезды. С другой стороны, материя, упомянутая первой, называется им третьим элементом или элементом земли, из которого, в частности, состоят планеты; тела, состоящие из него, – это жидкие или твердые тела, в зависимости от подвижности и перемещаемости их частиц или наоборот. Между ними находится второй элемент, состоящий из глобул, который можно назвать элементом воздуха, из которого состоят небеса и который, благодаря дрожащему движению своих глобул, сообщающемуся по прямой линии с безвременной скоростью, показывает явления света, а своим вращением – цвета, тогда как тепло и горение – это движение первого элемента (например, Moons cap. 5). Поскольку пересечение движений приводит к отклонениям от прямой линии и поскольку все движения происходят в полном объеме, когда одно тело покидает свое место, соседние заставляют себя занять его место, то в конечном итоге должны возникать движения, которые наталкиваются сами на себя. Это и есть знаменитые вихри, которые объясняют не только вращение планет вокруг Солнца, но и падение тел к центру. Они возникают не по внутреннему побуждению, так же как и не в результате действия центра, ибо Декарт прямо утверждает в письме к принцессе Елизавете, что ни одно движение не возникает без удара и соприкосновения, но окружающая их тонкая материя движет ими, подобно тому как предметы, попавшие в водоворот, движутся к его центру (Prine. 111, 4G fi’.). Хотя Декарт, чем больше он углубляется в детали, тем больше вспомогательных гипотез ему приходится добавлять, например, что в магните проникающие в него мелкие частицы имеют форму пробок и т. д., его построение остается самой удачной попыткой доказать в деталях, как все можно объяснить чисто механически. Органические тела также являются для него простыми машинами; там, где они стоят неподвижно, эта неподвижность называется смертью. Фактическим источником жизни, а если угодно, душой, душой животного является кровь, в циркуляции которой и заключается жизнь. Открытие Гарвеем капиллярных сосудов Декарт признает с благодарностью, но критикует его за то, что причиной кровообращения он считает сокращение стенок сердца, поскольку это само по себе требует объяснения. Скорее тепло, содержащееся в сердце, гонит кровь, превращенную в пар, в легкие, откуда она возвращается, охлажденная и изолированно жидкая, в сердце, чтобы еще раз расшириться в артерии, оттуда через капилляры в вены и вернуться в сердце через полую вену. По очень прямому пути, а потому еще очень теплой, кровь поступает в мозг, который, охладившись, отделяет от нее, как бы фильтруя, самые летучие частицы третьего элемента и превращает их в духи жизни (spiritus animales), очень летучие вещества, вместилищем которых являются нервы.
Движение, производимое в нервных окончаниях внешними впечатлениями, передается, подобно дрожанию струны, в ту часть мозга, в которой сходятся не все нервы, но через которую проходят все духи жизни и которая, именно потому, что в ней, как в вершине конуса, сосредоточены все впечатления, может быть названа конарионом. Он расположен в шишковидной железе, которая (особенно у людей, как будет показано далее) выполняет иную функцию, нежели секреция слизи, которую ей обычно приписывают. Как она является целью внешних возбуждений, так она является отправной точкой деятельности организма по отношению к внешнему миру; оттуда движение жизненных духов передается на участки нервов, которые приводят в движение мышцы, и поэтому животное убегает, когда видит волка, или кричит, когда его бьют. Этот процесс ничем не отличается от того, что при ударе по клавише органа издается звук; животное – такая же машина, как и орган. (Какое-то время у ревностных картезианцев было модно кокетничать жестокостью по отношению к животным, чтобы показать, что они серьезно относятся к своей доктрине). Человеческое тело, точному описанию которого посвящен трактат de l’homme, также является машиной, и, как и тело животного, оно было бы таковым, если бы не было связано с духом, о котором речь пойдет позже.
6. Во-вторых, физика противопоставляется науке о разуме, которую Декарт часто называет метафизикой, хотя это слово иногда используется им и для обозначения универсальной науки. Если последняя, как и математика, не может быть получена без помощи воображения, то единственным органом метафизика является мысль. Поэтому, если, с одной стороны, она имеет гораздо больше оснований, чем физика, поскольку имеет дело с самым определенным и самым очевидным (Prine. I, §.11. Respons. prim, p. 55 et al. 0.), то, с другой стороны, она является очень абстрактной наукой, и Декарт писал принцессе Елизавете 18 июня 1643 года, что во время своего визита к ней он смог узнать о ней больше. Декарт писал принцессе Елизавете 18 июня 1643 года, что, хотя он посвящает несколько часов в день математическим рассуждениям, на метафизические он тратит всего несколько часов в год, и что он доволен тем, что однажды установил их принципы. Как сущность тел состоит в протяженности, так атрибутом духа является мысль. Всякий дух, следовательно, есть также и Бог, ибо различие между Богом и конечным духом равно различию между бесконечно великим и двумя или тремя, и если мы удалим границы из natura intellectualis, то получим идею Бога, а идея Бога как ограниченности дает идею человеческой души (Письмо 1638 г. изд. Кузен VIII, с. 58). По этой самой причине существование Бога может быть выведено и из существования собственного духа; оно может быть выведено из существования телесного мира так же мало, как звуки из красок (Respons. secund. p. 72). Конечно, при этом всегда следует учитывать то различие, что Бог, как бесконечное, исключает все пределы и что по этой самой причине у него нет модусов, а только атрибуты, так что он не чувствует, но мыслит (Prine. I, §. 56). Как тело, поскольку протяженность является его атрибутом, не мыслимо и не может существовать без протяженности, так и ум всегда мыслит, или, что означает то же самое, всегда имеет сознание (Respons. quint. p. 60. Respons. tert. p. 95). Как свет всегда светит, тепло всегда греет, так и ум всегда мыслит (Epp. ed. Elz. I, 105). Поэтому Декарт без колебаний признает в письме, что ребенок обладает сознанием еще в утробе матери; то, что человек не помнит, о чем он думал во сне, не является примером, поскольку память – это чисто физическое состояние. Поскольку отдельные акты мысли Декарт называет идеями, само собой разумеется, что всякая мысль, включая божественную, состоит из идей (Ration, mor. geom. disp. Defin. II. Respons. tert. p. 98). В человеке они разделяются, по степени ясности, на адекватные и неадекватные, или полные и неполные (Письмо 1642 г. I, 105 Elz.); по происхождению – на самостоятельно созданные (fictae), заимствованные (adventitiae) и врожденные (innatae) (например, Medit III, p. 17); по содержанию, наконец, они разделяются на акты восприятия, идеи в строгом смысле слова, и на акты воли, которые более активны. Последние никогда не обходятся без первых, так как мы всегда знаем о своем волении, т. е. имеем идею или персипируем ее (De passion. I. art. 19), тогда как существуют чистые акты восприятия, в которых воление не участвует. Но сюда не относятся, как думают некоторые, суждения; каждое суждение содержит утверждение или отрицание, т. е. акт воления. Как в древности стоики утверждали о σιγκχτάθεοις [синкхта́тхэойс] (§. 97, 2) по крайней мере частично, скептики – абсолютно, а средние века – в столь часто повторяемом Nemo credit nisi volens, так и Декарт учит, что мы можем по желанию отказаться от утверждения и по желанию дать свое согласие. Это показывает, как возможна ошибка и как ее можно избежать. Нет ошибки в простом представлении, например, о химере, но есть в нашем утверждении или подтверждении ее существования. Если бы мы соглашались только с тем, что мы ясно осознаем, мы бы никогда не ошибались.
Тот факт, что Бог дал нам ограниченное знание и что в то же время Он дал нам силу воли утверждать неполное или неадекватное знание, не делает Его (см. выше в разделе 3) положительной причиной наших ошибок. Сам Бог, разумеется, не может ошибаться, потому что у Него нет неадекватных идей. Опять же, если мы хотим уберечь себя от ошибок, мы должны всегда проверять, не является ли идея нашим собственным порождением, а именно таким, что, формируя ее, мы абстрагируемся от чего-то, без чего она не может существовать, ибо если мы утверждаем такую неполную идею (например, гору без глубины), то мы ошибаемся. В отношении идей, которые не порождаются нами, но приходят к нам, мы, конечно, можем утверждать, что нечто внешнее по отношению к ним соответствует нам как их идеалу; но то, что это обладает именно теми качествами, которые представляет нам наше представление о нем, не может быть утверждено до тех пор, пока мы не разграничим, что является modus rerum и что является modus cogitandi, что лежит в вещах и что в воспринимающем человеке. Цвет, например, так же как и время, ничего не содержащее в вещах, но являющееся состоянием воспринимающего, есть модус когитанду (Письмо к Vatier 17 ноября 1643 г. изд. Elz. I, Ep. 116. там же Ep. 105). Что касается врожденных идей, которые настолько тесно совпадают с природой нашего мышления, что их вообще нельзя отделить от него, так что можно сказать, что они являются врожденной силой самого мышления, то здесь нет причин опасаться ошибки. Поэтому можно утверждать, что Бог или мы сами – это адекватные, ясно и четко распознаваемые идеи. – Как в отношении теоретического поведения, intellectus, который не является facultas electiva (Buitendijk 1643. Epp. ed. Elz. Π, 10), существует различие между бесконечным и ограниченным разумом, так и в отношении воли. У Бога это полное воление. Как Он ничего не утверждает, потому что это так, но, наоборот, это так, потому что Он это утверждает, так и нечто является благим только потому, что Он это желает. Все, даже вечные истины, зависит от воли Бога, поэтому Его воля не может быть обусловлена Его проницательностью (Object, sext. p. 160. To Mersenne 20 May 1630. Epp. ed. Elz. i, III). С человеком дело обстоит иначе. Для человека признать благом = воле (Письмо к иезуиту 1644 г. изд. Elz. I, Ep. 116). Таким образом, в отношении Бога Декарт – скотист, а в отношении человека – томист, хотя он и спасает последнего от indifferentia arbitrii. Ведь человек может вспомнить, что раньше он признавал что-то хорошим, и таким образом желал этого, и это воспоминание может стать мотивом для желания. Таким образом, человек, приучая себя действовать в соответствии с тем, что раньше признавалось правильным, может прийти к противостоянию тому, что в данный момент кажется ему благом, и таким образом свобода не теряется, но достигается более высокая свобода, чем aequilibrium arbitrii (Resp. sext. p. 160. 161). В целом, поскольку Декарт представляет божественное воление как полную неопределенность, не нужно думать, что он также ставит неопределенное воление выше всего в человеке. Напротив, он прямо говорит (Medit IV), что безразличие – это низшая ступень воления, и что тот, кто ясно и четко знает, что есть истина и благо, никогда не будет сомневаться в том, что выбрать, и, таким образом, будучи совершенно свободным, не будет безразличным. Невозможность ошибки, ставшей привычкой, является для него высшей свободой, как и вообще высшим совершенством.