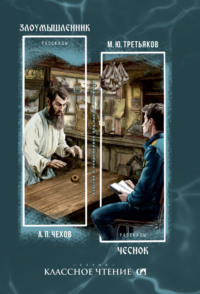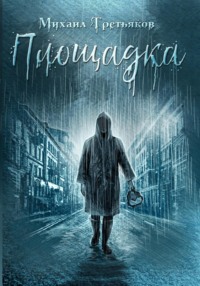Полная версия
Желтое окно
Никогда не имел этой дурацкой привычки вылеживаться, проснувшись. Сажусь. Маленькая комната и две кровати напротив друг друга. Крестная спит. А я не могу спать, не хочу и не буду. На стуле лежат какие-то вещи. Примеряю их на себя: вроде размер мой, но вещи не мои, и видно, что они не новые. Ничего другого нет, так что надеваю то, что есть, – выбирать не приходится. В этой одежде чувствую себя неуютно и особенно чужим по отношению к ней, ведь она еще не стала моей, не срослась с моими привычками, не пережила со мной никаких простых и неважных событий. Если бы даже это была новая одежда, и та казалась бы ближе и роднее, потому что ее выбираешь сам, а эту приходится надевать за неимением другой. На вешалке висит дождевик, маски нет.
Тело еще не до конца подчиняется, поэтому и приходится прилагать больше усилий, чем это требуется обычно. Как же хочется есть! Так, словно не ел эти две недели, – да я, наверное, и не ел, а получал жидкие смеси через назогастральный зонд. Две недели меня не существовало, две недели работу моего тела поддерживали не люди, а машины, я был практически мертв, если бы… Технологии не стоят на месте, но только вот люди не меняются, а значит, технологии сожрут человечество, поскольку тот, кто не развивается, обречен на вымирание. Правда, надо сказать, в природе есть примеры организмов, застывших в своем развитии, но тем не менее сохранившихся в неизменном виде до сих пор. Только разве это жизнь – существование в форме молекулы ДНК, не проявляющей ни малейших признаков жизни и живущей только за счет паразитирования? Хотя, впрочем, есть и более обнадеживающие примеры: акулы, крокодилы и щитни. Только вот почему-то, думая о людях, я представляю именно паразитирующий вирус, уничтожающий свою среду обитания отходами. И самый главный вопрос заключается в том, что произойдет дальше: погибнет ли клетка под названием Земля и вирусные частицы выйдут наружу в поисках нового места под солнцем, или же некий фагоцит уничтожит зараженную клетку вместе с вирусом, переварив ее в бесконечных недрах своего клеточного тела? Мне становится почему-то страшно от этой мысли.
Выхожу на улицу. Слышу дождь. Выставляю руку, но капли практически не касаются кожи. Провожу ладонями по лицу. У меня борода. За холмом раздается гром, а затем желтые молнии прочерчивают небо.
Храм светится, идет служба. Что-то тянет меня туда, но скорее это не желание приобщиться и причаститься, а научный интерес. Иду по обочине размокшей дороги и думаю о том, что наука и религия – это два явления одного порядка. Религия – иррациональное осознание того, что такое Бог и для чего мы здесь, принятие без объяснения факта, что началом жизни послужило какое-то явление. Наука – попытка рационально объяснить и доказать существование некоего первоисточника начала жизни, получить объяснение того, как всё произошло. Получается, что основное отличие ученого от священника в том, что последний принимает некоторые постулаты на веру, а ученый не принимает на нее ничего, а должен всё осмыслить и проверить, хотя суть их функций идентична – донести до людей знание, которое они считают истиной.
Вхожу в храм. Здесь особая атмосфера, особый дух и особая благодать. Даже мне, человеку сомневающемуся и ничего не принимающему на веру, покойно здесь. Голос батюшки произносит какую-то молитву, отчего шум дождя, проникающий повсюду, уходит на второй план.
В храме темно, и возле икон горят свечи. Прихожан немного. На меня смотрит иконостас с нежно-голубыми колоннами, украшенными сложными витыми узорами с позолотой. В середине иконостаса расположены Царские врата, на которых изображена икона Благовещения Пресвятой Богородицы и четыре Апостола, которые написали Евангелие. Над ними последняя трапеза Иисуса с двенадцатью ближайшими учениками. И мне вспоминается история о шедевре Леонардо да Винчи, но она настолько известная и избитая, что мне становится даже стыдно, что именно об этом я думаю здесь и сейчас. Направо от Царских врат расположена икона Спасителя, а налево – икона Божией Матери. Вспоминаются мама и то, что произошло между нами, и я почему-то вдруг с особой, дотоле непонятной отчетливостью понимаю, что мама и крестная – это единственные близкие люди, которые остались в моей жизни, в мире косых капель, которые направляет ветер и, возможно, кто-то еще. Чувства настолько обострены, что я забываю и о голоде, и о дожде, проникающем в сознание, и даже постигшие меня утраты отходят на второй план. Стою спокойный и умиротворенный, словно в этом мире нет дождя, который никак не закончится, и вокруг у всех всё хорошо и будет хорошо даже тогда, когда я выйду из храма.
Но моя несносная привычка видеть зависимости и закономерности там, где другие замечают только случайности, разрушает ауру этого места. Прихожане крестятся и кланяются в совершенно непонятные для меня моменты. Вспоминаю, как в зале института сотрудники выходили и пересказывали свои должностные инструкции и как от этой монотонности и однообразия я тоже стал частью этого безумия. Но мне до сих пор непонятно, почему именно дождь стал символом объединения. Всё время я пытался найти причину, по которой дождь заставляет менять поведение людей. Наконец-то я ее нашел, но от этого мне так и не стало понятнее, почему дождь идет так долго. Значит ли это, что, возможно, речитатив в сочетании с инфразвуком – не единственные причины ливня? Почему людей обманывают и говорят о том, что косохлест опасен?
В сознании всплывают обрывки того, что рассказывала крестная, пока я находился в коме: о людях, которые лежат в больнице, об отсутствии пустых коек – видимо, всё-таки в дожде есть какая-то опасность. Хотя, мне кажется, всё, как всегда, упирается в людей.
Религия – это попытка заставить человека отринуть всё плохое, но только, увы, это невозможно. Ведь самое страшное зло – это то, которое находится внутри нас, его невозможно победить и невозможно изжить, потому что оно является нераздельной составляющей личности, и, уничтожив или изменив его, в итоге уничтожишь и человека. Копаясь внутри себя, понимаю, что ответы на мои вопросы находятся не здесь. Мне надо вернуться домой – всё, что нужно, осталось там. Но у меня нет ничего – ни одежды, ни телефона, словно все ниточки, которые связывали меня с прошлым, сожжены там, где погибла Оля.
Выхожу на ступени храма. Кажется, светает, хотя в сером мареве дождя это неочевидно. Небо взрезается желтым пятном, во мне вспыхивает надежда на то, что солнечный свет всё-таки пробился сквозь пелену дождя. Но нет. Пятно разрастается, вспарывая небесную твердь, превращаясь в окно, и я понимаю, что наконец-то стал свидетелем необычайного атмосферного явления, о котором уже несколько раз слышал, но сегодня на пороге храма увидел впервые. Помнится, в новостных каналах писали, что это результат преломления света в кристалликах льда, образующихся на высоте. Только вот откуда возник этот свет, мне до конца не понятно, ведь солнце обессилело и не может пробить дождевую завесу. Выйдя из храма, не чувствую в себе сил, словно пружина внутри уже полностью раскрутилась и кончился завод.

Андрей, мой лучший друг, остался в городе. Изменившийся, но всё же Андрей, а я не знаю, как и чем ему помочь, хотя обещал, что смогу всё исправить. Близкий и родной человек, которого я потерял, но надежда на его спасение всё же есть, и именно поэтому мне нужно вернуться. Медленно, словно в бреду, иду по дороге, а дождь всё так же шагает вместе со мной. Захожу в гостиницу и поднимаюсь на второй этаж. Дождевик кажется свинцовым, но у меня получается его снять и повесить на вешалку. Обессиленный, падаю на кровать.
* * *Не могу понять, где сон, где явь, настолько всё кажется неправдоподобным: крестная, купель, храм, желтый столб в небе. Но вот открываю глаза – и снова комната. Теперь на соседней кровати никого нет. Встаю. На мне одежда, вчерашняя или сегодняшняя – не пойму. В мире, в котором идет дождь, можно различить только день и ночь, но, поскольку день укорачивается, я совершенно заблудился во времени.
Меня терзает голод. Спускаюсь на первый этаж и захожу в столовую. Здесь она почему-то называется трапезной. Длинные деревянные столы, накрытые белой скатертью, и лавочки. Всё чисто и убрано. Часов нигде нет, и я не пойму, какое время суток, поскольку если мне всё то, что я помню, не приснилось, то, скорее всего, вернулся я в гостиницу утром, а сейчас уже вечер. За столом сидит худой мужчина. Перед ним большая тарелка с фаршированным перцем и вторая с каким-то пирогом. Стоят приборы и салфетки. Тишина. Он накладывает себе перец. Здороваюсь:
– Добрый день.
Он поворачивается. Есть люди, по внешнему виду которых очень трудно определить, сколько им сейчас лет. Складывается впечатление, что по достижении определенного возраста у них включается карманная машина времени и дальше они не меняются. Лицо открытое, вызывающее доверие; зубы ровные, по всей видимости, свои. Черты тонкие. Борода ухоженная, с проседью. Во всех движениях, мимике как будто бы свет от него.
– Так ведь вечер уже.
– А как здесь можно заказать ужин?
– Вы присаживайтесь, всё на столе. Как вас зовут?
И я понимаю, что совершенно ничего не могу ответить, потому что буквально секунду назад имя свое я помнил, а сейчас вот, как только его у меня спросили, забыл. Глаза мужчины смотрят на меня пытливо, и я, как настоящий ученый, не теряюсь:
– Крестник я Натальи Васильевны.
– А, ну, тогда понятно. Вы присаживайтесь. Выздоровление ваше иначе как чудом не назовешь.
Сажусь. Обычно в присутствии чужих, незнакомых мне людей я чувствую себя скованным и не расположен к разговорам, если это не требуется от меня по работе.
– Отец Александр, – представляется он и накладывает мне перец в пустую тарелку.
Я беру черный хлеб, ложку – вилок почему-то здесь нет – и начинаю есть. Батюшка заканчивает трапезу и наливает себе горячий чай из заварника.
– Вы как, покрепче любите или кипяточком развести?
– Можно покрепче.
– Помню, как мы с матушкой попробовали в первый раз чай в пакетиках… и должен вам сказать, это совсем не то. Настоящий чай – он только в заварнике должен завариваться. А сейчас что? Все спешат, бегут куда-то, и времени нет совершенно на себя. Расчеловеченье происходит: важно как можно быстрее получить результат, и совершенно неважно качество результата, да и сами люди становятся такими одноразовыми пакетиками, в которых измельченная чайная пыль. Но это всё, наверное, неинтересно вам. Всё, что я говорю, – это глупости. Вы уж простите меня, если я что-то не так сказал. Наталья мне много о вас рассказывала. Я вот таким вас и представлял, только без трещинки внутри. Вам надо у нас тут пожить, а там, глядишь, трещинка-то и затянется, да так затянется, что вы только крепче станете. А назад вам сейчас никак нельзя, поверьте мне: там вы только трещину эту углубите.
Всё, что говорит этот чужой и совершенно незнакомый мне человек, слишком уж непонятно и неправдоподобно, но почему-то внутри чувствую, что всё это правда, хотя разум отказывается принять слова. А еще я слишком хорошо знаю себя и знаю, что если что-то решил, то точно не уступлю и не остановлюсь. Только вот для меня победа ради победы не является самоцелью. Да, конечно, интересно и важно найти ответы на вопросы, которые меня мучают, но еще важнее процесс познания.
Сейчас знания утратили ценность, они стали настолько легкодоступными, что исчезла необходимость прилагать усилия, чтобы их получить. А когда что-то дается легко и без усилий, то перестает быть ценным и важным и становится просто побрякушкой, которую можно нацепить и снять в любой момент. Дождь – он ведь не просто меняет людей, он стирает из памяти необходимость передачи знаний. Общество, в котором не происходит передачи знаний, обречено на деградацию и вымирание.
Отец Александр пожимает мне руку. И смотрит грустно и печально, словно он уже всё про меня понял и знает, что я его не послушаюсь. И видит всё, что будет со мной, и знает, что ничего изменить не может, и я тоже. Осеняет меня крестом и уходит. А я остаюсь один. И в комнате сразу становится дождливо и тоскливо.
Входит крестная.
– Вот ты где. А я тебя обыскалась. Я в монастыре послушание выполняла, прихожу, а тебя нет. Думаю: куда ты пропасть мог? А потом смекнула, что ты здесь. Ведь, как очнулся, не ел еще ни разу. Ума не приложу, откуда в тебе только силы берутся.
– Я с отцом Александром был.
– А… так он мой духовник. Говорил, значит, с тобой. И что сказал?
– Да сложно мне…
– Так ты же ученый у нас, и что, не можешь пересказать, что тебе человек церковный сказал?
– Трещина во мне, надо при монастыре пожить.
– Ну а ты что?
– Да ничего такого, просто слушал и молчал.
– Ну, это правильно. Отец Александр дурного не скажет и плохому не научит, так что думай, крестничек, утро вечера мудренее. А ты, поди, уже всё решил? Ну да утром мне скажешь, что ты там надумал.
Мы с крестной возвращаемся в комнату, и я падаю на кровать, словно и не спал целый день, а работал не покладая рук.
День 216-й. Вторник
Иногда, а чаще почти всегда, мы не ценим то, что имеем. Эта, в общем-то, простая и банальная мысль посещает меня каждое утро. Желание оторвать от каравая жизни кусок побольше, запихнуть его в рот и при этом не подавиться – одна из черт, которые отличают нас от животных. Но то, что сделало нас вначале людьми, теперь медленно убивает – как кислород, который делает возможным существование жизни и в то же время сжигает наши клетки. Почему именно утром я задумываюсь об этом? Да потому, что сам факт моего пробуждения кажется мне феноменальным. Ведь я мог не проснуться, мог вообще не родиться. Так почему же я оказался здесь? Сейчас, когда в руках моих нет такого необходимого, но в то же время такого ненавистного телефона, мне нечем убить время, нечем заполнить пустоту. Пустоту, которая есть внутри у каждого и которую мы каждый день пытаемся наполнить смыслом, придавая какую-то форму происходящему. То, что должно было сделать нас свободными, превратило в рабов. Неужели всё, что сейчас происходит вокруг, – это предупреждение, что пора остановиться, что наши действия приводят только к разрушению? Дождь размывает и смывает с людей покровы, оставляя то настоящее, что в них было изначально: желание выжить любой ценой.
Подминаю подушку под голову, чтобы придать ей какую-то более-менее удобную форму. Крестная спит, а вот мне не до сна. Я уже и забыл, как это здорово – просыпаться и о чём-то думать, а не лезть в телефон, чтобы что-то там посмотреть. Может быть, отец Александр действительно прав и необходимо остаться здесь пожить недельку, а то и две? Но внутри меня что-то скребет и подталкивает к необходимости ехать. Мысли, тягучие и тяжелые, словно горячий металл, заставляют провалиться в забытье.
– Просыпайся, крестничек, день уже начался, а ты еще спишь.
До меня наконец-то доходит осознание произошедшего. И я сумбурно начинаю рассказывать крестной о том, что произошло, про Олю и про то, что я к ней чувствую, точнее, чувствовал. И про ее значение во всей этой истории…
Крестная обнимает меня и гладит по голове, а я совершенно не отстраняюсь. Она тихо, словно нас могут подслушать, говорит:
– Любить и уважать человека за его достоинства может любой, а вот делать это, несмотря на недостатки, с которыми не можешь примириться, – вот это и есть настоящее испытание для любви.
– Крестная, но ее больше нет.
– Так в этом-то любовь и заключается.
– В смысле?
– Ну что тут непонятного? Ты ведь вроде большенький у меня уже, а всё еще как дите малое. Любить человека, когда он есть, – это ведь просто и понятно, а вот любить то, что он оставил в тебе, те изменения в лучшую сторону, которые произошли благодаря ему, – вот это и есть настоящая любовь.
Я копаюсь в себе, пытаясь понять, что же осталось во мне от Ольги, – и не нахожу ничего. Внутренне соглашаюсь, что крестная права, но мысли не чувствуют твердой поверхности фактов, и «я слышу, как страшно трещит подо мной ненадежный октябрьский лед». Музыки нет, а песня Кормильцева «Живая вода» приходит почему-то в голову.
Крестная смотрит на меня. В ее спокойном лице, в глазах всё живет и дышит. А я ощущаю себя брошенным мишкой, у которого оторван нос, порвано ухо, болтается лапа, а еще – самое главное – нет хозяина. И мне вспоминается рассказ мамы, как когда-то в детстве – история эта произошла так давно, что я знаю ее только благодаря ей, – я очень сильно заболел. Меня отвезли в инфекционную больницу, и со мной был мой мишка – маленький коричневый медвежонок, которого мне подарила крестная. Моя любимая и в то время единственная игрушка. Температура была под сорок два, мама думала, что я умру, и, наверное, все так думали, но я почему-то выжил. Пошел на поправку, но только вот, когда меня выписывали, все вещи должны были остаться в больнице – и мишка, мой лучший и единственный друг, тоже. Как же я плакал, как горевал! Мама купила мне и принесла точно такого же мишку, но мой мишка – он остался там, а вместе с ним и что-то внутри меня осталось с ним. И вот сейчас я пытаюсь нащупать, вернуть это, но ничего не получается.
– Ну, так что ты решил?
Я не могу изменить ни себя, ни себе. Я привык действовать. Если есть проблема, то ее надо решать, если ее не получается решить сразу, надо найти или способ решения, или того, кто поможет это сделать. Мишка, видимо, так и не вернулся и, наверное, не вернется уже никогда. Трещина растет.
– Я должен уехать в город.
Крестная молча достает из-под кровати пакет и кладет рядом со мной. Нам не надо ни о чем больше говорить, всё и так понятно без слов. Я выбираю дорогу, по которой шел всегда, и сворачивать не намерен. Дождь – это просто очередной фактор, который скорректировал мою траекторию движения, но даже он пока не в силах меня остановить.
Крестная уходит, раскрываю пакет. В нем чистые вещи, новая маска, кошелек, паспорт, ключи от дома; часы, стрелки которых показывают время, когда произошел взрыв, и телефон, который, судя по разбитому экрану, возможно, уже никогда не включится. Среди вещей лежит записка от крестной, я узнаю ее почерк – он хорошо знаком мне с детства по открыткам, которые она дарила мне в день рождения. На бумаге четко прописан алгоритм, как и куда мне идти, чтобы выбраться к дороге, где ходит рейсовый автобус до города.
От гостиницы надо повернуть налево и пройти по грунтовке до асфальта, дойти до перекрестка и повернуть снова налево. Дорога спускается к мосту, по которому может проехать только один автомобиль. Дождь стучит, а я думаю о том, что произошло в городе за две недели моего отсутствия, но почему-то ничего не могу спрогнозировать – может быть, оттого, что все переменные в моем уравнении удалены и я снова стою у начала пути. Люди боятся правды. Боятся потому, что только правда делает всё простым и понятным. Ложь всегда только всё усложняет и запутывает. Но только вот главный вопрос заключается в том, насколько ты хочешь узнать правду, если всё время жил во лжи, если ты уже так привык, что не можешь без вранья даже самому себе…
Перехожу мост. Справа от меня черное поле. Оно шевелится и поблескивает. Мне становится страшно. Я слышу негромкое «гар-гар». Черное поле состоит из птиц, и, судя по звукам, которые они издают, это грачи. Но почему их так много и почему именно здесь?
Дождь сопровождает меня до остановки. Наконец-то я под навесом! Опасность, о которой говорят все СМИ, кажется надуманной до тех пор, пока дождь не коснется тебя или кого-нибудь из твоих близких. На остановке висит расписание. Если бы у меня был работающий телефон, я мог бы отследить, где сейчас движется транспорт, и точно понять, когда надо выйти из-под козырька, а поскольку у меня нет ни телефона, ни часов, то приходится реагировать на любой шум на дороге.
Время исчезло, его нет. Я выпал из жизни, выпал из времени. Остались только дождь, я и надежда на автобус, который должен когда-нибудь да приехать.
Наконец к остановке подъезжает желтый фыркающий монстр – я даже и представить себе не мог, что эти модели автобусов еще на ходу. Круглые фары пронизывают морось. Мне кажется, что после того, как я окажусь на пассажирском сиденье автобуса, он точно больше никуда не поедет, но, оказывается, я заблуждаюсь. Как только занимаю свободное место, ко мне подходит кондуктор, и мы начинаем движение.
– Вы куда?
– До города.
– Сто двадцать три рубля пятьдесят шесть копеек.
Открываю кошелек, в котором бумажные деньги, положенные крестной. Я отвык от наличных и пользуюсь телефоном для оплаты, но мой аппарат не работает, да и в автобусе не видно терминала: здесь в ходу настоящие ценности, а не цифровая валюта. Протягиваю двести рублей:
– Сдачи не надо.
Старушка смотрит на меня с каким-то испугом, словно я прилетел с другой планеты. И чуть в сторону произносит:
– Мне чужого не надо.
Отрывает билет и протягивает сдачу. Складываю мелочь в кошелек и поворачиваюсь к окну. Это неожиданное появление человека с совершенно, как мне казалось, утраченной функцией вызывает у меня улыбку. Видимо, цифровизация не проникла еще так глубоко, и это, безусловно, радует. За окном мелькают поля. Вторник. Сентябрь. Не помню, какое число.
Смотрю через стекло и почему-то думаю о том, как выгляжу с обратной стороны. Мы смотрим на жизнь и окружающий нас мир через стекла, которые меняются в зависимости от нашего настроения и окружающих людей. Странно, должно быть, видеть и не понимать, что перед тобой на самом деле. Но кто об этом задумывается? Каждый раз нам кажется, что мы видим настоящую реальность, но проходит время, меняемся мы, и то, что было простым и понятным, становится совершенно другим. Кто же тогда является объективным? Видимо, стекло, которое видит обе стороны мира. Наверное, для того, чтобы нормально жить, нужно быть точно таким же стеклом? Но только вот в стекле есть один недостаток – это хрупкость. А я вытравил из себя хрупкость.
В дороге время тянется по-особенному мучительно, если ты едешь в автобусе один. Водитель не торопится, да оно и понятно: дождь и мокрый асфальт не позволяют ехать быстро, и мы движемся с черепашьей скоростью. Я смотрю на других пассажиров: все они погружены в телефоны, словно весь их мир сузился до черного окошка.
* * *Возвращаясь каждый раз из командировок, даже коротких, я обращаю внимание на изменения, которые произошли в городе. Почему-то, когда ты никуда не уезжаешь, всё кажется таким стабильным и неизменным, что становится не по себе, но вот стоит уехать на каких-то один-два дня, а тем более на неделю, как город меняется. Что-то новое и неуловимое появляется в дотоле знакомых и привычных улицах, и это приводит в немалое удивление. На автовокзале я не был так давно, что, наверное, мог бы даже забыть, что он вообще существует. Меня встречает всё то же знакомое двухэтажное серое здание. Выйдя из автобуса, собираюсь было сразу через улицу пройти в соседний переулок, по которому быстрее и легче добраться до остановки маршрутки, но выход перекрыт шлагбаумом, а охранник за стеклом показывает скрещенные руки и мотает головой в сторону вокзала. Открываю входную дверь.
Справа и слева от входа – торговые точки с сувенирной продукцией, журналами, газетами и другой атрибутикой, которая может быть полезной в пути. Помнится, последний раз я пользовался услугами автовокзала, когда ездил на защиту диссертации. Прямым рейсом следовал только автобус, и именно по этой причине мне пришлось выбрать этот вид транспорта. В просторном и светлом помещении восемь касс, из которых работает только одна, несколько ни разу мной прежде не виденных платежных терминалов и пара кофейных автоматов. Ну и какой же автовокзал без таксистов с предложением своих услуг? Честно сказать, мне казалось, что в цифровой век приложений такой поиск пассажиров должен был бы себя изжить, но не тут-то было!

На второй этаж, как и в бытность мою аспирантом, ведут две лестницы с противоположных сторон, там-то и находится пассажирская зона зала отправления. Такое расположение позволяет отправляющимся или ожидающим не толпиться в одном месте и не мешать друг другу и является вполне лаконичным и логичным решением. Мне нужно понять, сколько денег у меня на карте. Банкомат оказывается за углом на входе. Я тянусь за телефоном и только тогда вспоминаю, что он не работает. Достаю карточку, но и тут меня ждет явный облом, поскольку ПИН-код я не помню. «Вот и пригодилась сдача», – отмечаю про себя и с улыбкой вспоминаю принципиальную кондукторшу.
Поскольку я уже давно не ездил на маршрутках, а троллейбусы в городе прекратили свое существование сразу же после прихода нового мэра, то сообразить, какой номер маршрута нужен мне, чтобы добраться до дома, было бы весьма затруднительно, если бы не одно обстоятельство. В городе всего две транспортные линии, а поскольку я живу недалеко от центра, то вопрос только в том, как долго придется идти от остановки.