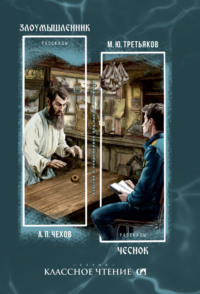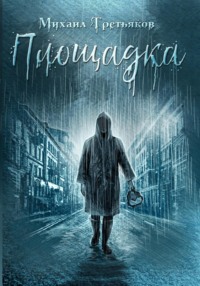Полная версия
Желтое окно
– Установка, генерирующая инфразвук.
– Можно посмотреть?
– Нейтрализатор у тебя с собой?
Она кивает.
– Ну, тогда можно.
Она медленно спускается. В этот момент в кармане пищит сигнализация.
Мне непонятно, что могло произойти, но надо всё-таки выяснить причину. Выхожу на площадку перед нашим «лабораторным комплексом». Сильный ветер. Чувствую, как капли бьют по моему лицу. Машина стоит в одиночестве, и никого, на кого могла бы среагировать сигнализация. Раздается гром. Подхожу к автомобилю и осматриваю его. В кармане вибрирует телефон, и я вспоминаю, как уже однажды уронил его в лужу и к каким последствиям это привело. Открываю машину и сажусь на место водителя, а ключи по привычке кладу в пластиковую нишу возле коробки передач.
Номер незнакомый и знакомый одновременно. Это какой-то стационарный местный телефон. Сейчас, «в век цифровых технологий», мы совсем потеряли интерес к цифрам, нет необходимости запоминать номера телефонов близких и друзей, ведь для этого есть электронная телефонная книга. И это, с одной стороны, здорово, поскольку высвобождает часть внутренних ресурсов, но с другой – делает нас беззащитными в случае какого-нибудь коллапса. Цифровое пространство настолько глубоко влезло в жизнь людей, что молодежь читает всё только в интернете, где есть ответы на все вопросы, а значит, не надо ничего запоминать и откладывать в закрома своей памяти – коробочки остаются пустыми.
– Да, слушаю.
В трубке раздается дыхание и какое-то непонятное то ли всхлипывание, то ли кряхтение, словно человек собирается с силами.
– Это Ангелина Альбертовна.
– Что-то случилось? – спрашиваю, с ужасом осознавая, произошло что-то настолько неожиданное, что секретарь директора звонит мне в выходной с рабочего телефона. Кажется, я готов к любому удару судьбы, но, как это часто бывает, удар следует по такой траектории и по такому месту, где ты совершенно не ждешь.
– Сергей Иванович погиб.
Глаза застилает пелена. Чувство безысходности накрывает с головой. Я никогда не плакал, зачем это делать, если слезы никак не решат твоих проблем? Но сейчас во мне что-то сломалось. Человека, с которым я вчера говорил, которому только вчера пожимал руку, больше не существует. Я вспоминаю, как буквально несколько минут назад с охранником обсуждал, как выглядит Сергей Иванович…
Беру себя в руки.
– Что случилось?
– Авария. Возле леса Дахнова машина вылетела в кювет – вроде как в нее попала молния.
– В машине он был один?
– С женой и аспирантом.
– Кто-нибудь выжил?
– Нет. Директор сказал позвонить вам, чтобы вы занялись организацией похорон. Сейчас сброшу вам телефон морга, куда их отвезли.
Я не вижу себя со стороны. Но ощущаю, как мои волосы на висках стремительно начинают седеть. Внешне я совершенно спокоен, но внутри меня ураган вопросов: как, почему, что он делал там и – самый главный – почему они были втроем?
В голове всплывает вопрос, который буквально час назад задала Ольга: «Ну а если он, например, умрет?» Она ведь знала, о ком спрашивала, а я еще не знал, что она это знает. Так, может быть, это всё результат очередной манипуляции? Чертова Ирэн Адлер! Я сжимаю кулаки. Горе, охватившее меня, перерастает в гнев, и черная беспросветная ненависть заполняет каждую клеточку моего мозга. Я понимаю, что сейчас, будь она рядом, я ударил бы ее и продолжал избивать, чтобы любыми средствами выбить из нее правду: кто и зачем это сделал? Но ее нет рядом, и это хорошо. Это состояние, близкое к умопомешательству, могло бы привести к печальным последствиям, и я рад, что сейчас в машине один. Мне хочется выйти и бить, бить что-то, но дождь невозможно ударить. Прячу телефон в карман и открываю дверь автомобиля. Пришло время получить правдивые ответы на мои вопросы. Выхожу. Дождь усиливается, и я накидываю капюшон. Раздается гром, а затем…
Молния рассекает небо и ударяет в здание лаборатории. Я делаю несколько шагов в сторону входа, но удары повторяются с короткими перерывами, на первый взгляд совершенно хаотично, но в конечном счете попадают в подстанцию…
Сила взрывной волны швыряет меня на автомобиль…

* * *
Темно. Но не так, как обычно бывает, когда нет света в темной комнате или когда ночь, а по-другому, словно ты внутри себя и просто не видишь ничего не потому, что не видно, а потому, что ты ничего никогда не видел и не знаешь, что можно видеть. И только звуки слышны, и такие отчетливые, словно только звуки в мире и есть. Что-то горит, только я это воспринимаю не обонянием, а слышу, и лишь затем появляется новое ощущение – запах гари. В голове так пусто, что я даже не понимаю, откуда знаю, что звук, который я слышу, – это звук огня, и откуда мне известно, что запах, который чую, – это гарь. Ничего не помню и не знаю. Даже не знаю, кто я. Слышу и чувствую, как меня гладит кто-то по лицу, аккуратно так касается и ведет, а потом еще раз, и так много таких касаний и движений по мне, а я, как кукла безвольная, лежу и сделать ничего не могу. Слышу вой неизвестного животного. Звук настолько скорбный, что хочется уползти подальше от него и спрятаться в норе. Но только вот я не могу. И вой этот говорит мне, что смерть моя скоро наступит, и я чувствую, что вой всё ближе и ближе ко мне, а потом – голоса. Какие-то нечленораздельные, что-то говорят, а я понять не могу. Меня хватают и тащат куда-то, на что-то твердое кладут. Что-то холодное ко мне прилепляют. А я ничего не понимаю и понимаю, что и понимать-то ничего не могу и не хочу. Словно в голове дырку паяльником прожгли и мысли все вытекли. Будто бы, если б я понимал и мог думать, мне ничего бы не хотелось, а так тоже ничего не хочется, но как-то по-другому, по-доброму, что ли. Трясет. А я начинаю различать что-то знакомое в звуках, которые издают существа вокруг. Какие-то обрывки чего-то они во мне пробуждают, звуки складываются в слова. «Сам…е лу…ее об…те ему». Ему – это я? Что они от меня хотят? А я ничего не хочу, ничего не хочу, потому что ничего не чувствую. Наконец вой прекращается, меня куда-то перекладывают и снова везут. Классное ощущение это – когда ты вроде как бы и есть и одновременно тебя как бы и нет. Снова голоса, знакомый запах, хлорка и спирт. Значит, в больнице… А почему я в больнице?
– Отключайте.
Интересно, чего это они хотят отключить? Чем-то холодным и тонким тыкают в меня. И в этот момент я понимаю, что меня включили, а что-то отключили, ради меня. Все клеточки начинают чувствовать. Как же мне больно! Но больно не только от этого. Я потерял их всех, и это я виноват в том, что они погибли. Хочу понять, где я. Открываю глаза: картинка нечеткая, фокуса нет. В палате слева от меня лежит человек. И я узнаю его: светлые, коротко стриженные волосы торчат в разные стороны; круглое лицо и живот, который невозможно перепутать ни с чьим другим. Жора? Он не дышит, а я дышу и чувствую. Меня подключили, чтобы спасти, а его отключили. И это последняя капля дождя: я больше так не могу и не хочу жить, просто не хочу… Прибор начинает громко пищать, а я проваливаюсь в пустоту…
День…
Темно. Но не страшно. Покой. Ничего. Очень хорошо. Спокойно. Мне кажется, что меня кто-то гладит по лицу, аккуратно так касается и ведет, а потом еще раз… Голос тихий, знакомый. Приятные эти касания. Кто это может быть? Во мне вспыхивает надежда. Она жива! Сердце стучит. Словно летаргический сон прерывается, и я готов уже проснуться, но сил нет. Из всех чувств остались лишь осязание и слух, да и то урезанная версия. Я слышу, но не различаю ни интонаций, ни особенностей голосов; мне кажется, что всё произносится одним и тем же голосом. Видимо, у меня агнозия – неспособность идентифицировать окружающие объекты с помощью зрения и слуха.
– Немедленно готовьте его к транспортировке!
– Но он только что вышел из комы.
– Он вышел из комы, как только мне разрешили к нему подойти. Вы считаете это совпадением?
– Да.
– А я нет. Необходимый уход я ему обеспечу сама.
– Но я не могу. Это слишком большие риски.
– Все риски я беру на себя. Бумаги подписала. Так что отключайте. Он теперь и без ваших аппаратов будет жить.
– На нем больничная одежда.
– Мне снова позвонить главврачу?
– Нет, не надо.
– Ну, вот и славно, вот и хорошо, пусть будет в больничной, я его потом переодену.
Что-то вытаскивают из меня. Перекладывают и везут. Переносят и снова кладут на что-то твердое. Мы начинаем движение. И по тому, как плавно это происходит, я понимаю, что лежу в машине, которая меня куда-то везет. Она берет мою руку. И говорит со мной:
– Я как поняла, что тебе нужна? Не сразу понимание-то пришло. Вначале как дело было? Я возвращалась в город из монастыря. Иду с остановки домой, дождь этот идет тоже, значит, а под деревом сидит под зонтиком Юрка, бомж местный. Ну, я остановилась с ним поздороваться, а он страсть как любит со мной говорить. Вот он меня и спрашивает:
– Ты вот как думаешь, дождь – добро это или зло?
– Юр, а что тут думать-то, это ж не от нас зависит, это же явление природное.
– Ну и так, тем более, раз природное, оно же ниспослано кем-то? Ты вот Библию читаешь, и что там про дождь? Дождь – он эва как воспринимается – как знамение Божьего благословения, как награда за послушание завету. Ну а с другой стороны, это ведь как посмотреть. Дождь – это же воплощение ужаса человеческого, как сила незримая, от которой люди ищут укрытия. Помнишь: «Разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились». Вот и у нас дождь вроде как и идет, а потопа нет. Люди оттого и маются, и истончаются, и вера в них слабеет, и неверие растет. Только сердцем чую: не Божье это провидение. Ты вон мать, а сына своего когда видела? Я вот детей не имею и забочусь только о себе, а дети – это ответственность ведь. Это как крест Иисуса. Только кто-то его на себе тащит так, что потом и кровью обливается, умирает под ним, а кто-то на другого свой крест переложить хочет – и перекладывает и идет по жизни тихий и спокойный. Много всякого и по-разному с крестом этим бывает, только на тебя смотрю и вижу: крест твой загибается, гнется, нет у него сил, и тебя рядом нет, а дождь-то сильнее всё идет. А сейчас без креста куда? Никуда. Дай денег, а то совсем сил нет и жрать хочется.
Я ему, конечно, дала на хлеб да дальше к дому пошла, только чувствую, что внутри заскреблось что-то. Словно Юрка мне сказать что-то хотел, а я, дура старая, ничего не поняла.
Пришла домой, туда-сюда – уже ночь. Псалтырь почитала. Лежу и не пойму: то ли сплю, то ли нет. Дождь за окном стучит, а у меня всё Юркина лекция из головы не идет, не пойму, что такое зацепилось. Юрка, как всегда, – такая особенность у него – о серьезном, о серьезном, а потом «дай денег» – и выбивает из мыслей-то.
А дождь стучит, убаюкивает. И тут я просыпаюсь и не пойму: то ли сон мне снится, то ли на самом деле это. Кот на мне сидит, Васька, черный такой, а глазищи зеленые, и топчется на животе, будто усаживаться собрался, а затем мордочку намывать начал, и смотрит так, с хитринкой, на меня, и лапкой на рубцы на руке указывает, и мурлычет свое. А я в мурлыканье этом слышу голос: «Пора тебе долги отдавать».
Какие долги, кому? Проснулась. Котика нет. Вышла на балкон, дождь слышу, а не чувствую ничего. А я стою, и про дождь думаю, и про Юрку, и понимаю, что он мне про крест мой говорил – про детей, про крестника то есть.
Позвонила тебе. Нет ответа. Матери твоей звонить не стала: знаю, что ничего она мне не расскажет. Сколько ты с ней не разговариваешь? Уже сколько лет прошло, а вы всё никак не помиритесь. Ой, что я про эти обиды-то старые! Я по больницам звонить начала, и сказали мне, что ты здесь лежишь. Приезжаю в больницу. А меня не пускают. Я возмутилась, батюшке звоню и говорю: крестник мой единственный в больнице, а меня к нему не пускают. Батюшка в прошлой жизни врачом был, только понял, что лечить надо не тело, а душу. Он всех здесь, в больнице, знает, и они его. Не прошло и пяти минут, как ко мне уже выходят и проводят через охрану. Сколько лет живу, а такого никогда не видела. Людей в больнице так много, что лежат они в коридоре, коек на всех не хватает, и стонут, и кашляют, и захлебываются. Страшно это. И ты тут где-то. Думаю, точно мне Господь указал, что спасать тебя надо: уморят они тебя здесь. Привели меня в палату. Один лежишь. Да прибор с тобой жизнеобеспечения, но смотрю я на него и чувствую, что держит тебя он здесь, не отпускает, а ты уйти хочешь. Я вот села рядом с тобой, стала гладить тебя по лицу, вспоминать и рассказывать тебе, как ты маленьким шалости устраивал, как собака тебя покусала, а мы с матерью твоей ходили, ее искали потом по всему городу и смотрели, издохнет она или нет. Как ты с дерева упал. Всё тебе про тебя рассказывала и, что греха таить, плакала. А потом ты по-другому задышал, и я почувствовала, что ты уходить передумал, вернулся. Знаешь, у тебя это с детства было: чем сильнее на тебя давят, тем сильнее ты сопротивлялся, а тут, видимо, так надавили, что даже ты чуть не сломался-то. Но теперь всё хорошо. Я тебя в монастырь везу, меня там сестры спасли и батюшка, и тебе они помогут. Вон у тебя уже румянец появился. Говорить с человеком надо, объяснять ему, что и как, и когда оно всё понятно-то, тогда и жить легче. А ты ведь с детства всегда всё пытался разобраться во всем, животных и растения любил, вопросы задавал: как, почему? А помнишь, как ты коту усы обрезал? Вот опять кот вспомнился. Не зря мне ночью приснился.
Ты не бойся, всё хорошо будет, монастырь хоть и не старый, но место это – выстраданное и намоленное, оттого и сила в нем особая. Моя это вина, что я тебя редко вижу. Мать из меня крестная плохая. Прав Юрка-то. Но ничего, крестничек, мы тебя вернем. Жизнь – она ведь какая? Я вот тоже жить не хотела и руки на себя наложила. Котик – он ведь знал, на что указать. Помню, когда муж с ребенком разбились, мне когда сказали, я не поняла сразу, а когда осознала, показалось, что из меня нутро всё вытащили и начали им по гвоздям тянуть, а гвозди на разную высоту забиты, и нутряное это по-разному цепляется, и рвется, и из меня кровью сочится. Чувствую я, что сил моих нет больше, и даже плакать не могу. Вот не вспоминала и не рассказывала никогда, а сейчас, видимо, время пришло.
Соседка моя почувствовала что-то неладное, вызвала милицию и скорую. Дверь сломали, вытащили меня из ванной и отвезли в больницу. Врачи сказали, что еще чуть-чуть – и не спасли бы. Но вот видишь, с тобой я; может, предназначение мое в этом, чтобы тебе помочь. Котик – он ведь не зря мне про долги говорил.
Я после того, как в себя пришла, ничего не хотела и думала, что напрасно меня спасли, потому что сил жить во мне не осталось, одна только сила умереть. Но соседка моя уговорила меня в храм при больнице сходить, там-то я и познакомилась с отцом Иннокентием, он меня исповедовал, а после мне так легко стало, словно беды и несчастья все в небо отпустила. Он-то и рассказал мне про монастырь и напутствовал туда съездить, чтобы я окончательно излечилась, ибо, как сказал он, «Уныние – это крайнее изнеможение души, которое может сокрушить силу души и довести ее до отчаянья». Я поехала без надежды, но сестры в монастыре помогли мне, и я верю, что и тебе они помогут. Но что я всё говорю да говорю? Ты, наверное, уже и устал меня слушать. Отдыхай, крестничек, силы тебе еще понадобятся.
* * *Тело, привыкшее к теплу, неожиданно скрутило. Запульсировало и закололо в каждой косточке. И молоточек застучал по стремечку так быстро, что казалось, будто оглохну я. Оглохну от крика своего, от той невысказанной боли, от осознания бессилия перед дождем или перед тем, кто его… Во всем существе моем возникла резкая слабость, будто силы мои выплеснулись в крике этом. Закашлял. Открыл глаза – темнота. Только вода ледяная обжигает меня. Одежда мокрая: штаны и рубаха. И понимаю, что меня кто-то держит, а затем тянет вверх, а я кричу, кричу, как, наверное, кричит младенец – от страха появления на свет из утробы матери, где так тепло и хорошо, что не хочется выходить в этот мир. А меня тянут из тепла и покоя.
Лежу мокрый на каменной плитке. Напрягаю слух. Шум дождя слышен – значит, всё хорошо. А затем накатывает воспоминание о том самом дне. Меня снова скручивает и рвет желчью, кровью, и снова кричу от безысходности, от непонимания происходящего, от того, что ничего не могу сделать, ничего не могу изменить, а еще не могу принять то, что произошло: ее больше нет, их больше нет, а значит, и меня нет. Мысли и чувства заплетаются в тугие канаты и тянут, и тянут меня. И происходит так, как, наверное, в тот самый момент, когда выныриваешь из глубины, где только холод и смерть. А здесь свет и жизнь, пусть какая-никакая, пусть с дождем, пусть… Нет, эта мысль не может стать для меня допустимой, потому что, как только я смогу с ней примириться, думаю, это и будет началом конца. А я не хочу конца, я хочу верить, надеяться, искать, находить ответы на вопросы и чтобы была она, жила, пусть даже очень далеко, пусть где-то, где я никогда не смогу ее увидеть…
Меня кто-то прижимает к себе. И шепчет: «Слава Богу». Я еще не совсем понимаю, где я, хотя уже осознаю себя, воспринимаю окружающий мир со всеми его достоинствами и недостатками, а голос такой знакомый. И мне вспоминается, как, когда меня крестили – мне тогда было что-то около десяти, – я почему-то спросил у мамы: «Мама, если ты умрешь, моей мамой станет крестная?» Не помню, что мне тогда ответила мать, но помню, что вопрос этот надолго застрял в моей голове. А сейчас мне кажется, что я умер, а крестная меня вернула оттуда, где холодно и темно. Я почему-то плачу, и она плачет.
– Где мы?
– В часовне.
– Какое сегодня число?
Она отвечает, а в моей голове непроизвольно начинает отсчитываться свой, дождевой календарь: двести четырнадцатый день от начала дождя…
День 214-й. Воскресенье
Тело какое-то чужое. Непослушные руки и ноги. Ощущаю себя как железный дровосек до того момента, как в его сочленения добавят масло из масленки. Но у меня нет такой масленки. Темно.
– Где мы? – снова спрашиваю я.
– Возле монастыря.
– Какого монастыря?
– Оно тебе надо?
– Как я здесь оказался?
– Я тебя привезла.
– Зачем?
– Вот всегда ты такой был! Зачем, почему?
Крестная поддерживает меня, открывает дверь. Свет, даже такой невнятный, утренний, заставляет меня зажмуриться.
– Где мы?
Крестная вздыхает.
– Все жилы вытянешь ведь. Часовня это с источником освященным и купелью в Монастырском лесу недалеко от храма. Теперь всё?
Вокруг лес, и идет дождь. Тропинка вьется, поднимаясь вверх.
– Как я здесь оказался?
– Я тебя волоком дотащила на носилках. Бог мне силы дал. Сон мне вещий был, что тебя спасать надо, котик приснился. Да еще и Юрка мне про крест говорил, что нести его надо. Вот я тебя и несла. Ой, да что я тебе всё рассказывать буду, оно тебе тыщу лет не надо.
В сознании медленно начинает вырисовываться рассказ крестной, но он до такой степени эфемерный, что должен сейчас улететь, и я, чтобы не дать ему этого сделать, удержать в своей памяти, хватаюсь за то, что еще осталось в сознании…
– Юрка, бомж который?
И после этой фразы воспоминание заякорилось и начало обретать зримые очертания. Мозг, почувствовав реальность услышанного, включает нейроны в определенной последовательности, формируя четкое воспоминание о том, что рассказывала крестная.
– Так ты всё слышал? Тогда чего ты у меня ума-то пытаешь? Сил моих нет! И так тебя сюда еле дотащила. Меня и батюшка, и сестры все отговаривали тебя в купель погружать, но я упертая: вот как что-то в голову себе втемяшу – не отступлю. Знаю грех этот за собой, но ничего сделать не могу. Ты сам-то идти можешь?
Я отрицательно качаю головой.
– Обопрись на меня, только не наваливайся сильно, а то вместе упадем.
И мы начинаем свое медленное восхождение под дождем. Куда, зачем? Вопросы возникают в моей голове, но я не чувствую ни сил, ни желания задавать их и тем более искать ответы. Все силы уходят на такие простые, но такие трудные для меня движения, как поднять ногу, передвинуть и опустить, снова поднять, передвинуть и опустить. Мышцы, забывшие всего лишь на две недели, что такое сокращаться, не хотят подчиняться моей воле. Крестная поддерживает меня, и мы снова делаем шаг. Почему купель и источник находятся в низине? Мне кажется, что моих сил не хватит на то, чтобы мы поднялись. Смотрю на тропинку, убегающую вверх, и задача, которая поставлена передо мной, кажется мне невыполнимой. Мозг сдается, не хочет участвовать в этой авантюре. Но я слишком хорошо знаю его особенности и физиологию, и мне не в первый раз заставлять его делать то, что хочу я. Надо его обмануть, заставить работать для того, чтобы помочь мне, и я точно знаю как. Непосильную задачу нужно разбить на маленькие подзадачи и решать их по одной, делая небольшой перерыв, и тогда результат будет достигнут. Чаще всего человека сминает невозможность выполнить определенный объем работ, и тогда мозг сдается. Мысленно рисую для себя линию, дойдя до которой нужно будет остановиться и сделать небольшой привал. Мозг, почувствовавший реальность достижения поставленной цели, активизируется, запускает резервы, включает мышцы, и вот мы уже на обозначенной точке. Делаем небольшой перерыв, а я снова провожу мысленную линию, и всё повторяется.
Не знаю, сколько времени у нас ушло, чтобы подняться по этому бесконечному склону, сколько раз я чертил в голове мысленные линии, но мы это сделали. Я мокрый от воды из источника, от дождя и от пота. Мне уже всё равно, я просто хочу сесть и не вставать, а дождь всё так же монотонен, как и двести четырнадцать дней назад, когда всё только началось.
Недалеко, но мне с моей способностью к передвижению кажется, что бесконечно далеко, расположился храм. Я не разбираюсь в церковной архитектуре, но из тех, что я видел, этот особенный. Вход, сделанный наподобие портика знаменитого Казанского собора с четырьмя массивными колоннами, увенчан треугольным фронтоном. Справа пристроена колокольня, возвышающаяся над центральным куполом храма, с окнами без стекол и увенчанная золотым куполом. Над центральной частью многоугольный широкий купол, остекленный вытянутыми окнами, а вокруг по углам, образуя крест, – четырехугольные башенки поменьше с более широкими окнами. Если бы на небе было солнце, наверное, купола бы сверкали, отражая свет, и тогда величественность и строгость сооружения приобрели бы совершенно иной размах, но даже в наши пасмурные времена от храма веет теплом и заботой.
Сижу на мокрой траве, привалившись к дереву, смотрю на храм, и внутри меня возникает и растекается по телу благодать. Осматриваю себя: на мне белая рубаха и холщовые белые штаны, я бос.
– Крестная, откуда это?
– Пижама больничная.
– И куда нам теперь?
– Недалеко от храма двухэтажное здание видишь?
Храм настолько величествен, что на его фоне теряются окружающие постройки. Перевожу взгляд правее.
– Вижу.
– Нам туда, это гостиница для паломников. Мне сестра Анфиса комнату предоставила. Ты как? Я-то совсем уже не та. Устала. Пока тебя от гостиницы тащила на носилках вниз, совсем из сил выбилась. Думала, если вода в купели да молитвы мои не помогут, назад тебя точно не дотащу.
– Ну а помощи-то ты почему не попросила?

– А у кого просить? Водитель, который тебя довез, выгрузился да и уехал по-быстрому. Дождь тут особенно злой, большинство людей побросали всё и уехали, а на той неделе от дождя деревня полностью выгорела…
– Как это от дождя выгорела?
– Да как? Молнии начали бить, вот они-то пожар и вызвали, так что в гостинице сейчас никого, кроме нас, и нет.
– И что же, совсем никто помочь не мог?
– Да кто ж мне в моей-то дурости поможет? Да и крест свой человек должен сам нести. Мне молитва да вера только и помогли, крестничек.
Не уверен, что это так, но и рационального объяснения произошедшему со мной пока не нахожу. Да оно и понятно: откуда ему взяться, если я только что вышел из комы, или в чем там я пребывал последние две недели? Наконец-то начинаю ощущать холод. Рецепторы включились, но мышцы пока с трудом вспоминают, как и что нужно делать. Я уже почти не опираюсь на крестную и вместе с ней ковыляю к монастырской гостинице.
День 215-й. Понедельник
Открываю глаза: темно. Проверяю ощущения. Руки, ноги – всё чувствую. Белый потолок. Сон и явь еще не до конца освободились из объятий друг друга, и от этого непонятно: то ли я еще в коме, а всё, что я видел, очередной фантом – слишком уж неправдоподобно всё это, – то ли уже вышел из нее. Поднимаю руку и касаюсь носа – стандартный тест. Всё хорошо. Нос на месте. Скрещиваю пальцы и подушечками начинаю массировать нос, повторяя опыт Аристотеля. По ощущениям, носа чувствуется два – значит, всё нормально, рецепторы работают так, как и должны.