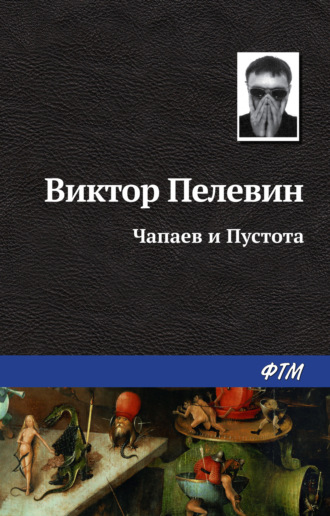
Полная версия
Чапаев и Пустота
Жербунов еще раз пальнул в зал.
– Прекратить! – крикнул я.
Жербунов пробормотал что-то вроде «мал ты мне указывать», но все же закинул винтовку за плечо.
– Уходим, – сказал я, повернулся и пошел за кулисы.
Какие-то люди, стоявшие за ними, при нашем появлении кинулись в разные стороны. Мы с Жербуновым прошли по темному коридору, несколько раз повернули и, открыв дверь черного хода, оказались на улице, где от нас опять шарахнулись. Мы пошли к автомобилю. Морозный чистый воздух после духоты прокуренного зала подействовал на меня, как пары эфира – закружилась голова и смертельно захотелось спать. Шофер, покрытый толстым слоем снега, все так же неподвижно сидел на переднем сиденье. Я открыл дверь в кабину и обернулся.
– А где Барболин? – спросил я.
– Сейчас, – ухмыляясь, сказал Жербунов, – дело одно.
Я залез в автомобиль, откинулся на сиденье и мгновенно уснул.
Меня разбудил женский визг, и я увидел Барболина, который на руках нес из переулка картинно отбивающуюся девицу в кружевных штанишках и съехавшем на бок парике с косичкой.
– Подвинься, товарищ, – сказал мне Жербунов, залезая в кабину, – пополнение.
Я подвинулся к стене. Жербунов наклонился ко мне и сказал с неожиданной теплотой в голосе:
– А я ведь тебя сначала не понял, Петька. Душу твою не увидел. А ты молодец. Хорошую речь сказал.
Я что-то пробормотал и опять уснул.
Сквозь сон до меня доносился женский хохот и скрип тормозов, угрюмый мат Жербунова и змеиное шипение Барболина – кажется, они спорили из-за этой несчастной. Потом автомобиль остановился. Я поднял голову и увидел перед собой расплывающееся и неправдоподобное лицо Жербунова.
– Спи, Петька, – гулко сказало лицо, – мы здесь выйдем. Нам с кумом поговорить надо. А тебя Иван довезет.
Я выглянул в окно. Мы стояли на Тверском бульваре, возле дома градоначальника. Медленно падал крупный снег. Барболин и дрожащая полуголая женщина были уже на улице. Жербунов пожал мне руку и вылез. Машина тронулась.
Я вдруг остро ощутил свое одиночество и беззащитность в этом мерзлом мире, жители которого норовят отправить меня на Гороховую или смутить мою душу чарами темных слов. Завтра утром, подумал я, надо будет пустить себе пулю в лоб. Последним, что я увидел перед тем, как окончательно провалиться в черную яму беспамятства, была покрытая снегом решетка бульвара – когда автомобиль разворачивался, она оказалась совсем близко к окну.
2
Собственно, решетка была не близко к окну, а на самом окне, еще точнее – на маленькой форточке, сквозь которую мне прямо в лицо падал узкий луч солнца. Я захотел отстраниться, но мне это не удалось – когда я попытался опереться о пол рукой, чтобы повернуться с живота на спину, оказалось, что мои руки скручены. На мне было похожее на саван одеяние, длинные рукава которого были связаны за спиной – кажется, такая рубашка называется смирительной.
У меня не было особых сомнений относительно происшедшего – видимо, матросы заметили в моем поведении что-то подозрительное и, когда я заснул в машине, отвезли меня в ЧК. Извиваясь всем телом, я ухитрился встать на колени, а потом сесть у стены. Моя камера имела довольно странный вид – высоко под потолком была зарешеченная форточка, сквозь которую в комнату падал разбудивший меня луч. Стены, дверь, пол и потолок были скрыты под толстым слоем мягкой обивки, так что романтическое самоубийство в духе Дюма («еще один шаг, милорд, и я разобью голову о стену») исключалось. Видимо, чекисты завели такие камеры для особо почетных посетителей, и, должен признаться, на секунду мне это польстило.
Прошло несколько минут, в течение которых я глядел в стену, вспоминая пугающие подробности вчерашнего дня, а затем дверь растворилась.
На пороге стояли Жербунов и Барболин – но, Боже мой, в каком виде! На них были белые халаты, а у Барболина из кармана торчал самый настоящий стетоскоп. Это было намного больше, чем я мог вместить, и из моей груди вырвался нервный смех, который обожженное кокаином горло превратило в подобие сиплого кашля. Барболин, стоявший впереди, повернулся к Жербунову и что-то тихо сказал. Я вдруг перестал смеяться – отчего-то мне показалось, что они собираются меня бить.
Надо сказать, что я совершенно не боялся смерти; умереть в моей ситуации было так же естественно и разумно, как покинуть театр, запылавший во время бездарного спектакля. Но чего мне не хотелось никак, так это чтобы в окончательное путешествие меня провожали пинки и оплеухи малознакомых людей – видимо, в глубине души я не был в достаточной мере христианином.
– Господа, – сказал я, – вы, я полагаю, понимаете, что вас тоже скоро убьют. Так вот, из уважения к смерти – если даже не к моей, то хотя бы к своей собственной – прошу вас, сделайте это быстро и без издевательств. Я все равно ничего не смогу вам сообщить. Я, видите ли, частное лицо, и…
– Это что, – с ухмылкой перебил меня Жербунов. – Вот что ты вчера выдавал, это да. А какие стихи читал! Хоть сам-то помнишь?
В его манере говорить была какая-то несообразность, что-то неопределимо странное, и я решил, что он уже побаловался с утра своим балтийским чаем.
– У меня превосходная память, – ответил я и посмотрел ему прямо в глаза.
Его взгляд был несокрушимо пуст.
– Да что ты с этим мудаком разговариваешь, – тонко просипел Барболин. – Пускай Тимурыч разбирается, ему за это деньги платят.
– Пойдем, – подытожил Жербунов, подошел и взял меня под руку.
– Нельзя ли развязать мне руки? – спросил я. – Вас ведь двое.
– Да? – спросил Жербунов. – А вдруг ты душить начнешь?
От этих слов я покачнулся, как от удара. Они все знали. У меня возникло почти что физическое чувство того, как слова Жербунова наваливаются на меня невыносимой тяжестью.
Барболин подхватил меня под другую руку; они легко поставили меня на ноги и выволокли в пустой полутемный коридор, где действительно пахло чем-то медицинским – может быть, кровью. Я не сопротивлялся, и через несколько минут они втолкнули меня в просторную комнату, усадили на табурет в ее центре и исчезли за дверью.
Прямо напротив меня стоял большой письменный стол, заваленный множеством папок конторского вида. За столом сидел интеллигентного вида господин в белом халате, таком же, как на Жербунове и Барболине, и внимательно слушал черную эбонитовую трубку телефонного аппарата, прижимая ее к уху плечом. Его руки механически перебирали какие-то бумаги; время от времени он кивал головой, но вслух ничего не говорил. На меня он не обратил ни малейшего внимания. Еще один человек в белом халате и зеленых штанах с красными лампасами сидел на стуле у стены, между двумя высокими окнами, на которые были спущены пыльные портьеры.
Что-то неуловимое в обстановке этой комнаты заставило меня вспомнить Генеральный штаб, где я часто бывал в шестнадцатом году, пробуя себя на ниве патриотической журналистики. Вот только над головой господина в белом халате вместо портрета Государя (или хотя бы этого Карла, уже успевшего украсть кораллы у половины Европы) висело нечто настолько жуткое, что я закусил губу.
Это был выдержанный в цветовой гамме российского флага плакат на большом куске картона. Он изображал синего человека с обычным русским лицом, рассеченной грудью и спиленной крышкой черепа, под которой краснел открытый мозг. Несмотря на то что его внутренности были вынуты из живота и пронумерованы латинскими цифрами, в его глазах сквозило равнодушие, а на лице застыла спокойная полуулыбка – или, может быть, так казалось из-за широкого разреза на щеке, сквозь который была видна часть челюсти и зубы, безупречные, как на рекламе германского зубного порошка.
– Ну давай, – буркнул господин в халате и бросил трубку на рычаг.
– Простите? – сказал я, опуская на него глаза.
– Прощаю, прощаю, – сказал он. – Имея некоторый опыт общения с вами, напомню, что мое имя – Тимур Тимурович.
– Петр. По понятным причинам не могу пожать вам руки.
– Это и не требуется. Эх, Петр, Петр. Как же вы дошли до жизни такой?
Его глаза смотрели на меня дружелюбно и даже с некоторым сочувствием; бородка клинышком делала его похожим на земского идеалиста, но я многое знал о чекистских ухватках, и в моей душе не мелькнуло даже тени доверия.
– Ни до какой особенной жизни я не доходил, – сказал я. – А уж если вы так ставите вопрос, то дошел вместе с другими.
– Это с кем же именно?
Так, подумал я, началось.
– Вы, видимо, ждете от меня каких-то адресов и явок, правильно я вас понимаю? Но поверьте, мне совершенно нечем вас обрадовать. Моя история с самого детства – это рассказ о том, как я бегу от людей, а в этом контексте о других следует говорить только категориально, понимаете?
– Разумеется, – сказал он и что-то записал на бумажку. – Без всяких сомнений. Но в ваших словах противоречие. Сначала вы говорите, что дошли до своего нынешнего состояния вместе с другими, а затем – что бежите от людей.
– Помилуйте, – ответил я, не без риска для равновесия закидывая ногу за ногу, – противоречие только кажущееся. Чем сильнее я пытаюсь избежать общества людей, тем меньше мне это удается. Кстати говоря, причину я понял только недавно – шел мимо Исакия, поглядел на купол – знаете, ночь, мороз, звезды… да… и стало ясно.
– И в чем причина?
– Да в том, что если пытаешься убежать от других, то поневоле всю жизнь идешь по их зыбким путям. Уже хотя бы потому, что продолжаешь от них убегать. Для бегства нужно твердо знать не то, куда бежишь, а откуда. Поэтому необходимо постоянно иметь перед глазами свою тюрьму.
– Да, – сказал Тимур Тимурович. – Да. Когда я представляю себе, сколько с вами будет возни, мне становится страшно.
Я пожал плечами и поднял глаза на плакат над его головой. Все же, видимо, это была не гениальная метафора, а какое-то медицинское пособие. Может быть, часть анатомического атласа.
– Вы знаете, – продолжил Тимур Тимурович, – я ведь человек опытный. Через меня очень много народу тут проходит.
– О, не сомневаюсь, – сказал я.
– И вот что я вам скажу. Меня не столько интересует формальный диагноз, сколько та внутренняя причина, по которой человек выпадает из своей нормальной социально-психической ниши. И, как мне кажется, ваш случай очень прозрачный. Вы просто не принимаете нового. Вы помните, сколько вам лет?
– Разумеется. Двадцать шесть.
– Ну вот видите. Вы как раз принадлежите к тому поколению, которое было запрограммировано на жизнь в одной социально-культурной парадигме, а оказалось в совершенно другой. Улавливаете, о чем я говорю?
– Еще бы, – ответил я.
– Таким образом, налицо серьезный внутренний конфликт. Хочу сразу вас успокоить – с этим сталкиваетесь не вы один. И у меня самого имеется подобная проблема.
– Вот как? – спросил я с несколько издевательской интонацией. – И как же вы ее решаете?
– Обо мне потом, – сказал он, – давайте сначала разберемся с вами. Как я уже сказал, этот подсознательный конфликт есть сейчас практически у каждого. Я хочу, чтобы вы осознали его природу. Понимаете ли, мир, который находится вокруг нас, отражается в нашем сознании и становится объектом ума. И когда в реальном мире рушатся какие-нибудь устоявшиеся связи, то же самое происходит и в психике. При этом в замкнутом объеме вашего «Я» высвобождается чудовищное количество психической энергии. Это как маленький атомный взрыв. Но все дело в том, в какой канал эта энергия устремляется после взрыва.
Разговор становился любопытным.
– А какие, позвольте спросить, бывают каналы?
– Ну, если говорить грубо, их два. Психическая энергия может двигаться, так сказать, наружу, во внешний мир, устремляясь к таким объектам как… ну, скажем, кожаная куртка, роскошный автомобиль и так далее. Многие ваши сверстники…
Я вспомнил фон Эрнена и вздрогнул.
– Я понял. Не продолжайте.
– Прекрасно. А во втором случае эта энергия по той или иной причине остается внутри. Это самое неблагоприятное развитие событий. Представьте себе быка, запертого в музейном зале…
– Прекрасный образ.
– Спасибо. Так вот, этот зал с его хрупкими и, возможно, прекрасными экспонатами и есть ваша личность, ваш внутренний мир. А бык, который по нему мечется, – это высвободившаяся психическая энергия, с которой вы не в силах совладать. Та причина, по которой вы здесь.
Он определенно умен, подумал я. Но какой подлец.
– Я вам скажу больше, – продолжал Тимур Тимурович. – Я много думал о том, почему одни люди оказываются в силах начать новую жизнь – условно назовем их новыми русскими, хотя я недолюбливаю это выражение…
– Действительно, на редкость гадкое. К тому же перевранное. Если вы цитируете Чернышевского, то он, кажется, называл их новыми людьми.
– Возможно. Но вопрос, тем не менее, остается – почему одни устремляются, так сказать, к новому, а другие так и остаются выяснять несуществующие отношения с тенями угасшего мира…
– А вот это великолепно. Почти Бальмонт.
– Еще раз спасибо. Ответ, на мой взгляд, очень прост. Боюсь даже, что вам он покажется примитивным. Начну издалека. В жизни человека, страны, культуры и так далее постоянно происходят метаморфозы. Иногда они растянуты во времени и незаметны, иногда принимают очень резкие формы – как сейчас. И вот именно отношение к этим метаморфозам определяет глубинную разницу между культурами. Например, Китай, от которого вы без ума…
– С чего вы это взяли? – спросил я, чувствуя, как за моей спиной сжимаются туго стянутые рукавами кулаки.
– Так вот же ваше дело, – сказал Тимур Тимурович, поднимая со стола самую толстую папку. – Как раз его перелистывал.
Он бросил папку назад.
– Да, Китай. Если вы вспомните, то все их мировосприятие построено на том, что мир деградирует, двигаясь от некоего золотого века во тьму и безвременье. Для них абсолютный эталон остался в прошлом, и любые новшества являются злом в силу того, что уводят от этого эталона еще дальше.
– Простите, – сказал я, – это вообще свойственно человеческой культуре. Это присутствует даже в языке. Например, в английском. Мы, что называется, descendants of the past [1]. Это слово обозначает движение вниз, а не подъем. Мы не ascendants [2].
– Возможно, – сказал Тимур Тимурович. – Из иностранных я знаю только латынь. Но важно здесь другое. Когда такой тип сознания воплощается в отдельной личности, человек начинает воспринимать свое детство как некий потерянный рай. Возьмите хотя бы Набокова. Эта его бесконечная рефлексия по поводу первых лет жизни – классический пример того, о чем я говорю. И классический пример выздоровления, переориентации сознания на реальный мир – это та, я бы сказал, контрсублимация, которую он мастерски осуществил, трансформировав свою тоску по недостижимому и, может быть, никогда не существовавшему раю в простую, земную и немного грешную страсть к девочке-ребенку. Хотя с первого…
– Простите, вы о каком Набокове? – перебил я. – О лидере конституционных демократов?
Тимур Тимурович с подчеркнутым терпением улыбнулся.
– Нет, – сказал он, – я о его сыне.
– Это о Вовке из Тенишевского? Вы что, его тоже взяли? Но ведь он же в Крыму! И при чем тут девочки? Что вы несете?
– Хорошо, хорошо. В Крыму, – сказал Тимур Тимурович. – В Крыму. Мы говорили не о Крыме, а о Китае. И речь у нас шла о том, что для классической китайской ментальности любое движение вперед будет деградацией. А есть другой путь – тот, по которому всю свою историю идет Европа, что бы вы там ни говорили о языке. Тот путь, на который уже столько лет пытается встать Россия, вновь и вновь совершая свой несчастный алхимический брак с Западом.
– Замечательно.
– Спасибо. Здесь идеал мыслится не как оставшийся в прошлом, а как потенциально существующий в будущем. И это сразу же наполняет существование смыслом. Понимаете? Это идея развития, прогресса, движения от менее совершенного к более совершенному. То же самое происходит на уровне отдельной личности, даже если этот индивидуальный прогресс принимает такие мелкие формы, как, скажем, ремонт квартиры или смена одного автомобиля другим. Это дает возможность жить дальше. А вы не хотите платить за это «дальше». Метафорический бык, о котором мы говорили, носится по вашей душе, сокрушая все на своем пути, именно потому, что вы не готовы отдаться реальности. Вы не хотите выпустить быка на свободу. Вы презираете те позы, которые время повелевает нам принять. И именно в этом причина вашей трагедии.
– Все, что вы говорите, конечно, интересно, но слишком запутанно, – сказал я, покосившись на военного у стены. – И потом, у меня затекли руки. А что касается прогресса, то я могу вам коротко объяснить, что это такое на самом деле.
– Сделайте милость.
– Очень просто. Если сказать все то, о чем вы говорили, короче, то выйдет, что некоторые люди приспосабливаются к переменам быстрее, чем другие, и все. А вы когда-нибудь задавались вопросом, почему эти перемены вообще происходят?
Тимур Тимурович пожал плечами.
– Так я вам скажу. Вы, надеюсь, не будете спорить с тем, что чем человек хитрее и бессовестнее, тем легче ему живется?
– Не буду.
– А легче ему живется именно потому, что он быстрее приспосабливается к переменам.
– Допустим.
– Так вот, существует такой уровень бессовестной хитрости, милостивый государь, на котором человек предугадывает перемены еще до того, как они произошли, и благодаря этому приспосабливается к ним значительно быстрее всех прочих. Больше того, самые изощренные подлецы приспосабливаются к ним еще до того, как эти перемены происходят.
– Ну и что?
– А то, что все перемены в мире происходят исключительно благодаря этой группе наиболее изощренных подлецов. Потому что на самом деле они вовсе не предугадывают будущее, а формируют его, переползая туда, откуда, по их мнению, будет дуть ветер. После этого ветру не остается ничего другого, кроме как действительно подуть из этого места.
– Почему это?
– Ну как же. Я же ведь вам объяснил, что говорю о самых гнусных, пронырливых и бесстыдных подлецах. Так неужели вы думаете, что они не сумеют убедить всех остальных, что ветер дует именно оттуда, куда они переползли? Тем более, что ветер, о котором идет речь, дует только внутри этой идиомы… Но я что-то слишком долго говорю. По правде сказать, я был намерен молчать до самого расстрела.
Военный у стены крякнул и со значением посмотрел на Тимура Тимуровича.
– Я вас не познакомил, – сказал Тимур Тимурович. – Это полковник Смирнов, военный психиатр. Он здесь по другому поводу, но вашим случаем тоже заинтересовался.
– Очень польщен, полковник, – сказал я, наклоняя голову.
Тимур Тимурович наклонился над телефоном и нажал какую-то кнопку.
– Сонечка, пожалуйста, четыре кубика, как обычно, – сказал он в трубку. – Прямо у меня, пока он в рубашке. Да, а потом сразу в палату.
Повернувшись ко мне, Тимур Тимурович сокрушенно вздохнул и почесал бороду.
– Пока нам придется продолжить фармакологический курс, – сказал он. – Я вам скажу честно, что рассматриваю это как свое поражение – пусть маленькое, но все же поражение. Я считаю, что хороший психиатр должен избегать лекарств – они… Ну как это вам объяснить… Как косметика. Не решают проблем, а только прячут их от постороннего глаза. Но в вашем случае не могу придумать ничего другого. Вы должны сами прийти мне на помощь. Ведь чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть руку – надо, чтобы он в ответ подал свою.
Сзади открылась дверь, и я услышал тихие шаги за спиной. Мягкие женские пальцы взяли меня за плечо, и я почувствовал, как холодное маленькое жало, пройдя сквозь ткань смирительной рубашки, впилось мне в кожу.
– Кстати, – зябко потирая руки, сказал Тимур Тимурович, – хочу заметить, что на дурдомовской фене расстрелом называют не то, что мы колем вам – то есть обычную смесь аминазина с перепитином, а так называемый сульфазиновый крест, то есть четыре инъекции в… Впрочем, надеюсь, что до этого у нас не дойдет.
Я не повернул головы, чтобы посмотреть на женщину, делавшую мне укол. Я глядел на расчлененного сине-красно-белого человека на плакате, и когда он тоже начал глядеть на меня, улыбаться и подмигивать, откуда-то издалека донесся голос Тимура Тимуровича:
– Да, прямо в палату. Нет, мешать он не будет. Все-таки какое-то воздействие… Он ведь и сам скоро будет сидеть на этом стуле.
Чьи-то руки (кажется, это опять были Жербунов и Барболин) сдернули с меня рубашку, подняли за руки и, как мешок с песком, переложили на что-то вроде носилок. Затем перед моими глазами мелькнул дверной косяк, и мы оказались в коридоре.
Мое онемевшее тело перемещалось вдоль высоких белых дверей с номерами, а сзади раздавались искаженные голоса и смех переодетых матросов – кажется, они бесстыдно обсуждали женщин. Потом я увидел склоненное надо мной лицо Тимура Тимуровича – оказывается, он шел рядом.
– Вы, Петр, конечно, не Пушкин, но все же мы решили вернуть вас в третье отделение, – сказал он и довольно засмеялся. – Там сейчас еще четыре человека, так что с вами будет пять. Вы знаете, что такое групповая терапия по профессору Канашникову? То есть по мне?
– Нет, – с трудом промычал я.
Мелькание дверей перед глазами стало непереносимым, и я закрыл глаза.
– Говоря по-простому, это совместная борьба больных за выздоровление. Представьте себе, что ваши проблемы на время становятся коллективными, то есть каждый из участников сеанса в течение некоторого срока разделяет ваше состояние. Так сказать, отождествляется с вами. Как вы думаете, к чему это приведет?
Я молчал.
– Очень просто, – продолжал Тимур Тимурович. – После того как сеанс заканчивается, возникает эффект отдачи – совместный выход участников из состояния, только что переживавшегося ими как реальность. Это, если хотите, использование свойственного человеку стадного чувства в медицинских целях. Те, кто участвует в сеансе вместе с вами, могут проникнуться вашими идеями и настроениями на некоторое время, но, как только сеанс кончается, они возвращаются к своим собственным маниям, оставляя вас в одиночестве. И в эту секунду – если удается достичь катарсического выхода патологического психоматериала на поверхность – пациент может сам ощутить относительность своих болезненных представлений и перестать отождествляться с ними. А от этого до выздоровления уже совсем близко.
Я слабо понимал смысл его слов – если допустить, что он был. Но кое-что все же застревало в моем сознании. Укол действовал все сильнее – я уже ничего не видел вокруг, мое тело практически потеряло чувствительность, а душа погрузилась в тяжелое и тупое безразличие. Самым неприятным в нем было то, что оно словно бы овладело не мной, а каким-то другим человеком, в которого меня превратил впрыснутый мне препарат. А этого другого человека, как я с ужасом ощутил, и в самом деле можно было вылечить.
– Конечно, можно, – подтвердил Тимур Тимурович. – И вылечим, не сомневайтесь. Вообще, гоните от себя само это понятие – «сумасшедший дом». Воспринимайте это просто как интересное приключение. Тем более что вы литератор. Я тут порой такое слышу, что прямо тянет записать. Вот сейчас, например. В вашей палате будет крайне интересное событие – групповой сеанс с Марией. Вы ведь помните, о ком я говорю?
Я отрицательно покачал головой.
– Ну конечно, конечно, – сказал он. – Все равно случай весьма интересный. Я бы сказал, просто-таки шекспировская психодрама. Столкновение таких разных на первый взгляд объектов сознания, как мексиканская мыльная опера, голливудский блокбастер и неокрепшая русская демократия. Знаете эти мексиканские телесериалы «Просто Мария»? Тоже не помните? Понятно. Короче, считает себя героиней, этой самой Марией. Было бы самым банальным случаем, если бы не подсознательное отождествление с Россией плюс комплекс Агамемнона с анальной динамикой. Короче, прямо по моему профилю – раздвоение ложной личности.
О боже, подумал я, какие длинные у них коридоры.
– Вы, конечно, будете не в состоянии принять полноценное участие в сеансе, – продолжал голос Тимура Тимуровича, – так что можете спать. Но не забывайте, что в скором времени вам предстоит стать рассказчиком самому.
Кажется, мы въехали в какую-то комнату – заскрипела дверь, и я услышал обрывок смолкшего разговора. Тимур Тимурович поздоровался с темнотой, и ему ответило несколько голосов. Меня тем временем переложили на невидимую кровать, подоткнули под мою голову подушку и накинули сверху одеяло. Некоторое время я прислушивался к долетавшим до меня фразам (Тимур Тимурович объяснял каким-то людям, почему меня так долго не было), а потом полностью отключился от происходящего, потому что меня посетила одна чрезвычайно знаменательная галлюцинация личного характера.
Не знаю, сколько времени я провел наедине с совестью – в какой-то момент мое внимание привлек монотонный голос Тимура Тимуровича.









