
Полная версия
Пирог с крапивой и золой. Настой из памяти и веры
Кристина повздыхала для виду, но заключила, что перерыв в переписке только распалит страсть, а камины… Для чистки каминов у нее была личная Золушка.
Кася безропотно приступила к отработке чужого наказания. Помимо того что Кристина пообещала ей целый моток красных ниток, она наверняка свято верила, что старшую подругу наказали за пустяк.
И тут Кристина допустила вторую ошибку: ей следовало оставаться рядом с Касей, пока та чистит камины. Тогда в случае разоблачения она могла бы сказать, что добрая малышка помогает из сочувствия.
Но, как вы уже поняли, Кристина оставила Касю одну. Конструкция рушится именно в тот момент, когда ее сочтут нерушимой; легкий щелчок вышибает из-под ног опору.
Пани Мельцаж застукала девочку за оттиранием каминной решетки в полном одиночестве и по уши в золе. Бывшей балерине не хватало гибкости ума, но логикой она обладала железной, а потому мигом сообразила, что происходит. Касю тут же отвели в кабинет директрисы. Позднее никто не спрашивал девочку, что именно там произошло. Это было уже не важно.
Потому что Кася сломалась и выдала общий секрет – младших и старших девочек.
Последствия этого проступка легко просчитать. Новость мгновенно разлетелась по пансиону, и обе стороны были наказаны. Старших лишили возможности отправиться домой на пасхальную неделю, директриса написала всем родителям письма, в которых сообщала о проступке. Выпускницы, оскорбленные предательством, сделали вид, что младших больше не существует, и двери в интригующий мир полувзрослых захлопнулись.
А Кася?
Они расправились с ней быстро, жестоко. В клозете, который им было поручено отмыть от сливов до вентиляции, одноклассницы окружили Касю и дружно поколотили ее. В рот засунули грязную тряпку; кто‑то, кажется Юлия, держал Касю за руки, чтобы не барахталась, а остальные неумело, но яростно молотили ее кулаками.
Экзекуцию они закончили, вылив на обмякшую девочку полное ведро воды, оставшейся от мытья пола, со всей плавающей в ней дрянью – осклизлыми комьями чьих‑то волос, прутиками от метел и прочим мелким сором, – и оставили одну. Такой момент называют поворотным, словно щелчок тумблера. Молчаливая Кася, сидящая в луже коричневой от грязи воды, стала изгоем. И впервые привлекла мое внимание по-настоящему.
Как первоклассницы ни просили, но кудрявую Магдалену так и не перевели в другую комнату. Магде оставалось только посочувствовать – теперь ей предстояло делить дортуар с предательницей всю свою школьную жизнь.
Красную нить все же отменили. Слишком многие родители высказались против таких методов. Но и это было уже совершенно не важно.

Дневник Касеньки, весна 1922 года
Теперь мне приходится есть отдельно ото всех. Меня больше не приглашает за свой стол Кристина, не хлопает гостеприимно по скамейке рядом с собой. А девочки из нашего класса, стоит мне приблизиться, выливают мою кашу из тарелки в поднос. Роняют мой хлеб на пол и наступают на него. Со стороны кажется, что это случайность или я сама такая неловкая, но это не так. Просто их больше.
Сегодня мне плюнули в чай, а ведь я даже не попыталась с ними сесть.
Кстати, я до сих пор ношу табличку. Если утром забуду надеть ее на шею, то добавят еще несколько дней. На ней написано: «Умеренность». Но я не клала сахар в карман, это все они! За руку не схватить, на слове не поймать.
* * *Иногда я ненавижу их так сильно, что начинает болеть в груди. Руки тогда сами сжимаются в кулаки. Но у меня такие маленькие кулаки – что от них толку? Зато я умею терпеть. Сначала я хотела написать дедушке, чтобы он приехал и забрал меня домой, и я даже написала такое письмо, но его проверяла пани Новак. Она всегда проверяет, чтобы мы не слишком жаловались на пансион и не делали грамматических ошибок.
Прочитав письмо, она не отправила его в корзину для бумаг, но и не вложила в конверт. Она села напротив и заглянула мне в лицо. Все уже закончили свои письма и ушли, но мне все равно стало страшно, что она скажет о моей беде вслух.
– Послушай, Кася. Если хочешь, я напишу еще одно письмо пану Монюшко. Добавим его к твоему.
– Хочу, – ответила я и сразу расплакалась.
– Вот и славно. Дедушка приедет и заберет тебя. А потом подыщет тебе другой пансион или школу, и там будут другие девочки.
– Пусть будут другие, только не эти!
– Но они уже подружились между собой, а ты станешь новенькой. Ты уверена, что они примут тебя лучше, чем Магда и остальные?
Тут я примолкла. Да, я могла убежать, но кто знает, не станет ли хуже?
– И последний вопрос, Кася. Ты уверена, что вы никогда больше не сможете поладить?
Мне и раньше нравилась пани Новак. Самая молодая из наставниц, невысокая и кругленькая, она напоминала домашнюю кошку. У нее даже глаза были зеленые. Все называли ее Душечкой.
– А как мне с ними помириться? Они меня ненавидят за то, что я предательница, – так и сказала, не побоялась.
– Милая Кася. – Пани Новак улыбнулась и дотронулась до моей щеки. У нее теплые руки! – Раны твоего возраста заживают так быстро, обиды забываются. Все пройдет. Не успеешь оглянуться, как вырастешь в прекрасную, интересную девушку, и они сами захотят, чтобы ты была их подругой.
Она заметила, как я шмыгаю носом, и тут же предложила носовой платок.
– А что мне делать сейчас?
Душечка задумалась. Она смешно сидела, закинув ногу на ногу, будто мужчина, и скрестив руки на груди. Одним пальцем она постукивала себя по щеке, хмурилась и надувала губы. Специально смешно делала, чтобы я улыбнулась. Я и не удержалась.
– Думаю, вам нужна какая‑нибудь общая игра. Если все будут участвовать, то сблизятся. Обещаешь подумать?
– Да, пани Новак, я обещаю.
Дедушке я написала другое письмо, про отличные отметки и первые ростки в нашей теплице.
* * *В Библии написано, что нужно прощать своих врагов. Иисус прощал всех, учил подставлять другую щеку, и люди любили его и шли за ним. Это хороший пример.
* * *Обычно мы носим две тугие косы. От этих кос болит кожа на голове, но ходить растрепой нельзя – накажут. У Магдалины волосы завиваются, как пружины в часах, и она перевязывает их одной лентой надо лбом, когда никто из взрослых не смотрит.
Я ее не выдам.
А еще она поет, когда делает уроки. Тихо и без слов, но очень красиво. Она мечтает стать оперной певицей, как ее мама, и я не сомневаюсь, что однажды так и будет. В нашем хоре она уже лучшая, а потом пойдет учиться в консерваторию.
Магда замечательная, но уж очень заносчивая. Она с удовольствием оставила бы меня в этой комнате одну, но ей не разрешили. Я бы хотела, чтобы она снова была моей подругой. Но когда она так смотрит на меня, будто я дождевой червяк, так сразу жить не хочется. Она все время уходит из нашего дортуара в соседний, где они собираются все вместе и наверняка говорят про меня гадости.
Не представляю, что могло бы нас объединить. Даже если это будет самая увлекательная игра на свете.
* * *Плохие сны хороши тем, что их забываешь. Вроде было что‑то – липкое, непобедимое. Будто наблюдало за мной, не позволяло укрыться; прислушивалось, принюхивалось. Но когда просыпаюсь, не могу припомнить, кто там был, кто ходил за мной. Одна только тревога остается и сливается с тревогами и страхами дневными, как молоко течет в чай и смешивается с ним. Так и живу.
* * *Хорошая вещь дневник: как будто есть с кем говорить, и можно даже не стесняться показаться дурочкой или трусихой. Спасибо, дневник! Надеюсь, тебе нравится жить за стеновой панелью. Как будто у тебя своя комната.
* * *Сегодня я проснулась среди ночи и больше не смогла уснуть. Будто смерть ухватила меня костлявой ледяной рукой за горло. Кажется, я кричала, но никто не пришел. Наверное, мне показалось. Когда я посмотрела на Магду, она улыбалась во сне.
Я хочу домой. Я хотела бы быть рядом с мамой и папой, но для этого мне пришлось бы умереть.
* * *Пани Ковальская ведет у нас географию и ботанику. Она все время злится. Если бы я была директрисой нашего пансиона, я бы тоже злилась. Не знаю почему.
* * *У меня все ноги в волдырях. Нет, я не ходила в неудобных башмаках, просто в мои кто‑то наложил молодой крапивы! Как вам это понравится? Как вообще можно такое терпеть? Где взять силы? Кожа зудит и горит от маленьких жал. Скорей бы год кончился. Пойду готовиться к экзаменам. Босиком, вот как!
* * *У нас между комнатами очень толстые стены. Мне‑то все равно, а Магда иногда ворчит под нос. Через пару дней мы разъезжаемся по домам, и девочки уже вовсю скучают друг по дружке. По мне точно никто скучать не будет.
Так вот, между комнатой Дануты и Юльки и комнатой Клары и Марии стена потоньше, и они могут перестукиваться. А Магда не может. Она и так и сяк пыталась, даже каблуком от туфли, потому что он с набойкой. Но ничего у нее не вышло, никто ее не услышал, не ответил, только обои поцарапала. Я сделала вид, что ничего не заметила.
Я почти примирилась с тем, что все время одна. Хожу, ем, учу уроки – одна, одна, одна. Но тут меня настигла зависть, что мне даже постучать некому. За стеной у моей стороны комнаты – купальня с ванной и умывальниками. По ночам ее запирают, чтобы мы зря не лили воду.
Но вчера я постучала. Всего пару раз и легонечко. Просто чтобы попробовать.
И мне ответили.
Магда
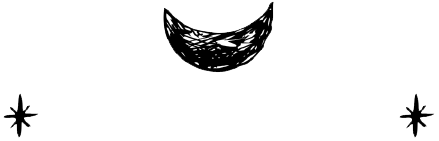
29 сентября 1925 г.
У меня освободилось достаточно времени, чтобы понять, как бездарно я тратила его раньше. Но теперь, когда я вижу свою цель ясно, будто за нее можно ухватиться рукой, я ее не упущу. Теперь я посвящаю все свободные часы подготовке к вступительным экзаменам. К тому же мне необходимо выправить оценки для аттестата и получить рекомендательные письма от двух наставниц.
Иногда предвкушение будущей жизни – жизни на другой ступени, далеко-далеко отсюда – становится таким ярким, что у меня сжимаются все внутренности и голова кружится.
Похоже на страх, но это не он. Наоборот.
Я больше никогда их не увижу, больше никогда. Эти стены, эти лица – я забуду их и стану счастливой, новой, взрослой, сильной. Цельной, а не склеенной наспех из острых обломков.
Под рукой я всегда теперь держу папку с вырезками из газет. Я начала собирать их год назад, но как‑то забросила. Как только беспокойные мысли отвлекают меня от занятий, достаточно только взглянуть на заголовки статей: «Выпускницы Ягеллонского университета», «Ягеллонский университет принимает девиц на три новых направления», «Университет Кракова ожидает студентов». Я гляжу на фотографии и твержу себе, что ничем не хуже. Я поступлю в университет, окончу его с отличием и сама построю свою судьбу.
Думаю, это будет факультет истории или естественных наук. В общем, такое дело, чтобы потом можно было путешествовать по всему миру с экспедициями: обнаружить никому не известный вид бабочек; отыскать затерянный город, как недавно нашли Трою; знакомиться с людьми с бесконечным запасом историй о приключениях. И, может быть, даже встретить отважного охотника на тигров.
Как бы то ни было, если я провалю экзамены (об этом даже думать не хочется), домой я не вернусь. Без отца дом детства стал мне чужим, по его комнатам и залам ходит незнакомая женщина, по ошибке зовущая себя моей матерью. Она так беззащитно улыбается, растягивает полные красные губы, шепчет слова оправдания. Карие, как у испанки, глаза виновато бегают.
Впрочем, ее раскаяния хватает ненадолго. Тогда она начинает кричать, пускает в дело всю мощь своего золотого горла и весь свой артистизм. И в одно мгновение волшебство сцены превращает ее в жертвенную голубку, а меня – в неблагодарное чудовище, которое упивается ее слезами.
Каково это – быть профессиональной истеричкой?
Неделю назад я получила письмо от своей двоюродной тетки Целестины. Она живет в Кракове с мужем и маленьким сыном и тоже не в восторге от поступка моей матери. Тетя Цеся согласна выделить мне комнатку, если я буду помогать по хозяйству и не стану слишком уж позорить ее перед соседями.
Но есть проблема: мне никак не удается заниматься в спальне. Меня воротит от этого места, его вечной полупустоты и незавершенности, но каждый вечер я возвращаюсь, ныряю под одеяло, вжимаюсь в матрас и стараюсь уснуть как можно скорее. Иногда мне это удается. Иногда нет.
Когда я закрываю глаза, дортуар исчезает. И я тоже как бы исчезаю. Шевелиться нельзя – это правило: любой звук нарушит эту магиюне-существования, и тогда сон улетит, а я останусь в чистилище. Так что спальня для меня является чем‑то вроде двери между сегодня и завтра, не более того.
Библиотека, к сожалению, тоже не лучшее место для занятий. Я появляюсь там, чтобы сдать или получить книги, а после пускаюсь на поиски убежища. Каждый раз нового, чтобы никто не приписал мне новую привычку. Привычки наводят на след, это знает любой охотник.
Сегодня мне везет. Я натыкаюсь на пустую классную комнату с распахнутыми в осенний день окнами. Как и всюду на третьем этаже, здесь свежо, почти холодно, в противовес спальням, в которых странным образом копится весь жар старого особняка.
Клены за окном пылают, а остальной мир меркнет, будто подернутый тонким слоем золы. Листья с едва различимым шепотом опускаются на землю, укрывая на зиму мелких многоногих тварей и собственных павших собратьев. Соблазн устроиться за столом у окна и дышать этим тревожным осенним воздухом велик, но я умею взять себя в руки.
В классной комнате царит безупречный порядок. На грифельной доске не видно ни единого развода, кусочки мела лежат по размеру, в корзинке для мусора пусто. Сразу ясно, что это класс пани Ковальской. Она просто чокнутая во всем, что касается порядка.
Располагаюсь за партой у входа в класс. Самое глупое, что можно было сделать, – это загнать себя в угол, а крайняя парта оставляет пространство для маневра. Я еще не уверена, собираются ли они избить меня или просто вывернут душу наизнанку, как колыбель для кошки. Как бы то ни было, я не собиралась сдаваться и возвращаться к ним. Не после того, что случилось.
Я быстро просматриваю свои конспекты и карандашные пометки на полях книги. Нужно написать сочинение по литературе. План уже сияет отточенными гранями у меня в голове, я чувствую, как рождаются уверенные, сильные строки. Металлическое острие пера касается гладкого полотна бумаги, и вот летят буквы с сильным наклоном вправо, будто торопятся добраться до края страницы.
«Макбет соблазняется властью не потому, что она привлекает его изначально. Он видит в ней убежище от прочих бед и покоряется жене, которая еще более несчастна, чем он сам. И от нее Макбет зависим гораздо сильнее, чем от воли своего короля или от Божьей воли».
И тут, оборвав меня на полуслове, дверь скрипит, и на пороге возникает девчонка. Я замираю с перьевой ручкой над тетрадью, она замирает зверьком, прижавшись спиной к полотну двери. Я могу различить, как за выпуклыми стеклами очков расширяются от ужаса ее зрачки. Она меня боится? В этот момент я слышу шаги в коридоре. Шесть пар ног, не меньше, приближаются. Первогодка скулит и ползет вдоль стены, подальше от входа. Нет, она боится не меня, а их.
Но мне нет дела до возни малолеток. Пусть разгребают свое дерьмо сами. И я почти встаю, чтобы выставить ее за дверь, подхватить за шиворот и выволочь вон из моего убежища. Но что‑то мелькает в ее карих глазах. Что‑то знакомое, ранящее.
Я молча киваю малявке на шкаф с гербариями, и она скрывается за ним быстро, как мышонок. Ровно в тот же миг шаги останавливаются напротив двери классной комнаты.
– Говорю я вам, сюда побежала.
– А если бежала, то могла и зайти.
– Может, ну ее, уродину? – ноет чей‑то голос. – Что нам, заняться нечем, за ней гоняться?
– Если хочешь, иди отсюда. Иди-иди, катись, – шипят ей в ответ. – А мы останемся здесь и будем учить хорошим манерам тех, кто нам не нравится.
С этими словами первогодка толкает дверь классной комнаты, в которой притаились не одна, а две парии. Но в их глазах я не могу быть изгоем. Я старшеклассница и внушаю им тот же трепет, какой сама испытывала, глядя на Кристину, Божену и остальных.
– Чего надо? – осведомляюсь грубо. – Не видите – занимаюсь?
Услышав волшебное слово, первогодки делают шаг назад, но самая бойкая из них, наоборот, наклоняется через порог, покачнувшись на пятках, и с нагловатой улыбочкой спрашивает:
– Панна, а тут девочка не проходила? Из нашего класса.
– А похоже, что я буду рада компании? – огрызаюсь я.
Большинство уже скрылось из виду, но их предводительница не спешит уходить.
– Вы, если ее увидите, передайте, что мы обыскались.
– Сами передавайте. Брысь пошли, мешаете.
Наконец исчезает и она.
Жду, пока танцующие и подскакивающие шаги в коридоре утихнут, и только потом смотрю на малявку, затаившуюся за шкафом с потрепанными учебниками и гербариями. Кажется, она не вполне поняла, что произошло, и по-прежнему вжимается в стену, будто хочет врасти в нее.
Я не стараюсь разглядывать ее, но внешность первогодки сразу бросается в глаза: начиная с проволочных очков на крупном носу и заканчивая широкими щиколотками, на которых гармошкой собрались шерстяные чулки. Глаза у нее большие, но за стеклами это почти незаметно. Волосы волнистые – свободолюбивые короткие прядки торчат одуванчиковым нимбом, завиваются на лбу, выбиваются из тугих кос. Страшно подумать, как часто ей придется ходить с «Опрятностью».
– Они ушли, – говорю я девчонке. – Можешь не прятаться.
Но она только моргает и шумно дышит, будто я сейчас вскочу из-за стола и ударю ее. Я фыркаю и отворачиваюсь.
Пытаюсь вернуться к сочинению, но мысли уже скомкались, смешались, как старые нитки. Нещадно зачеркиваю корявые предложения, чистый лист уже не вдохновляет, а только намекает, какое я ничтожество. Начинаю заново и заново, но без толку. А ведь так хорошо писалось! И кто только…
Тут я понимаю, что малявка до сих пор находится в классной комнате. Отклеилась от стены, подобралась на цыпочках и смотрит мне через плечо.
Вот кто виноват.
– Ты еще здесь? – Я надеюсь, что выгляжу достаточно раздраженной, чтобы ее тут же ветром сдуло. Клара как‑то говорила, что у меня глаза злые, змеиные.
Девчонка пятится:
– Да я, я только…
– Я же говорила, что мне нужно заниматься! И хочу, чтобы мне не мешали, понятно?
– Понятно, только… – лепечет малявка.
Мое рабочее настроение совершенно испорчено. День заканчивается, но я так толком ничего и не сделала. Еще и это недоразумение с растрепанной головой. Неудивительно, что остальные выбрали мишенью именно ее.
– Хорошо, – демонстративно закрываю книги и папку с вырезками. – Можешь оставаться здесь, а я ухожу.
Я уже закрываю дверь, когда до меня доносится ее бормотание:
– …только хотела сказать спасибо.
* * *Двери в дортуары не принято запирать. Наставницы должны в любое время иметь возможность проверить, на месте ли мы. До нынешнего года они не слишком часто пользовались этим правилом, но теперь зачастили. Но я плевала на это и, как только оказываюсь в своей комнате, подпираю дверь стулом. Пока никто не сказал мне ни слова. Может, жалеют.
Сегодня я поступаю ровно так же: упираю стул задними ножками в пол, спинку подсовываю под ручку двери. Теперь ее можно только тараном выбить.
Полупустая комната сжимается вокруг меня. Со второй кровати убрали все вещи, даже матрас, и теперь она щерится голой панцирной сеткой. Время от времени я порываюсь ее чем‑нибудь застелить, но лишние тени здесь ни к чему, и без них тошно. Весь последний месяц меня не оставляет мысль, что наша комната с бледно-голубыми стенами стала похожа на больничную палату. Одну пациентку уже выписали, скоро мой черед.
Пока не прозвонили отбой, пытаюсь учить на завтра немецкий и решаю задачи по геометрии. За окном темнеет, и клен настойчиво скребется облетелыми ветками в стекло.
Едва прозвонили третий звонок на отбой – наставницы дергают за шнурок в учительской, а колокольчики звенят в каждой спальне, – я гашу свет и забираюсь в кровать. Остается только гадать: усну я сегодня или нет? Во всем здании с тихим гулом гаснет электричество.
Я замираю, замедляя дыхание, уже привычно вцепившись ногтями в простыню, и начинаю погружаться в дрему.
События прошедшего дня мелькают перед глазами, как черно-белые кадры синема, только без бойкого аккомпанемента тапера. Утро – шабаш наблюдает за мной; уроки в тягостном молчании – кто‑то написал записку, а я не стала читать; пустой класс и клены в окнах – маленькая пария с ее ненужным «спасибо».
Спасибо, Блаженная Иоанна, что даешь нам кров.
Я почти уплыла, почти стала невесомой, но из этого состояния меня вырвал звук поворачивающейся ручки. Я подскочила в кровати, убрала с лица волосы.
Кто‑то пытается открыть дверь, но тщетно – стул надежно удерживает ее.
– Кто там? – негромко, но грозно говорю я. – Убирайтесь!
– Это я, Юлия.
– Убирайся, Юлия. Спасибо, что назвалась, и я могу послать тебя к черту вежливо!
Она глухо посмеивается, и я невольно представляю, как ее длинный нос отбрасывает тень на мою дверь.
– Чего ты так боишься? Мы ведь не звери какие, мы подруги. Все еще подруги. Просто нам нужно собраться и поговорить, как прежде. Миндальное печенье и страшные истории, помнишь, Магда? Помнишь наши танцы в лесу и костер? Мы столько лет были как сестры.
– Но не… – Голос предательски прерывается. – Но не для нее. Мы не были сестрами для Каси.
Юлия молчит, постукивая ногтями по дереву. Я хочу, чтобы она заговорила. Пусть мне будет больно и тошно, но пусть скажет сама.
– Не были. Но мы не виноваты в том, что случилось. Это…
– Нет. – Я вскакиваю и приближаюсь к двери, насколько это возможно, чтобы не потревожить стул. – Виноваты, виноваты! За каждый день, за каждое слово мы будем расплачиваться до конца жизни!
Дверь снова дергается.
– За каждую ее слезу!
Меня начинает трясти, будто дверная ручка спрятана у меня между ребер.
– Ритуал ни при чем! Мы убили Касю!
Зажимаю рот ладонями, но поздно. Слова уже вырвались.
– Тшш, не кричи, сумасшедшая!
Юлия больше не ломится ко мне в комнату. Надеюсь, теперь она поплетется к себе. Так и выходит, только напоследок она шипит что‑то злобное о том, что раз я такая дура, то и разбираться с проблемами мне самой.
Стою еще минуту, пытаясь успокоиться, но это непросто. Каждый день я начинаю с попытки забыть о том, как мы загубили живого человека, как толкали ее все глубже и глубже, как улыбались и переглядывались за ее спиной. И каждый день я завершаю тем же.
Наконец я замечаю, что все это время простояла босиком на полу, и поспешно забираюсь обратно в кровать. Та уже успела пропитаться по`том и теперь мерзко-сырая. Кажется, ко мне снова пришла одна из ночей, когда я не смогу покинуть тюрьму собственных мыслей.
Почему мы так яростно отвергли Касю? За что? За то, что она наябедничала? Да любая из нас проболталась бы, попав в лапы пани Ковальской. И я, и Юлька, и Мария, и Клара. Данута покочевряжилась бы подольше, но и ей бы язык развязали. А дружба со старшими? Они бы все равно забыли о нас, как о старых тряпичных куклах, из которых вырастают в первую очередь.
Ничто из пустых ценностей, которыми мы так дорожили, не стоило той боли, которую мы вместе причинили Касе. И даже потом, когда появилась игра и мы стали заодно, когда ей становилось то хуже, то лучше, – она навсегда осталась одна. А из меня вышла дерьмовая лучшая подруга.
Дьявол кроется в мелочах, и по крупицам он прибирает к рукам наши души.
Я дрейфую на волнах своей памяти, то и дело содрогаясь от стыда и омерзения, вспоминая обо всем, что делала и говорила. Это не сон, не греза и даже не кошмар – это транс, где я блуждаю по коридорам прошлого, и каждый шаг отзывается битым стеклом. Сворачиваюсь клубком, но это не помогает почувствовать себя в безопасности.
Снова кто‑то пытается войти в мою комнату. Я подскакиваю, истерзанная бессонницей, взмокшая с головы до ног и бесконечно обозленная.
– Кто еще?! Чего вам от меня нужно?!
На этот раз мне не отвечают.
Несколько секунд из коридора не доносится ничего, кроме тишины, но я продолжаю всматриваться в темень. Под дверью явно виднеются тени ног. Кто это? Юлия вернулась и продолжает играть со мной в дурацкие игры? Или другие испытывают меня на прочность, ожидая, что я закричу во весь голос, не справившись с нервами? Или же это одна из наставниц ждет, чтобы я встала и открыла дверь?





