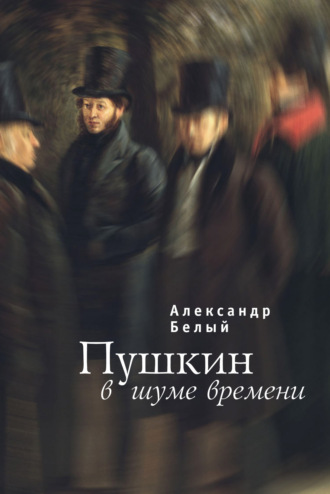
Полная версия
Пушкин в шуме времени
Это перевод Пастернака. В оригинале: “that noble and most sovereign reason, like sweet bells jangled, out of time and harsh”. Любопытен комментарий к слову jangled в этом современном переиздании Шекспира[55]. Оно означает не согласный звон колоколов, не гармонию звучания, но случайные удары, разнобой. Гармония, которая управляет музыкой, часто использовалась для сравнения с гармонией законов, управляющих миром.
Николка у Пушкина столь же безумен, как и Гамлет: «Хоть связи нет в его словах, в них нет безумья». Тут в самом деле повторишь за Пушкиным, что его «юродивый есть малый презабавный». Но вернемся пока на русскую почву.
В том же письме к Вяземскому, что мы привели раньше, есть весьма примечательная фраза: «В самом деле не пойти ли мне в юродивые, авось стану блаженнее!» Здесь важна не только смена колпака, но и осведомленность Пушкина в том, что во времена Годунова в юродивые действительно можно было «пойти», т. е. стать юродивым, тем самым «гунявым, слюнявым, трясущим вшивой рогожей». Известны примеры, как пишут признанные специалисты по древнерусской культуре, когда писатели уходили в юродство и, наоборот, были юродивые, возвращавшиеся к писательству. «Среди юродивых были не только душевно здоровые, но и интеллигентные люди. Парадоксальное на первый взгляд сочетание этих слов – „юродство“ и „интеллигентность“ – не должно нас смущать. Юродство действительно могло быть одной из форм интеллигентного и интеллектуального критицизма»[56]. Тогда тем более важно расшифровать смысл слов пушкинского Железного колпака.
По мнению В. Непомнящего, Борис – не просто убийца, он – детоубийца. «Вершина сцены у собора – имя Ирода, устроившего „избиение младенцев“ с целью уничтожить одного младенца – Сына Человеческого», – пишет критик[57]. С этой точки зрения, действительно протягивается ниточка к тому, что именно Богородица не велит Николке молиться за Бориса. Но, правильно почувствовав самый нерв заданной Пушкиным метафоры, В. Непомнящий все же делает логический скачок: детоубийство не является достаточным основанием для параллелизма Борис – Ирод. Даже будучи детоубийцей, Годунов не заслуживал анафемы – это грех «земной», тяжелый, но не сверхтяжелый. Юродивый Никола Салос, спаситель Пскова, пугал Ивана Грозного, «клялся, что царь будет поражен громом, если он или кто-нибудь из его воинов коснется во гневе хотя единого волоса на голове последнего ребенка»[58]. Обида ребенка здесь – мера малости возможного преступления царя. В те времена к детям испытывали далеко не такие по интенсивности доброжелательства чувства, как нынче. «Младенец – одновременно персонификация невинности и воплощение природного зла. А главное – он как бы недочеловек, существо, лишенное разума», – пишет специалист по этнографии детства[59]. «Характерно, что Руссо, который считается „родоначальником“ идеи родительской любви, – его „Эмиль“ <…> послужил поворотным пунктом европейского общественного мнения в этом вопросе, – собственных детей <…> отдавал в приют, не испытывая особых угрызений совести»[60]. Еще более важно, какой поворот отношения к детям давали чувства «гражданские», проповедовавшиеся, скажем, молодым Пушкиным:
Тебя, твой трон я ненавижу,Твою погибель, смерть детейС жестокой радостию вижу.В конце драмы народ именно с этой «жестокой радостью» мчится на расправу с детьми «тирана». «Тема детей», конечно, есть в «Годунове», но юродивый не быстр на сантименты.
Мы не учитываем до сих пор, что пушкинский персонаж унаследовал от настоящих юродивых не только головной убор, но и необычный способ выражения своих инвектив, что он объъясняется с царем на языке «корпоративного кода». Его речь содержит в себе загадку, которую царь может или должен понять. Более того, как отмечают Д. С. Лихачев и А. М. Панченко, «иногда перед царем юродивый разыгрывал целый спектакль, но спектакль обязательно загадочный»[61]. Николка разыгрывает спектакль с участием детей и публики, создавая к моменту выхода царя из собора ситуацию «Обижаемый Николка». С этим он и встречает выход царя:
Борис, Борис! Николку дети обижают.Внимание Годунова привлечено («О чем он плачет?»), и тут Николка произносит свою «просьбу»:
Николку маленькие дети обижают… Вели их зарезать,как зарезал ты маленького царевича.Эти слова юродивого рассматриваются обычно как прямое, брошенное в лицо от имени народа обвинение Годунову в убийстве. Так именно интерпретируют их и авторы «Смехового мира Древней Руси», мнение которых наиболее весомо, поскольку исходит из основательно рассмотренного феномена юродства: «У Пушкина обижаемый детьми юродивый – смелый и безнаказанный обличитель детоубийцы Бориса Годунова. Если народ в драме безмолвствует, то за него говорит юродивый – и говорит бесстрашно»[62]. Все ли здесь верно?
Воспользуемся материалом, данным нам самими авторами. Мог ли юродивый, будучи человеком обостренной совести, обвинять Годунова, если он не знал самого факта с безусловной достоверностью, а опирался на молву? В драме названы свидетели убийства, Пимен и Шуйский, но не юродивый. Ведь если молва ошиблась, то он виновен перед Богом в неправедном оговоре царя.
Пушкинисты знают, насколько точен Пушкин в выражении своей мысли, знают и то, насколько легкость пушкинского языка, создающая ощущение беззаботности, «коварна». «Пушкин, описывая художественную подробность, делает это легко и не заботится о том, будет ли она замечена и понята читателями», – цитируя это замечание Толстого, М. С. Альтман добавляет: «Из-за этого якобы „беззаботного“ отношения Пушкина к своим произведениям они еще во многих отношениях до сих пор полностью не разъяснены»[63].
Так ли беззаботно построена, так ли односмысленна тирада Николки? Ведь в ней обвинение как бы подвешено в воздухе: в «(не) убей этих, как (не) убил того», содержится скрытая возможность невиновности Годунова. Этой тонкой нюансировки нет у эпигонов, «поправлявших» Пушкина.
Например, у М. Е. Лобанова юродивый говорит, что сам был свидетелем убийства, а на прямой вопрос Годунова (которого нет у Пушкина, и это примечательно), кто же этот убийца, в лицо и «бесстрашно» отвечает «Ты!». Есть разница в этическом слухе? Бесспорно. Поэтому не будем жалеть труда на подробный разбор того, что же значит разыгранная сцена, в каких плоскостях разворачивается смысл его слов.
Речь юродивого построена, как умозаключение по аналогии: есть посылка и вывод, связанные союзом «как», обозначающим зависимость одной части высказывания от другой[64]. Самое существенное в аналогии состоит в подразумеваемой взаимообусловленности признаков того объекта, с которым проводится параллель[65]. Из того, что дети «обижают», с необходимостью должно следовать, что их должно зарезать. В силу какой необходимости – это уж известно ему, Годунову, ибо, подчиняясь ей, он и убил маленького царевича. Для полноты аналогии требуется, чтобы и «маленький царевич» был, как и «маленькие дети», злым, способным обижать. Об этом ничего не говорится у Пушкина, но у Карамзина как раз эта сторона дела выписана тщательно. «Годунов прибегнул к вернейшему способу устранить совместника, оправдываясь слухом <…> о мнимой преждевременной наклонности Димитриевой ко злу и к жестокости: в Москве говорили <…>, что сей младенец, еще имея не более шести или семи лет от роду <…>, любит муки и кровь; с весельем смотрит на убиение животных, даже сам убивает их <…>. Царевич <…> велел сделать из снега двадцать человеческих изображений, назвал их именами первых мужей государственных, поставил рядом и начал рубить саблею: изображению Бориса отсек голову, иным – руки и ноги, приговаривая: „Так вам будет в мое царствование“»[66].
С помощью карамзинских сведений можно пересказать фразу Николки более вразумительно: «Убей этих злых детей точно так же, как ты убил злого царевича».
Мы почти у цели, уже сейчас можно было бы замкнуть загадку юродивого с его же ответом-приговором. Останавливает только невыявленный «необходимый характер связи между признаками», как того требует аналогия; в нашем случае – между «злой» и «опасный». М. Н. Погодин, например, сильно сомневался в достоверности карамзинской интерпретации мотивов поведения Годунова и в слухах, «коими правитель, по мнению историографа, приготовлял будто легковерных людей услышать без жалости о злодействе!!» (VII, 564). Пушкин Карамзина защищал, а в своей драме позволил себе «славные шутки», позволяющие искать нужный ответ совсем в другом месте.
Начнем издалека и выпишем тираду Годунова, неловкость которой в устах русского царя первым отметил Булгарин:
Достиг я высшей власти <…>Но счастья нет в моей душе. Не так лиМы смолоду влюбляемся и алчемУтех любви, но только утолим…Не мог богомольный русский царь 17-го столетия, примерный муж и отец, сравнивать свою участь с любовными утехами. «В устах какого-нибудь рыцаря Тогенбурга эти слова имеют силу и значение: но в устах русского царя, Бориса Годунова, это анахронизм!»[67]. Мысль верная, только немцев Булгарин помянул не по делу. Тяга к «мгновенным обладаниям» (Булгарин) – болезнь французская, и Пушкин для детали, штриха к характеристике царя мог воспользоваться анекдотом, рассказанным, например, тем же Карамзиным: «Желание понравиться госпоже Вилет заставило Гельвеция написать книгу de 1`Esprit («О уме»). Он сочинил первую главу для того, чтобы изъяснить ей одно место в Локке. Любовь к прекрасному полу сделала Гельвеция автором[68].
Может быть, сходство Годунова как женолюба и поборника пользы с французским мыслителем есть всего лишь игра всесильного бога деталей. Но все же рискнем поинтересоваться мыслями Гельвеция о детях и увидим, насколько близко с ними перекликаются слухи, распускавшиеся Годуновым о злом Димитрии. «Если обратиться к опыту, можно узнать, что ребенок топит мух, бьет собаку, душит воробья, что, не родившись гуманным, ребенок обладает всеми пороками взрослого человека; дети обмазывают горячим воском майских жуков, жуков-оленей, обряжают их, играют ими в солдатики и ускоряют таким образом их смерть»[69]. Здесь же найдем и интересующую нас необходимостную связь между «злой» и «опасный». Ребенок «сделает за погремушку то, что взрослый человек из-за титула или скипетра». Существенно, что цитированный выше пассаж о «данных опыта» начинается со слов: «Горе государю, доверяющему природной доброте характеров». Теперь, возвращаясь к юродивому, кажется совсем понятным, почему копеечка попала к нему в руки, почему показана мальчишкам. «Сильные дети» отнимают ее. По словам Гоббса, на которые обращает внимание Гельвеций, «сильный ребенок есть злой ребенок», т. е. по логике Годунова, как показал ему юродивый, все «дети» опасны царю, всех их он должен «избить». Борис – не отец своим подданным, детям, он антиотец, Ирод.
Юродивый знает о Годунове больше, чем тот предполагал. Но зачем Николке это нужно, зачем он разыгрывает эту сцену? Зачем, если слова «Убей их» заглушают остальные, они первыми вместе с несомым ими обвинением царя в убийстве влетают в уши и Годунова, и бояр, и народа? Зачем, если Годунов практически ничего не отвечает и уходит? Ответа пока нет. Но повернем магический кристалл так, чтобы сцена оказалась в свете Шекспира и выявилось сходство не только между безумием Николки и Гамлета, но и между королями.
Подобно Клавдию, Годунов достиг своей цели темным деянием, оба они – узурпаторы, оба оправдывают свое преступление благом народа и государства, оба возвели в ранг должного и достойного доносы, слежку, казни. И Николка, и Гамлет узнают о преступлении косвенным путем: один из молвы, другой – от призрака. Обоим этого недостаточно, и оба они разыгрывают перед высокопоставленными убийцами сходные сцены: Гамлет – с помощью бродячих актеров, Николка, – скажем, следуя Лихачеву и Панченко, – с помощью народного театра. И у Пушкина, и у Шекспира короли реагируют на показанное сходным образом – уходом. Клавдий встает и покидает зал, прерывая тем самым спектакль и выдавая себя с головой. Театральное следствие полностью достигло цели. Вослед уходящему Годунову Николка произносит свое «заключение по делу». Оба актера назвали громко, вслух, перед всем миром своих царей-королей убийцами. Какова реакция «всего мира»? Двор Годунова возмущен:
БояреПоди прочь, дурак! Схватите дурака!Возмущен не царем-убийцей, а дураком. Какова реакция датского двора? «Все возмущены происшедшим скандалом, лично задеты неприличным поведением принца. Весь двор теперь сплотился вокруг убийцы» – писал Л. Пинский[70]. Нас, читателей, не удивляло до сих пор, что знавший о преступлении Шуйский ловко выручает Годунова, вовсе не стремится его разоблачить, никак не стремятся сделать это бояре во время невольного саморазоблачения Годунова при речи патриарха Иова. Ведь бояре прекрасно поняли, что задало работу потовым железам царя. Двор Годунова молчал потому же, почему и двор Клавдия: «Это круговая порука господствующей касты, санкция для коварной политики интриг, оправдание прошлых и будущих, тайных и явных преступлений и, конечно, во имя блага государства и блага народа»[71]. Мы вполне вправе полагать, что Л. Пинскому помогли найти точные и сильные слова не только талант исследователя и писателя, но и вполне определенное понимание происходившего в его собственное время, прекрасно манипулировавшее обоими названными благами. Николка мог бы сказать словами Гамлета, во что превратилась Россия у Годунова – в тюрьму.
На этом чисто мирском прочтении сцены можно было бы остановиться, если бы за строкой «Нельзя молиться за царя Ирода» не последовала бы еще одна: «Богородица не велит!», вносящая дополнительный аспект в мысль Николки, аспект, отодвигающий тему детей на второй план. В варианте было: «Христос не велит», т. е. материнская интонация не смещала внимания читателя в свою сторону.
Взгляд на свое время со стороны – прием философских повестей Просвещения. Чацкий видит Москву «глазами» ума. Под влиянием Шекспира этот прием иначе заработал в руках Пушкина. У Гамлета, принца датского, глаза виттенбергского студента. Но мотив «чужестранца в своем отечестве» резко усложнен «надтреснувшим колоколом». Мысль о безумии Пушкин обдумывал, но один из аспектов этого феномена, по-видимому, его тревожил. Позже он напишет:
Не то, чтоб разумом моимЯ дорожил; не то чтоб с нимРасстаться был не рад <…>И я глядел бы, счастья полн,В пустые небеса.В этом стихотворении сквозные штрихи – безумие, пустые небеса, тюрьма, как будто оно вышло из атмосферы «Бориса Годунова». Тюрьма при пустых небесах. Превращение умного безумца в юродивого обусловлено не только удачно найденным ходом для пересадки шекспировского приема на русскую почву. Николка – странник в своем отечестве, но «странность» задана, помимо прочего, и отличием его пути от пути мирского. Жесткость его вердикта в отношении Годунова говорит о том, что грех Бориса превышает меру допустимого для прощения человека. В чем здесь дело?
Чтобы разобраться в этом, надо представить себе, в каком объеме легенда об Ироде присутствовала в сознании широкого, не специально богословски образованного читателя. Обратимся к учебнику закона божьего «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя Мира» (настольная книга для семьи и школы), выпущенному в 1892 году с разрешения С.-Петербургского Духовного цензурного комитета. Что там говорится об Ироде Великом?
«Ирод Великий, сын Идумеянина Антипатра, родился за 60 лет до Рождества Хр.; был царем иудейским, когда родился Иисус Христос. Царствование этого Ирода наполнено множеством убийств; он <…> избил 14000 младенцев. По преданию, Ирод был заживо „съеден червями“ (с. 166). В этом официально одобренном учебнике есть весьма интересная для нас ошибка. Последняя фраза относит к преданию историю уже не Ирода Великого, а Ирода Агриппы I. (Деян. 12..-11, 19–23). Очевидно, что и в пушкинское время масса верующих не отличала одного Ирода от другого, потому что в таком виде миф об Ироде лучше отвечал моральному ожиданию наказания за преступление. Тогда мы имеем полное право сопоставить историю Агриппы I с историей Годунова. Наиболее важны для нас пп. 20–23 из «Деяний апостолов».
20. Ирод был раздражен на Тирян и Сидонян; они же, согласившись, пришли к нему, и <…> просили мира, потому что область их питалась от области царской.
21. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним;
22. а народ восклицал: это голос Бога, а не человека.
23. Но вдруг Ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв изъеден червями, умер.
А что с Иродом-Годуновым? После сцены с юродивым, расположенной в самом центре пушкинской драмы, Годунов появляется один раз – его жизненного (и сценического) пространства осталось на то, чтобы умереть. При каких обстоятельствах? Мы узнаем, что «привели гостей иноплеменных». Борис, подобно Агриппе, «говорил к ним с возвышенного места»
На троне он сидел…Впечатление, что Пушкин строил эту сцену по известной ему модели, укрепляется при сравнении с соответствующим местом у Карамзина. Там царь обедал со знатными иностранцами и «испустил дух в той же храмине, где пировал». В пьесе удар настигает Бориса на троне.
На троне он сидел и вдруг упал;Кровь хлынула из уст и из ушей…Подчеркнем – из уст (не как у Карамзина – «из носу, ушей и рта, лилась рекою»), из уст, которые «не воздали славы Богу».
Что значит для страны это невоздание? Что годуновская Россия оказывается выведенной на обочину истории, выпала из мирового процесса жизнестроения. Ибо «величайший духовный и политический переворот нашей планеты есть христианство. В сей-то священной стихии и обновился мир. <…> История новейшая есть история христианства. Горе стране, находящейся вне европейской системы!» (VII, 146), т. е. вне христианского пути. Миф[72] об Ироде вводит «большое время», с которым соотнесено, проверяется происходящее в «малом». Только в контексте «большого времени» можно понять действительный смысл «страшного, невиданного горя», о котором возвестил Пимен. Не то катастрофично, что самозванец или кто другой взойдет на престол, не междуусобица с сопровождающими ее кровью и хаосом, – катастрофична утеря высшего исторического смысла существования нации, отказ от пути и предназначения, данного ей Провидением.
На смертном одре Годунов признается в содеянном злодеянии. Всю жизнь ему «снилося убитое дитя», и, казалось бы, об этом он и должен заговорить, облегчить душу перед самым дорогим существом, перед сыном. Но не убийство Димитрия оказывается в центре совершенного преступления:
Я подданным рожден, и умеретьМне подданным во мраке б надлежало;Но я достиг верховной власти…Он не имел права на трон. Презрение традиционного, освященного верой и почитаемого народом права наследования царской власти и есть самый корень годуновского преступления. Оно совершилось уже тогда, когда умом своим он решил, что трон – всего лишь место, хоть и «высшей власти», но место, когда посчитал предрассудком, «миражом» всю ту тонкую душевную, нравственную материю, из которой соткана святость царского сана. Убийство уже заложено внутри презрения, является средством, оно вторично и говорить специально о нем у Годунова «нет времени»:
…достиг верховной власти… чем?Не спрашивай.Дело не в том, что он щадит чувства сына (хотя это и бросается в глаза, как очевидная мотивировка), не в том, что малодушно отделывается экивоком, а в том, чтобы не сместить акцент с духовного на уголовное. Пушкин не хочет, чтобы читатель удовлетворился понятным, но упрощающим мотивом. Такого прочтения Пушкин не зря опасался, ибо даже в наше время очень квалифицированные исследователи уступают этому искушению. «Убийство Димитрия, – писал, например, Б. Г. Реизов, – по своей нравственной природе не политическое, а уголовное»[73].
«Право на власть» является для Пушкина моментом чрезвычайно важным, определяющим в нравственной оценке спорных фигур в истории и современности.
Параллельно с работой над драмой Пушкин внимательнейшим образом анализирует «Анналы» Тацита, спорит с авторитетным историком древности в оценке Тиберия. Выводы Пушкина оказываются по ряду тацитовских построений прямо противоположными. Воссоздавая сложный ход пушкинской мысли, Н. Эйдельман показывает, что поэт, далекий от нравственных «декламаций», признает правомерность действий Тиберия, включая убийство Агриппы Постума. Внук Августа «имел право на власть», был опасен, и Тиберий, руководствуясь «государственной необходимостью», поступил, как это ни жестоко, правильно. Просветительская теория государственной необходимости, как видим, у Пушкина на уме. Историками уже прослежена параллель между убийством Тиберием единственного внука умершего принципала Августа и убийством Годуновым последнего сына Ивана Грозного. Что же отличает Тиберия от Годунова? Почему Пушкин оправдывает одного, но осуждает другого? При всем сходстве ситуаций есть существенное различие: Тиберий тоже имел право на власть и получил ее открыто, в согласии с принятым тогда «ходом вещей». Годунов же не имел такого права, взял силой власть, в нарушение принятых норм жизни.
Работа над «Анналами» показывает скрытую лабораторию пушкинской мысли. «Замечания» не были опубликованы. Тем более важно относящееся к правовой теме открытое суждение Пушкина в «Записке о народном воспитании». Напомним его.
«Можно будет с хладнокровием показать разницу духа народов, источника нужд и требований государственных; не хитрить, не искажать республиканских рассуждений; не позорить убийства Кесаря, превознесенного 2000 лет, но представить Брута защитником и мстителем коренных постановлений отечества, а Кесаря честолюбивым возмутителем». Высказывание важное, но интерпретация, перевод его с русского языка начала XIX века на современный – дело хитрое. В декабристских кругах Брут, Кесарь – имена знаковые. Брут – свободолюбец, республиканец, его именем оправдывалось деяние цареубийства, Кесарь – деспот, тиран, имитация царствующего императора. Пушкин же как-то смешивает все карты. Показательно, как трактует это место непредвзятый историк: «Если все же упорствовать в аналогиях с 14 декабря, то Брут – защитник „коренных постановлений“, ближе к Николаю I, чем Кесарь – „возмутитель* (декабрист!)»[74]. По мнению Н. Эйдельмана, «определение Кесаря <…> не столь ясное, как Брута. Однако Пушкину важно показать, сколь нелепа аллюзия, грубое применение I века до нашей эры к XIX-му»[75]. Утверждение достаточно спорное. Интересное исследование этим автором логики пушкинской работы над «Анналами» как раз и показывает убедительность для Пушкина выводов, полученных при анализе тацитовских моделей. Превознесение убийства Кесаря идет не от историков типа Тацита, как предполагал Н. Эйдельман, а совсем из иного источника, из «духа народа». Чтобы понять это точнее, дадим слово младшему современнику Вольтера, «философу-христианину». «Разве Цезарь не был награжден всеми дарами, кроме одного – права на трон? – Вовенарг возвращает нас к годуновской проблематике: Он являл собой образец доброты, великодушия, благородства, отваги, милосердия; никто не мог бы столь же умело править миром и заботиться о его благоденствии, а когда бы происхождение и гений Цезаря соответствовали друг другу, жизнь его была бы безупречна, но он силой добился трона, и нашлись люди, которые сочли себя вправе причислить его к тиранам»[76].
Вовенарг говорил то же, что 2000 лет назад сказал Цицерон об убийстве Цезаря, «преступившего все божеские и человеческие законы ради того, что он придумал в своем заблуждении, – ради принципата»[77]. По словам Цицерона, «неужели запятнал себя злодеянием тот, кто убил тирана?
Римский народ <…> не думает этого, он, который из всех достославных поступков именно этот считает прекраснейшим»[78].
Действительно, не надо порочить республиканских рассуждений, они были важны Пушкину не менее, чем Карамзину, не надо порочить Брута, как это делала слепая, непросвещенно-монархическая братия, надо следовать «духу народа». Годунов, как и Цезарь (будем помнить и декабристскую аллюзию), действительно был «честолюбивым возмутителем». Брут же, как и Димитрий, – защитник «коренных постановлений». «Записка о народном воспитании» не менее, чем «Замечания на Анналы Тацита», является «документальным свидетельством удаления поэта от „прямого декабризма“» (Н. Эйдельман).
Понятие права, базирующееся на понимании «духа народа», отлично от секуляризованного юридического понятия права как человеческого установления, как простого свода законов, известных правителю и народу. Кажется, это различие и послужило главным источником соблазна для Годунова. Оно позволяло действовать по поговорке «не пойман – не вор». Поэтому Годунов так тщательно, с нуля, с отказа разыгрывал весь процесс своего избрания на престол, так продуманно вынуждал и бояр, и народ к исполнению всех необходимых процессуальных стадий, так основательно создавал картину совершенной законности своего воцарения. Он пошел на то, что преступление его не может быть доказано, нарушение права на престол, так сказать, невидимо, а в смысле юридическом «комар носа не подточит». В пушкинской драме речь идет о том аспекте царской власти, который связан с представлениями народа о ее божественном происхождении. Божественную санкцию на власть нельзя заполучить собственными руками. «Святость власти» ставит предел человеческому честолюбию и тем самым является гарантом стабильности государства.



