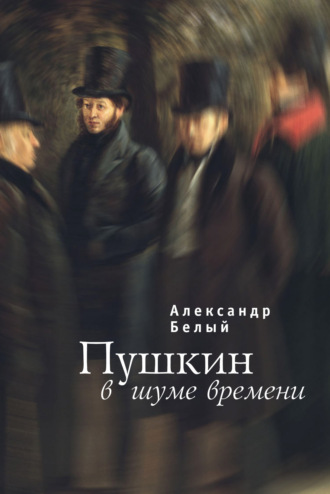
Полная версия
Пушкин в шуме времени
«Должно сознаться, – писал Надеждин, – что Борис, под карамзинским углом зрения, никогда еще не являлся в столь верном и ярком очерке. Посмотрим даже на мелкие черты: они иногда одною блесткою освещают целые ущелия души его!»[44] (курсив автора. – А. Б.). Критик заметил важную особенность освещения, в котором находятся герои драмы. Этот свет – пульсирующий, динамичный, позволяющий увидеть «яркий очерк» фигуры, но вместе с тем как бы и неверный, сомнительный, в той же степени реальный, как и ирреальный. При таком освещении обнаруживается, что у Бориса глаза как-то по-разному посажены, неодинаково видят одни и те же предметы.
В кругу семьи, слыша причитания дочери по внезапно умершему жениху, Годунов принимает на себя, хотя бы предположительно, вину за удары судьбы, постигшие Ксению:
Я, может быть, прогневал небеса,Я счастие твое не мог устроить.Безвинная, зачем же ты страдаешь?В другой, предшествующей сцене в царских палатах, размышляя наедине с собой, он не может понять причин нелюбви к нему народа и, в частности, того, что его называют виновником несчастий дочери:
Я дочь мою мнил осчастливить браком —Как буря, смерть уносит жениха…И тут молва лукаво нарекаетВиновником дочернего вдовства —Меня, меня, несчастного отца!..Как объяснить это разновиденье, если учесть, что он вполне ясно сознает, почему народ так думает. Потому, что несчастья, обрушившиеся на страну, «глад» и «пожарный огонь» народ понимает как наказание за грехи наши. Свой грех, тяжкий грех с точки зрения божьих заповедей, Годунов знает и мог бы признать правоту народа, обвиняющего его во всех несчастиях и в том, что «кто ни умри, он всех убийца тайный». Но нет. Даже «предчувствуя небесный гром и горе», он не может перенести на себя вину в грехе перед богом. Что за астигматизм? Или Годунов с собой в прятки играет?
Можно ли объяснить эту игру карамзинским углом зрения – «смесью набожности и преступных страстей»? Вряд ли.
В ответ на мнение Карамзина Пушкин отвечал: «Благодарю тебя (П. А. Вяземского. – А. Б.) и за замечание Карамзина о характере Бориса. Оно мне очень пригодилось. Я смотрел на него с политической точки, не замечая поэтической его стороны: я его засажу за евангелие, заставлю читать повесть об Ироде и тому подобное» (X, 182). Поэтическая сторона, как видно по ответу, предполагает борение в душе царя между страстями, толкающими на злодеяние, и сознанием их нравственной непозволительности, преступления религиозных табу, греха, сознанием, ведущим к раскаянию и покаянию. В этом смысле поэтическим показан в драме не Годунов, а Иван Грозный, хотя правление обоих сходно по размаху злодеяний.
…он правит намиКак царь Иван (не к ночи будь помянут).Что пользы в том, что явных казней нет,Что на колу кровавом, всенародно,Мы не поем канонов Иисусу,Что нас не жгут на площади, а царьСвоим жезлом не подгребает углей?Этот свирепый самодержец, при котором никто не был «уверен в бедной жизни нашей», каждый день мог принести «опалу, тюрьму, Сибирь, клобук иль кандалы, / А там – в глуши голодну смерть, иль петлю», этот жадный до крови царь сознавал тяжесть собственных деяний, своих преступлений перед людьми и Богом. На этот душевный прорыв делает упор Пимен в своем рассказе:
Прииду к вам, преступник окаянный,И схиму здесь честную восприму <…>И плакал он. А мы в слезах молились,Да ниспошлет господь любовь и мирЕго душе страдающей и бурной.Пушкин хорошо понимал источник, из которого исходит сострадание, понимал, почему метания Грозного в самых своих крайностях были понятны людям. Не отсталость, не забитость народа, как пытаются уверить нас аналитики более поздних времен, проецировавшие свое представление о человеке на века минувшие. В годуновское же время естественен взгляд на человека как на арену борьбы добра и зла. Мутит дьявол душу человеческую, наполняет ее жестокостью и злобой, тщится отворотить от образа Божьего. Знакомая каждому по собственным соблазнам, видимая в человеке частном лишь ближнему кругу, борьба добра и зла, происходящая в душе царя, бросающая его от дикой жестокости к глубокому покаянию, видна всем. Борьба тяжелая, и потому народ терпит с верой и надеждой царские выходки, жестокость и безобразия, но не отказывается от него, не отвергает. В сочувствии борениям души царя и кроются причины верности, смирения и долготерпения народного.
Своих царей великих поминаютЗа их труды, за славу, за добро —А за грехи – за темные деяньяСпасителя смиренно умоляют.Важно подчеркнуть, что по мироотношению, по признанию определенного нравственного закона сознание Грозного однородно с сознанием народным. Иное дело – Годунов.
Первоначально Пушкин предполагал и в нем способность к раскаянию. В плане трагедии есть запись: «Годунов в монастыре. Его раскаяние». В окончательном варианте этот ход опущен. Годунов не подобен Грозному. Это феномен иного рода, его уход от самообвинения перед знаками божьего гнева[45] не есть прятки, хитрость души слабой. Что же за этим стоит?
Задержимся сначала на «карамзинском угле зрения». Его вроде бы следует отвести, поскольку Пушкин сознательно ограничился «политической точкой зрения» на Бориса. Поэтическую его сторону поэт отверг раньше, чем ознакомился с замечанием Карамзина. Почему же тогда он писал П.А. Вяземскому, что мнение историка разделяет? Принято считать, что Пушкин не хотел огорчать Карамзина несогласием с его оценкой Бориса. Но, может быть, все не так, и переписка Карамзина и Пушкина через П.А. Вяземского совсем не проста по своему смыслу? Посмотрим внимательнее. Карамзин пишет, что Годуновым владели «преступные страсти». В такой терминологии говорили в то время о Французской революции – она есть следствие страстей. О страстях как важнейшем двигателе человека к вершинам власти пространно писал Гельвеций (читать которого советовал своим приверженцам П. И. Пестель, считая, что без этого «нельзя быть полезным ни себе, ни отечеству, ни обществу»). Если Карамзин вложил этот смысл, «закодировал» свою реплику, а Пушкин ее «дешифровал», то его ответ Карамзину содержит согласие с трактовкой Бориса как «революционера»: «смотрел (т. е. «смотрю») на него с политической стороны». Отсюда было бы понятным, почему в том же письме двумя строками ранее Пушкин ни с того ни с сего отсылает свой цветной, фригийский, колпак Карамзину – «полно мне его носить» т. е. дает понять, что он уже не есть тот приверженец французских методов общественного переустройства, каким был ранее. Взгляды Карамзина и теперь Пушкина расходились с «мечтаниями» радикального дворянства. Язык намеков мог быть для них значительно более удобным, чтобы избегать излишней конфронтации с соратниками по стану, в частности с «декабристом без декабря» – П.А. Вяземским.
Так понимаемый «карамзинский угол зрения» может действительно оказаться плодотворным, поскольку сдвигает наше внимание к совершенно иному, по отношению к традиционно-народному, миропониманию. Пушкин требовал от читателя непременного знания труда Карамзина. При этом подразумевалось, по-видимому, соотнесение не только с общей концепцией писателя, но и с теми акцентами, которые Карамзин ставил при изложении материала о Годунове. Один из них заключается в многократном варьировании по отношению к Годунову слова «просвещение»[46]. Сохраняет ли оно смысл для пушкинского Годунова?
На смертном одре, давая последние наставления сыну, Годунов произносит весьма показательную фразу:
Я, с давних лет в правленьи искушенный…Фраза-близнец срывается с языка другого героя пушкинских драм:
…ТогдаУже дерзнул, в науке искушенный…Благодаря Сальери мы можем несколько уточнить смысл годуновской мысли – он искушен в науке управленья. Слово «наука» должно было появиться в речах Годунова. И оно появляется:
Учись мой сын: наука сокращаетНам опыты быстротекущей жизни…В характерах Годунова и Сальери чувствуется некий параллелизм, поволяющий допустить, что Годунов тоже «поверил алгеброй гармонию» и отделил умопостигаемый мир реальности от метафизического, отодвинув его в область фантазии, выдумки, фантома.
На призрак сей подуй – и нет его.Реальный смысл имеет только бытие, постигаемое разумом. При первой «затейливой» вести о самозванце единственное, что хочет знать Годунов, – это надежность факта смерти царевича. Он сильно взволнован, но после уверений Шуйского, что «подмены», делавшей появление живого Дмитрия возможной, не было, мгновенно успокаивается (это подчеркнуто ремаркой Пушкина). Годунов рассуждает над этим известием, как бы не замечая, что входит в противоречие с основными религиозными понятиями:
Слыхал ли ты когда,Чтоб мертвые из гроба выходилиДопрашивать царей…Как христианин, он не мог бы не увидеть в своих словах почти цитатного сходства со строками из Апокалипсиса, не смог бы не ужаснуться явственному напоминанию о страшном суде. Годунов не видит этого, ибо с точки зрения здравого смысла, лишенного богобоязненного трепета, возвращение с того света – просто смешно. Более того, сама традиционнорелигиозная интерпретация событий, имеющая столь важное значение в глазах народа, смешна. В смешном положении оказывается высший религиозный авторитет государства – патриарх Иов. Он рассказывает Годунову о чудесном исцелении пастуха «у гробовой доски» убиенного царевича, т. е. о факте, позволяющем церкви считать царевича святым. Ловкий царедворец, Шуйский, довольно быстро подстроившийся под образ мыслей царя, «срезает» патриарха рассуждениями ироническими, если не кощунственными:
…кто ведает путиВсевышнего? Не мне его судить.Князь Шуйский говорит языком просвещенного человека, для которого вся сфера святости, включая сюда «младенца-чудотворца», – бабушкины сказки. Его речь стилистически снижена, заземлена, пронизана иронией к «байкам»:
Нетленный сон и силу чудотворстваОн может дать младенческим останкам.То есть речь идет всего лишь об «останках», а не «мощах» святого. Уничижительный колорит рассуждений Шуйского выступит яснее, если вспомнить его же слова, сказанные раньше: «детский лик царевича был ясен», когда на остальных убитых «тление заметно проступало». Весьма примечательно, что критерием достоверности известий о святости царевича Шуйский выдвигает не веру, а исследование:
Но надлежит народную молвуИсследовать прилежно и бесстрастно…В таком значении слово «исследовать» в годуновские времена не употреблялось. Единственным объектом, достойным «изучения», «исследования», в те времена был только сверхчувственный мир[47].
Благодаря Шуйскому, который так ловко «выручил» Годунова, патриарх оказался в дураках. Противоречие заметил Грибоедов. Пушкин вроде бы соглашался. «Патриарх действительно был человеком большого ума, – писал он, – я же по рассеянности сделал из него дурака» (VII, 734). Это писано в 1829 году и неловкость можно было скорректировать в печатном варианте 1831 года. Однако Пушкин ничего не исправил, оставил патриарха «в его положении». Никакой «рассеянности» не было. Патриарх выглядит дураком, поскольку его мысль и его совет лежат в той системе миропонимания, от которой Годунов ушел. Высокое по уровню апелляции, оно оказалось в новой, просвещенной системе мышления, мягко скажем, неуместным.
Нельзя не заметить и другого – как сам Годунов оказывается объектом насмешки у народа.
Так вот его любимая беседа:Кудесники, гадатели, колдуньи —Все ворожит, как красная невеста.Вряд ли Годунову польстило бы такое сравнение. Обычно считается, что суеверность Годунова – его дань своему темному веку. Вряд ли это так. Годунов, скорее, верен себе и хочет знать, знать точно, не только то, что есть, но и что будет. Гадания, основанные на представлении о судьбе, детерминированности, предопределенности человеческой жизни, не противоречили его «научному» кредо. Христианское же сознание, исходившее из того, что «человек предполагает, а бог располагает», отвергало «гадания». Человеку положительному не пристало выведывать «пути Господни».
Таким образом, кажется, что пушкинский Годунов действительно не едина плоть с народом, их принципы ориентации в мире разошлись. Прежде единая, общая мировоззренческая система расщепилась. Наряду с традиционным появилось другое, «научное» отношение к мировому порядку, в котором слова «Бог насылал» не имеют общепринятого религиозного смысла, а обозначают всего лишь природные события большего, чем обычно, масштаба. Глад есть только глад, огнь есть только огнь, и ничего больше. Все это ясно ему, «как простая гамма». Он и относится к этим событиям, как разумный правитель: раздает хлеб, строит дома. Народ тоже, по его схеме, должен дело делать, а не в грехах каяться, платить добром за добро, добро реальное, а не мифическое. Мировоззренческая система царя раздвоилась, но одна ее половина не заменила полностью вторую. По отношению Годунова к особого рода переживанию, называемому муками совести, можно сказать, что оба взгляда на мир, как глаза, принадлежат одному лицу. «Но я клянусь, Ваш правый глаз / Грустней, внимательнее, строже, / А левый – веселей, моложе / И больше выражает Вас», – М. Петровых сумела выразить нужную нам «разноречивость» взгляда. Тот, что «внимательней и строже», видит во всем ужасе последствия совершённого преступления для внутреннего состояния человека – «жалок тот»; для другого – убийство царевича является всего лишь досадной помехой, «случайным, малым пятном» на безупречном жизненном пути. В связи со взглядом, что «моложе», заметим, что писал Пушкин по поводу критик, дошедших до него после опубликования в 1829 году отрывка из трагедии. «Люди умные обратили внимание на политические мнения Пимена и нашли их запоздалыми» (VII, 74). То есть весь комплекс представлений, связывающих землю и небо в единый космос, определяющий, в частности, нравственные табу для человеческих действий, является «устаревшим».
Недовольство «людей умных» подразумевает, что есть какая-то другая, современная философия, эти табу отменяющая. Был, очевидно, какой-то ход рассуждений, оправдывающий их пере-ступление. Моральная сторона дела не игнорировалась, ее высший смысл не отвергался, но осознавался как препятствие для достижения какой-то цели, важной для людей. В самой этой цели, как казалось, уже нет расхождения с моралью, но путь к ее достижению требует преодоления барьера, скачка, переступления нравственной пропасти. Отсюда идет проблема решимости на ужасный шаг, которой обусловлена реплика-характеристика Бориса в пьесе.
Перешагнет; Борис не так-то робок!Названа ли эта цель, придающая силу «не-робости», оправдывающая волю к пере-ступлению, самим Годуновым? Вполне!
…Я думал свой народВ довольствии, во славе успокоить,Щедротами любовь его снискать.При таком подходе преступление обретало черты своеобразно понятой жертвенности, придававшей фигуре Бориса в глазах современников Пушкина, прозревших замысел многоходовой годуновской комбинации, черты трагического величия. Процитируем, чтобы не быть голословными, отзыв Гоголя: «О, как велик сей царственный страдалец! Столько блага, столько пользы, столько счастия миру – и никто не понимал его!»[48]. Очевидно, «никто» – это народ, не понимавший счастия своего. А как раз на понимание «люди умные» очень рассчитывали в своих передовых думах, противопоставленных «устаревшим». Вся схема преступления и оправдания уже была рассказана гражданином Рылеевым. Приведем финал думы о Годунове:
«О так! хоть станут проклинать во мнеУбийцу отрока святого,Но не забудут же в родной странеИ дел полезных Годунова».Страдая внутренно, так думал он;И вдруг, на глас святой надежды,К царю слетел давно желанный сонИ осенил страдальца вежды.И с той поры державный Годунов,Перенося гоненье рока,Творил добро, был подданным покровИ враг лишь одного порока.Скончался он – и тихо приняла Земля несчастного в объятья – И загремели за его дела Благословенья и – проклятья!
Вот так! Какой смысл восклицать «Ирод! Богородица не велит!», если «убийство отрока святого» понятно небесам, если они даруют успокоение совести (сон), если земля не возмутится, а тихо, благоговейно примет в объятья, если не бог насылает наказанье, а глупый рок? Годунов, по этой схеме, мог бы перекреститься, посылая убийц, точно так, как сказано Рылеевым в одной из подблюдных песен:
А, молитву сотворя,Третий нож – на царя,Слава!Помолясь, конечно, богу пользы, дарующему силу надежде, что народ эту самую пользу и оценит, и возблагодарит подателя сего, а «проклятья» тем и смоются -
И смою черное с души пятноИ кровь царевича святую! —убеждал Рылеев.
Слово «польза», повторяемое и Гоголем, и Рылеевым, и пушкинскими персонажами (Годуновым, Шуйским, Г. Пушкиным)[49] маркирует философию, приверженцами которой считали себя «люди умные», будущие декабристы в том числе – философию французского Просвещения. Ее идеи входят в число «каменских и киевских обиняков» как теоретический базис дискутировавшихся тогда вопросов. Суждения выдающихся представителей этого направления европейской мысли могут быть хорошим гидом в лабиринте пушкинской пьесы.
Обратим внимание на самооценку Годунова у Пушкина. Пдрь говорит о своем преступлении как о мелочи, малом зле («единое пятно, случайно завелося») по сравнению с той пользой, которую он хотел принести и действительно принес народу. У рылеевского Годунова «пятно» полновеснее: «Смою черное с души пятно». Случайно ли это различие? Может быть, и да. Но, может быть, Пушкин лучше Рылеева помнил Вольтера, его «Кози-Санкту» с красноречивым подзаголовком «Малое зло ради великого блага»? Повесть начинается с посылки: «Ложно изречение, гласящее, что не дозволено вершить малое зло, из коего может проистечь великое благо». Если «ложно изречение», то, стало быть, «малое зло» дозволено. Дозволено прелюбодеяние – в повести Вольтера Кози-Санкта, будучи непреклонной, погубила возлюбленного, а проявив снисходительность, сохранила жизнь брату, сыну и мужу. Дозволенность переступления первейшей заповеди христианина продемонстрировал другой философ, считавший себя учеником фернейского мудреца: «Польза есть принцип всех человеческих добродетелей и основание всех законодательств <…> Этому принципу следует жертвовать всеми своими чувствами, даже гуманностью»[50]. Годунов, вполне в духе этой философии, мог не считать себя злодеем, ведь и он, и его окружение «думали, что смерть Димитриева необходима для безопасности правителя и для государственного блага»[51].
Я вполне готов разделить раздражение читателя на предлагаемую манеру прочтения «Бориса Годунова» как своеобразного варианта «Записок кота Мура», где на одной стороне листа идет текст Пушкина, а на обороте – текст Вольтера, Гельвеция или Дидро. Правда, следует сказать, что, познакомившись с французским переводом Гофмана в 1834 году, Пушкин был в восторге, носился с ним повсюду, т. е. хорошо чувствовал манеру замечательного романтика и даже, может быть, узнал, разглядел в нем кое-что из своих собственных решений проблемы «истинного романтизма». Что имел в виду под этим термином Пушкин – вопрос до сих пор не совсем ясный. Больше согласия в том, что романтизм как литературное явление предполагает сознательное вовлечение книжной культуры, культурной подоплеки и, отсюда, ориентацию на «своего» читателя с высоким уровнем литературной эрудиции. Фон века «исследования и порицания» в драме Пушкина был замечен современниками. Надеждин не преминул удивиться тому, что Пимен у Пушкина «Гердера начитался». Бестужев, не вникая в детали, сказал, что Пушкин заблудился в XVIII веке. Второгодник, по мнению своих оппонентов, Пушкин видит то, чего они не видят: что идеи входят в кровь, в подсознание, влияют на современное состояние умов, на события происходящие или намечающиеся как весьма вероятные. «Мы живем во дни переворотов – или переоборотов», – заметил он как-то М. Н. Погодину (X, 330). «Переобороты» не берутся ни с того ни с сего, а есть следствия импульсов, толчков, «землетрясения» в сознании, волна от которого, двигаясь из прошлого, догоняет настоящее. Волна, произведенная сотрясением просветительской философией нравственного сознания человека, догнала Россию. Пушкин придает этому обстоятельству значение чрезвычайное и трагическое. Прав В. Непомнящий, усматривая основу конфронтации Пушкина с философией, «которой XVIII век дал свое имя», в неприятии «философии потребления мира человеком, узурпации вселенной», порожденного ею образа жизни, основанного на «потреблении власти над окружающим миром, включая себе подобных <…>, на узурпаторском произволе»[52] (курсив непомнящего – А. Б.). Самое же главное состоит в том, что Пушкин увидел, насколько будущее России будет определяться таковой «житейской философией», что она долго не выберется из колеи атеистического прагматизма. Верх ее лица будет выражать стремление к более свободным формам социального устройства, низ – узурпацию прав над личностью. Пушкин не знал, что именно Александр II погибнет от брошенной ему промеж ног бомбы, но что способы действия для достижения благородных целей будут такого рода, знал. Трагизм пушкинского ведения значительно понятнее сейчас, когда ясно, что наше сознание есть по существу своему просветительское и, несмотря на все смены философских систем, произошедшие со времен Вольтера, осталось прагматически-бесчеловечным.
Тема узурпаторского произвола – в центре «Бориса Годунова». Есть ли в пьесе герой, которому вся подноготная Годунова понятна? Казалось бы, «лицом к лицу – лица не увидать» и такого героя быть не могло. Суждение это справедливо для мира, отображаемого в декартовой системе координат. Но Пушкин ею не связан, как не связан ею Юродивый. Его отношение к деянию Бориса – предмет особого разговора.
* * *За кволую душу и мертвое царское телоЮродивый молится, ручкой крестясь посинелой,Ногами сучит на раскольничьем хрустком снегу:– Ай, маменька, тятенька, бабенька, гули – агу!..Гунявый, слюнявый, трясет своей вшивой рогожейИ хлебную корочку гложет на белку похоже…Таким увидел А. Тарковский «Юродивого в 1918 году». Угол зрения определялся эпохой, которой ни старая Россия, ни ее религия были не нужны, а параллель между убиенным царевичем Димитрием и убиенным царевичем Алексеем не возникала. Можно ли считать, что внутреннему взору Пушкина, обдумывавшего сцену «Площадь перед собором в Москве», предстоял подобный же образ человека, который, как в стихотворении А. Тарковского, «что слышал, то слушал, что слушал – понять не успел»?
По мнению Ст. Рассадина – можно. «Юродивый – не голос, не „рупор“ народа (и тем более, автора) <…> Он не символ, не функция, не аллегория, он настоящий юродивый, дурачок Николка, дикий и нелепый <…>. В темной голове дурачка – туман, обрывки того, что помнит народ, но никакой системы»[53]. Что надеялся выловить Пушкин в этом тумане? Ничего? Выстрел холостой?
Возражение Ст. Рассадина продиктовано вполне понятным и справедливым раздражением на трактовку юродивого в духе общественных представлений совершенно иного, не пушкинского времени, эксплуатировавшего в хвост и в гриву понятия «народ», «совесть народа», «голос народа» и т. п. Но даже если закрыть глаза на эту сторону дела, то отказу юродивому в значимости есть вроде бы видимые основания. Что прибавляет эта сцена к тому, что читатель уже знает о Годунове? Что он действительно убийца – уже рассказали Пимен и Шуйский. Что «не уйдет он от суда мирского, как не уйдет от божьего суда» – уже предрек Григорий. Потеряла ли что-нибудь пьеса, если бы этой сцены не было? Если да, то почему?
Сцена обдумывалась долго, потребовала от Пушкина сверки своих идей с известными житиями и биографиями блаженных. Четьих Миней мало. Он просит доставить «или жизнь Железного колпака или житие какого-нибудь юродивого» (X, 173, курсив Пушкина. – А. Б.). Через месяц он передает через Жуковского благодарность Карамзину за присылку нужной книги. В том же письме содержится совсем прозрачный намек на важную внутреннюю перемену. «В замену отошлю ему по почте свой цветной, который полно мне таскать» (X, 181). Красный колпак якобинцев не то, чтобы износился, а стал слишком давить голову – узок.
При получении другого «дурацкого колпака» Пушкин ответил:
Хотелось в том же мне уборе…Как вы, на многое взглянуть.Может быть, и юродивому для той же цели приискан подходящий колпак. Странно, что Карамзин не поправил Пушкина, ведь в «Истории» говорится о Большом Колпаке[54], это Пушкин называет его железным. Маленькая подмена, накладка, которая усиливает подозрение, что у Пушкина на слуху, на уме было что-то связанное со звоном железного колокола-колпака.
Здравствуй, Николка, что же ты шапки не снимаешь?(Щелкает его по железной шапке) Эк она звонит!Во всяком случае, есть перезвон со словами Годунова о царском голосе как звоне святом: «Он должен лишь вещать // Велику скорбь или великий праздник». Между этими колоколами нет согласия – один «вещает», другой оповещает всех о преступлении царя. На слуху мог быть не только этот разнобой, разлад, но и строки знаменитой трагедии, из которой «звон» пришел. Шекспира к этому времени Пушкин уже хорошо знал. Офелия говорит о Гамлете:



