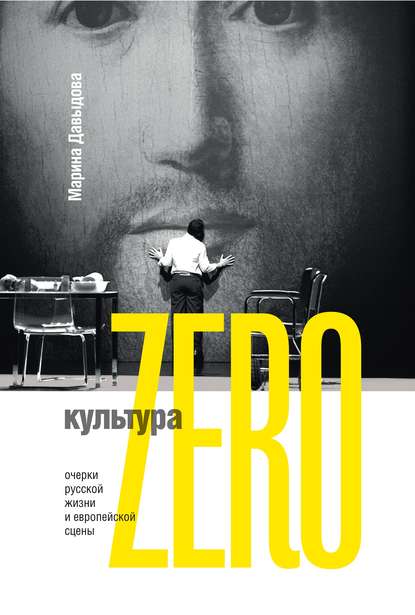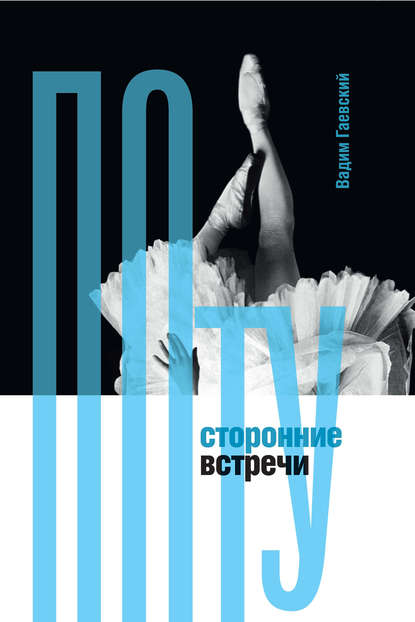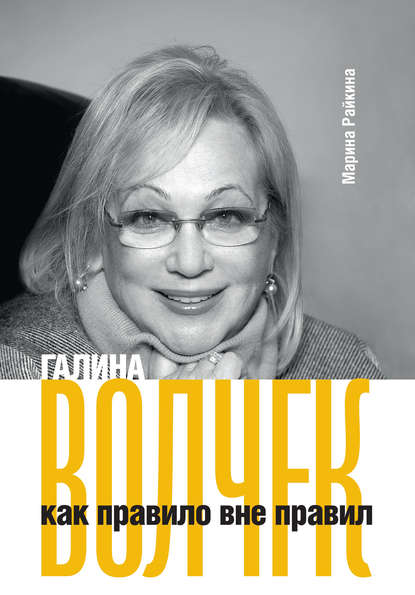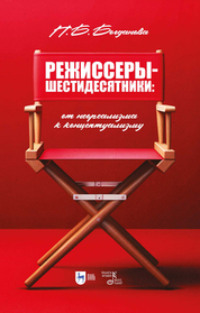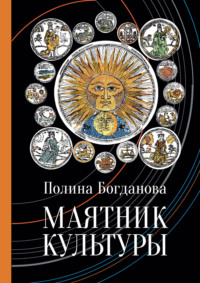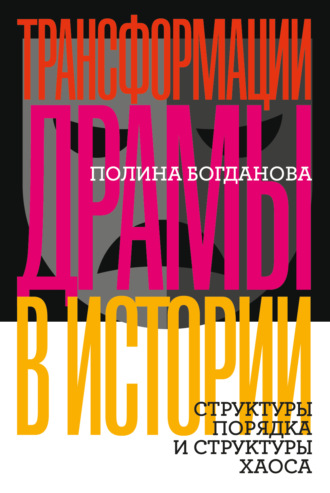
Полная версия
Трансформации драмы в истории. Структуры порядка и структуры хаоса
Орест убивает Клитемнестру. Останавливается перед входом во дворец и уже готов убить Эгисфа.
Электра, именем которой названа трагедия, – здесь главная героиня. Хотя от ее действий ничего не зависит. Она только пребывает в ожидании появления брата и рассказывает о своих страданиях в доме Клитемнестры. Клитемнестра обрисована как отрицательная героиня. Так же и Эгисф. Поэтому месть Ореста за смерть отца оправдана не только родовыми законами, но и жестокостью Клитемнестры и Эгисфа, что очень важно, так как раскрывает не только действие рока, но и субъективные человеческие мотивы Ореста и Электры.
Действие в этой трагедии с самого начала ведет Орест. В финале он осуществляет свою цель. Орест здесь – субъект действия. Необходимость мстить продиктована законом богов, Орест уже давно принял эти законы в свое сердце.
Эсхил и Софокл исходят из некоей объективной картины мира. Свойством объективности в те времена обладали законы богов, законы еще актуальной для афинского полиса родовой мести, закон судьбы, рока. Крупные драматурги-титаны предлагали общие для всего полиса мировоззренческие понятия и установки: в «Орестее» это понятия религии Аполлона, оправдывающего месть за отца; у Софокла в трагедиях это понятия рока, судьбы, которых не может обойти человек и должен их принять.
У Эсхила в трагедиях еще не эмансипирована личность героя, у которого еще нет собственных субъективных целей. В трагедиях Софокла уже появляется субъективная цель – цель правителя Фив, гражданина.
Софокл создает в своих трагедиях разные личности, каждую со своей индивидуальной позицией. В целом Софокл тоже, как и Эсхил, провозглашает в своих трагедиях общее для полиса религиозное мировоззрение: принятие рока, судьбы («Эдип-царь»), следование божественным установлениям («Антигона»). У Эсхила важная роль отводится социально-политическим мотивам («Орестея», «Персы»). У Софокла тоже есть социально-политические мотивы осуждения тирании («Антигона» и «Электра»).
Структуру трагедий Софокла, как и структуру трагедий Эсхила, можно назвать классической замкнутой, отражающей целостную, гармоничную модель космоса и античного полиса, где действуют определенные правила и законы. Софокл, как и Эсхил, жил в той же культурной реальности, в которой мыслилась гармония космоса, а также гармония демократического полиса. И то и другое управлялось определенными законами (если у космоса это может быть закон судьбы, рока, то у полиса – целостность и благоденствие). Во всем этом тоже есть определенность, что облегчает и упорядочивает жизнь человека, но и налагает на него некие гражданские обязательства.
Трагедии Софокла имеют центр, все линии сходятся к главному герою: к Эдипу («Эдип-царь»), Антигоне («Антигона»), Оресту («Электра»).
Конфликты непосредственные, прямые – между Антигоной и Креонтом и Электрой, Орестом и Клитемнестрой с Эгисфом. Конфликты развиваются внутри драматической ситуации и внутри драматической ситуации приходят к своему разрешению, исчерпываются.
В «Антигоне» и «Электре» утверждается высшая правда, правда богов.
Трагедиям свойственно и горизонтальное, и вертикальное построение. Все намерения персонажей «стремятся» вверх, в высшие сферы. Хотя драматическая борьба происходит между персонажами на земле.
Если Орест у Эсхила существовал в полном согласии с высшими божественными законами и установлениями, то у Софокла все не так просто. Антигона, выполняя божественные законы, в горизонтальной, земной, сфере проигрывает в борьбе с Креонтом. Креонт ее казнит. Но она выигрывает в высшем, идеальном смысле – как носительница и проводник божественных установлений. На земле ее участь трагична. Но в высшем смысле она становится высоким примером преданности и проводником высшей правды. Поэтому мы и говорим о вертикальном построении. Такие примеры встречаются в истории драмы и других художественных жанров, когда надо утвердить некую высшую правду и освятить ею земные дела. Правда богов в идеале должна руководить всеми представителями полиса. Но Софокл уже рисует нарушения полисной гармонии, поскольку Креонт как правитель исходит из своих узкоэгоистических мотивов. Однако Софоклу важно показать, что эти узкоэгоистические мотивы ведут к тирании, а тирания противоречит демократии. То есть в «Антигоне» Софокл осуждает тиранию и стоит на позициях демократического полиса, который должен быть освящен высшими законами. Это, в его представлениях, есть идеальная модель. Нарушение пропорций в этой модели ведет к трагедии.
Как уже было сказано, пример античных трагедий периода расцвета античного полиса демонстрирует классическую замкнутую структуру, где все взаимосвязано и взаимообусловлено, существуют высшие законы, которым подчиняются герои. Нарушение этих законов Креонтом в «Антигоне» ведет к трагедии.
Замкнутая классическая структура возникает в периоды общественного и религиозного порядка, подъема. Такие структуры не только выражение античного мира, в дальнейшем их можно увидеть и в европейской культурной традиции
Аристофан. «Лягушки». «Облака»
Аристофан – автор высоких комедий, которые еще имеют связи с народной смеховой культурой. Это обстоятельство отметил И. М. Тронский, найдя параллели комедий с народными праздниками, связанными с переходом от зимы к весне, от смерти к жизни. Широкое исследование народной смеховой культуры провел М. Бахтин в своем ставшем знаменитым труде «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса». Народная культура – это исток всякой цивилизации, античной и европейской. Она складывается стихийно как выражение творчества широких народных масс и характеризуется карнавалами и праздниками времен года, праздниками дураков, в которых народ обретает возможность поменять роль крестьянина или ремесленника на роль епископа или короля и таким образом уйти на время карнавала от земной иерархии, обрести «карнавальную свободу». В Древней Греции народная культура тоже была связана с крестьянами, или земледельцами, которые ватагой, или гурьбой («комосом», отсюда и название жанра комедии), гуляли по деревням, символом этих гуляний был фалл как олицетворение животворящих сил природы. Народная культура не знает злого, уничижительного, сатирического смеха, ее смех амбивалентен. Ей свойственны насмешка, пародирование, смена ролей, но никогда – уничижение, так она входит в область «фамильярного контакта» с божеством или любым земным авторитетом, обретя игровую свободу.
Эта народная культура и питала собой высокую комедию. Высокую, потому что ей свойствен амбивалентный смех. В комедии Аристофана «Лягушки» возникает смех над богом Дионисом. Тот со своим слугой отправляется в Аид, чтобы вывести оттуда величайшего драматурга Еврипида. Этот путь Диониса и слуг пролегает по орхестре. Возникают комические сценки, потасовки хозяина и слуги, в какой-то момент они меняются ролями. Дионис предстает карнавальным персонажем, который из‐за собственной трусости набросил на себя шкуру Геракла, Диониса не перестает дурачить и оскорблять его слуга. Так устанавливается фамильярный контакт божества со зрителем. В общем, эта первая часть комедии наполнена игрой, дураченьем, шутками.
Во второй части Дионис со слугой приходят в Аид, Диониса сюда доставил Харон на своей лодке, которая «переплыла» орхестру, а слуге пришлось бежать на своих двоих вокруг сцены. В Аиде происходит агон, или состязание, Эсхила и Еврипида. Дионису предстоит решить, кто из них все-таки первый драматург. Аргументы, которые выставляют Эсхил и Еврипид в свою защиту, очень красноречиво передают смысл споров и суждений вокруг обоих драматических писателей, реально происходивших в Афинах еще при жизни Еврипида.
Состязание Эсхила и Еврипида – это состязание титана, представителя классического периода, и древнегреческого модерниста. Эсхил выдвигает тезис о том, что в произведении не следует писать о пороках общества и людей, а нужно подавать примеры доблести, а также говорить о прекрасном. Вместе с тем драматург должен находить «величавые речи» для того, чтобы выразить возвышенные мысли и дела. Эсхил бросает Еврипиду упрек в том, что тот нарядил царей и владык в «лоскуты и лохмотья» и выбрал в качестве героини «потаскушку» Федру – личность, с точки зрения Эсхила, сомнительную. На это Еврипид бросает свой упрек, что Эсхил не знаком с Афродитой и никогда не писал о любви. Он считает, что художник должен иметь, прежде всего, «человеческий» голос, что и выразилось в его Федре.
Еврипид, действительно, известен тем, что в своих трагедиях приблизился к изображению человека и его чувств, что, с точки зрения титана Эсхила, предпочитавшего писать о возвышенном, – неубедительное и даже отрицательное качество.
В результате Дионис выводит из Аида Эсхила, в чем явственно обнаруживает себя консервативная позиция Аристофана. Но иначе и быть не могло. Аристофан в жанре комедии, а Эсхил в жанре трагедии выступали под общими знаменами, выражая взгляды классической эпохи.
Утверждая первенство Эсхила и ставя точку в состязании драматургов, Аристофан представил пример замкнутой структуры комедии. Хотя все не так однозначно. Та вольная карнавальная игра, которая составляет первую часть комедии, – это структура разомкнутая, поскольку границы у карнавала могут быть только временны́е. Но сама стихия карнавальной игры безразмерна и безбрежна.
Комедия всегда начинается с нарушения некоего порядка, а в финале он должен восстановиться – таков закон классического комедийного жанра. Нарушение порядка в «Лягушках» – это смерть авторитетов великих драматургов. Авторитеты нужно восстановить, что и происходит в комедии.
Наиболее наглядно этот комедийный закон представлен в «Облаках». Старик Стрепсиад жалуется на то, что его сын, любитель лошадей, транжирит отцовские деньги. И решает пойти поучиться в «мыслильню» Сократа для того, чтобы понять, как ему воздействовать на сына. Имя Сократа тут возникает тоже в контексте карнавальной игры. Аристофан, называя это имя, ведет спор с софистами, представителями различных софистических учений. Старику учение в «мыслильне» не по зубам, и он решает отправить туда своего сына. Сын, изучив все премудрости софистики, не только не перестал транжирить отцовских денег, но еще стал бить отца. То есть «мыслильня» научила его истинам наоборот. В связи с этим в комедию введен агон между Кривдой и Правдой, в котором Кривда побеждает. Увидев новое поведение сына, старик получает хороший урок. Так комедия призывает к тому, чтобы восторжествовала Правда.
Тут отчетливо представлен механизм комедии. Первоначальное нарушение порядка сказалось в том, что сын не почитает отца и ведет себя безнравственно. Финальная ситуация восстанавливает этот порядок.
Структура комедии замкнутая. Ситуация пришла к своему разрешению, на котором ставится точка. Построение горизонтальное. Есть выраженный центр комедии – старик Стрепсиад. Замкнутая структура порядка – производное той же классической эпохи, в которую писали Эсхил и Софокл.
Кризис античного мира
Век подъема в Афинах не длился вечно. В истории не бывает вечных периодов порядка и благоденствия, поскольку история движется через кризисы, спады и подъемы. Наиболее существенным механизмом течения социальных, политических, религиозных процессов является закон энтропии, разрушения. Целостные общественные модели рано или поздно разрушаются, в них начинают действовать центробежные тенденции. Так происходило и в истории Древней Греции во второй половине V века до н. э. Было много обстоятельств, приведших к кризису, но одним из самых существенных стала Пелопоннесская война (431–404 г. до н. э.) между Афинами и Спартой.
В этот период в Древней Греции произошел пересмотр прежнего мировоззрения. Стала уходить в прошлое мифология, вера в богов была поколеблена. Это очень важное обстоятельство, которое психологически лишило человека устойчивости и защиты. Вместо мифологии возникла философия. Именно в этот период развивалось учение софистов. Софисты критически относились к государству и всем его установлениям. Они отрицали объективную истину, утверждая, что все, что существует в мире, – плод субъективного мышления и взгляда. Одним из видных представителей софистов был Протагор (V век до н. э.), который говорил об относительности истины: то, что сегодня хорошо, завтра может быть опровергнуто. Вне человеческого сознания ничего не существует. Самое известное изречение Протагора – «Человек есть мера всех вещей». То есть обо всем надо мыслить с точки зрения человека – можно уточнить, частного человека, а не гражданина государства. Протагор утвердил именно частную точку зрения на мир, что противоречило взглядам греков периода Эсхила и Софокла, выражавших точку зрения гражданина в эпоху целостного социума.
К софистам относят и Сократа, хотя фактически он не принадлежал к их школе. Сократ, который не оставил после себя никаких сочинений, учил народ на улицах и площадях ведению логического спора; утверждал, что знание есть добро. Сократ был неправильно понят властями, обвинен в растлении молодежи и приговорен к тому, чтобы выпить чашку яда, что он стоически и совершил.
Под влиянием идей Сократа в Греции возникла Академия Платона, просуществовавшая тысячу лет, до VI века н. э. Это была религиозно-философская школа, занимающаяся изучением философских и религиозных идей.
Период кризиса древнегреческого полиса способствовал развитию знания, науки и философии, что являлось положительным фактом. Древняя Греция вообще отличалась богатством, глубиной и разнообразием философских школ, которые потом, уже в период европейской цивилизации, активно изучались в монастырях и способствовали развитию философии в Европе.
Еврипид. «Медея». «Ипполит». «Вакханки»
Когда в искусстве начинается некий новый этап, на арену выходит поколение титанов и формируется «большой стиль». Титаны – это Эсхил и Софокл. Следующий за ними Еврипид уже принадлежит к другому поколению. Важно подчеркнуть, что Эсхил и Софокл – активные члены афинского общества. Софокл участвовал в греко-персидских войнах – отсюда его единственная современная трагедия «Персы», – был посвящен в тайны культа Деметры, которые нельзя было разглашать под страхом смерти. Софокл на протяжении жизни входил в различные государственные коллегии и советы, имел друзей в высших слоях афинского полиса. Еврипид, в отличие от старших коллег, был фигурой уединенной, много времени проводил в облюбованном им гроте, где занимался своими писаниями, не слишком интересуясь общественной жизнью. Различия в личностном складе и образе жизни трех древнегреческих трагиков свидетельствуют не просто об их характерах, но и о том, что в искусстве, культурной сфере старшее поколение титанов действует, как правило, в период общественного и культурного подъема, обладая заслуженной славой, общественным авторитетом и почестями, а младшее, замыкающееся в своей частной, уединенной жизни, свидетельствует о появлении тенденции к кризису и действует в периоды общественных спадов.
Еврипид принадлежал к младшему поколению драматургов и писал трагедии в условиях уже разразившегося кризиса греческой демократии. Это не могло не отразиться на его взглядах, проблемах, которые он поднимал в своих сочинениях, на их структуре.
Практически большинство трагедий Еврипида написаны в разомкнутой структуре, которую можно рассмотреть на примере его ведущих трагедий.
Начнем с «Медеи». Трагедия вводит нас в обстоятельства кризиса, раскола в семье Медеи. Ясон собирается оставить Медею и жениться на молодой коринфской царевне. Его мотив выяснится в конце. Ясон, который живет в Коринфе с варваркой Медеей как изгнанник, стремился к тому, чтобы упрочить свое положение и положение своих детей, а брак с варваркой этому не способствовал. То есть его желание жениться на другой женщине не проявление чувства, а вполне практическое соображение. Но Медея глубоко оскорблена. В ней говорит не столько ревность, сколько сила этого оскорбления, ведь она помогла Ясону получить золотое руно, она пошла на преступления ради него, убив своего брата. И теперь Ясон ее предает.
Медея вынуждена действовать в такой ситуации. Она избирает путь самой страшной мести: убить новую избранницу Ясона и, что самое главное, – убить своих детей, рожденных от Ясона. Это ее выбор. Тут налицо личный мотив оскорбленной женщины. В своей мести она выступает не как общественная обвинительница, ратующая за прочность семейных уз, а как обманутая жена с ее внутренними переживаниями, глубиной нанесенной травмы.
Ясон в сцене выяснения отношений с Медеей скажет, что ей много дала цивилизованная Греция, в которой действует не закон силы, как в ее варварской стране, а закон разума. Но Медея у Еврипида – именно варварка и действует в соответствии с теми понятиями, в которых была воспитана. Эта краска очень важна для образа Медеи. Цивилизованный, но нарушивший нравственные принципы муж и варварка, все отдавшая из любви к нему жена. Мы видим, что Еврипид дает своим героям индивидуальные характеристики. К тому же рисует психологические метания героини. Она не сразу решается на свою месть и долгое время проводит в сомнениях. Эта сцена очень важна в трагедии. В ней мы видим незащищенную женщину, которая должна решиться на убийство детей. Это дается ей не без борьбы с самой собой.
В этой трагедии Еврипида значительно усилено субъективное начало. Медея тут – субъект действия, руководимый своей личной, индивидуальной целью. В мире, в который она попала, она не может опереться на какие-то законы, правила, она должна действовать сама, из тех соображений, которые лежат в глубине ее натуры.
Еврипид не случайно обратился к такой героине. Это уже не целостная, обладающая величием фигура Эдипа или героическая фигура Антигоны у Софокла. Это деструктивная личность, дикая и расколотая. Это преступница. В ситуации кризиса государства именно деструктивные, преступные личности попадают в сферу внимания искусства. Это подчеркивает и кризисность общей ситуации, и относительность возможного и невозможного, и субъективность взглядов. Все это во многом сочетается с философией софистов.
Еврипид, конечно, сочувствует своей героине. Для него Медея – пример несчастной, оскорбленной женщины. Он не столь глубоко исследует ее психологию, чтобы можно было понять все мотивы ее переживаний и поступков. Но все же это уже психологический портрет. В финале Медея с трупами детей поднимается ввысь на колеснице, посланной ей Гелиосом, и исчезает.
Структуру трагедии можно определить как разомкнутую дисгармоничную в том смысле, что ситуация с Медеей – это частная ситуация, она не обладает типичностью, поэтому за ней и вокруг нее можно представить иные частные ситуации со своими особенностями, и не обязательно с личностью преступника. Поэтому дисгармоничный мир разомкнут, в нем неисчислимое количество других ситуаций, этот мир разнообразен и не создан по одной модели. В разомкнутой дисгармоничной структуре нет закона и действует случай, произвол, ведь месть Медеи – это выражение личностного произвола, а не порядка. В этой структуре большое значение принадлежит личности, частному человеку, который действует в кризисной ситуации исходя из внутренних побуждений. У Еврипида уже не идет речь о гражданине полиса, как у Эсхила и Софокла. В трагедии не только не существует закона, правила, общей нормы, но действует относительность всего. То, что с точки зрения Ясона преступно, с точки зрения Медеи допустимо. Также тут надо говорить о том, что действия героини в трагедии продиктованы внешними обстоятельствами, ее месть – это только реакция на ситуацию, в которую ее поставил Ясон. И можно сказать, что это реакция личности на деструктивный мир. Медея, конечно, является действующим субъектом, но действует во многом вынужденно, под властью обстоятельств. Структуру трагедии Еврипида, в отличие от классической структуры Эсхила и Софокла, назовем неклассической, или барочной. Мы запомним это определение – барочная: в искусствоведении под стилем барокко подразумевают тот вычурный стиль, «в котором растворился ренессанс или, как нередко говорят, в который ренессанс выродился»24. То есть барокко – это результат вырождения стиля. Можно добавить – его деструкции. О барокко следует говорить не только в связи с искусством после эпохи Возрождения, но также и о других эпохах кризиса. Г. Вёльфлин писал, что «подобное явление предлагает нам и история античного искусства, где постепенно появляется понятие вычурного, барочного [Sybel L. Weltgeschichte der Kunst. 1888 (включает в себя раздел „Римское барокко“)]. Античное искусство „умирает“ с теми же симптомами, что и искусство Ренессанса»25. Надо еще раз уточнить, что Г. Вёльфлин исследует барокко как стиль, мы же говорим о целостной структуре.
В трагедиях «Ипполит» и «Вакханки» Еврипид пересматривает отношение к богам. Если у Эсхила боги выступали во всем своем могуществе и величии, их голос был непререкаем, они судили людей со своих высоких позиций – вспомним Аполлона и Афину в «Орестее» Эсхила, – то боги у Еврипида отличаются вздорностью, капризами и не могут выносить объективных суждений. Боги у Еврипида такие же «частные» лица, как и люди, и им, как и людям, присущи недостатки.
Вот Киприда в трагедии «Ипполит». Она собирается отомстить Ипполиту за то, что тот ее не чтит как богиню, а молится деве Артемиде. Ипполит – чистый юноша, и его больше, чем любовь, привлекает охота. Киприда не может с этим смириться и заявляет, что с помощью Эрота влюбит Федру, мачеху Ипполита, в него и таким образом отомстит ему. Так она и делает.
Федра мучается от неуправляемой страсти к Ипполиту. Обращается к кормилице за советом. Та советует ей во всем обвинить Ипполита, дескать, это он покушается на ложе своего отца Тезея.
Федра, не справившись со своей страстью, кончает с собой и оставляет письмо, в котором пишет о домогательствах Ипполита и ничего не пишет о собственной страсти. Тезей, который возвращается из своей поездки, узнает о происшедшем несчастье с Федрой и оскорбительном поведении сына. Проклинает Ипполита и изгоняет того из дома.
Ипполит садится на колесницу, чтобы уехать из дома, Киприда насылает на него огромную волну, которая накрывает колесницу и вздыбливает кобылиц, они топчут Ипполита.
Появляется Артемида и говорит Тезею, что сын его невинен и во всем виновата Федра, оклеветавшая Ипполита. Приносят тело умирающего Ипполита. Тезей в отчаянии. Ипполит прощает отца.
В этой трагедии из‐за каприза Киприды пострадали три человека – Ипполит, Федра и Тезей. Причем в самом начале, когда Киприда заявляла о своем желании отомстить, она понимала, что погибнет и Федра, но небожительнице было ее не жалко, она отмахнулась от этой мысли. Так, три человека стали игрушками богини, поступками которой управляет не разум, а прихоть. Тут представлена модель иррационального мира, в котором действует не закон, а произвол и человек теряет опору, становясь жертвой игры иррациональных сил.
В трагедии «Вакханки» похожая ситуация. Здесь тоже зачинатель интриги и главное действующее лицо – бог Дионис. Люди перестали верить в него, и Дионис этим глубоко оскорблен. Он, как и Киприда, собирается отомстить.
Люди всячески поносят Диониса. Пенфей, правитель города, оскорбляет его.
Дионис в облике простого юноши в несколько странном одеянии появляется в городе. Вместе с сыном Пенфея, Песеем, который тоже грубо отзывался о Дионисе, бог отправляется на гору, где его почитательницы-вакханки в ослеплении насланного на них безумия сопровождают его. Напомним, что культ Диониса в древности состоял в совершении неких ритуальных действий, когда вакханки голыми руками разрывали тело быка и съедали его мясо. Так и здесь. В состоянии опьянения вакханки терзают тело Песея, которого принимают за льва, раздирают его тело. Причем во всем этом участвует мать Песея – Агава, – которая отрывает ему голову.
Потом все возвращаются в город. Агава приходит в себя, ей говорят, что она убила сына. Она приходит в ужас. Так Дионис наказывает людей, которые не воздавали ему должных почестей.
Хор поет: «Воли небесной различны явленья, / Смертный не может их угадать».
Мир в этой трагедии, как и в предыдущей, тоже иррационален, жесток, боги не защищают людей, а провоцируют их страдания и гибель. Дионис обрисован как жестокий, озлобленный бог, действующий в угоду своему самолюбию.
Структуру трагедий «Ипполит» и «Вакханки» можно определить как разомкнутую, дисгармоничную, ибо в ней демонстрируется иррациональный мир, в котором боги правят произвольно и неразумно. Боги не устанавливают закона, а подчиняются своему капризу и самолюбию. Человек в этом мире находится в трагическом положении. В обеих трагедиях действие и интригу ведут боги, они зачинщики всего, герои находятся в их власти и совершают поступки по их воле.