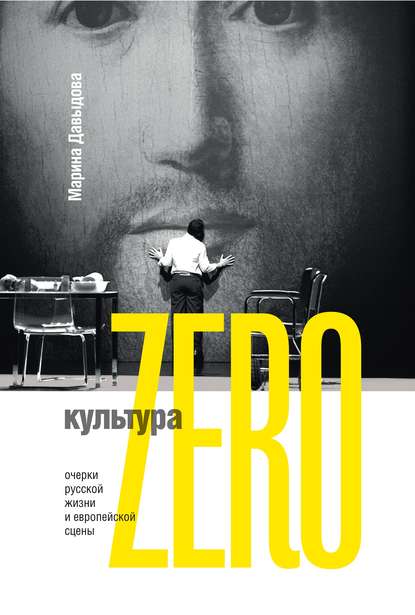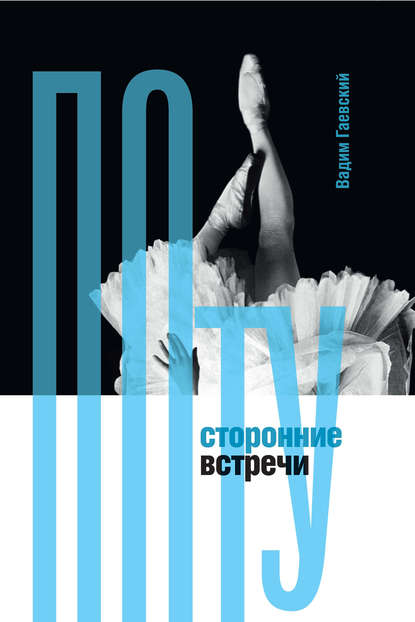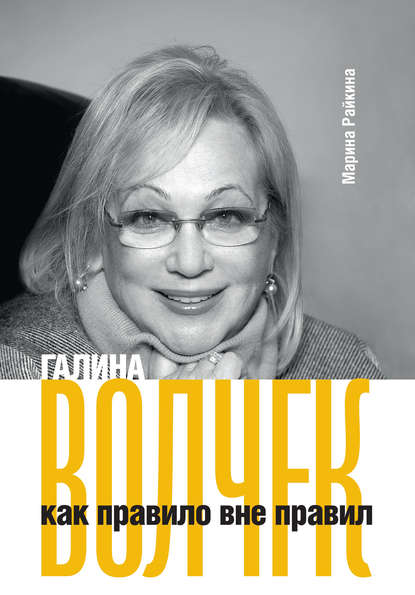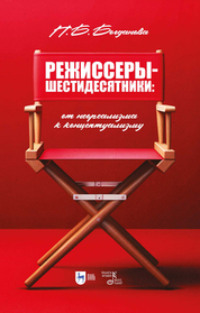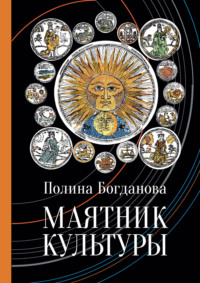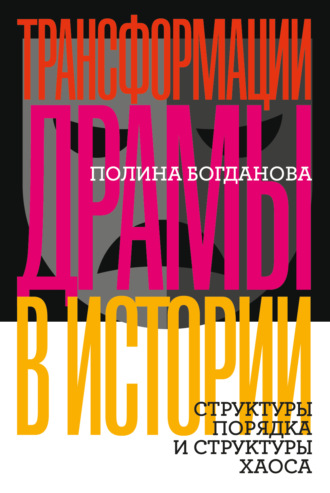
Полная версия
Трансформации драмы в истории. Структуры порядка и структуры хаоса
Первоначально, еще до Эсхила, в драме появился один актер, который вступал в диалог с хором. Эсхил прибавил еще одного актера, и возможности диалога возросли. Хор – это то, что выражает в драме эпическое начало, хор повествует о событиях, которые в основном происходят за сценой, и рассказ о них ведет хор. Хор берет на себя роль комментатора смыслов, предугадывает тот или иной поворот действия. То есть это не голос одного человека, а скорее голос, начало которого – в предании, то есть прежде это был голос рода. Из актера, выделяющегося из хора, и вырастает драматический герой, субъект действия.
Эсхил. «Орестея»
Эсхил (525–456 г. до н. э.) относится к классическому периоду греческой цивилизации, к V веку до н. э., веку прославленного Перикла, возглавлявшего афинский полис. Именно в это время родилась драма. Эсхил выиграл главный приз как лучший драматург на Великих Дионисиях.
Эсхила называют «отцом» античной трагедии. Известно, что он написал около 90 драматических произведений, из которых сохранились только семь. В их число вошла трилогия «Орестея». Это сохранившееся целостное произведение дает много материала для анализа начального этапа античной драмы.
Исток действия заложен в прошлом и связан с проклятием рода Атрея, поскольку Атрей некогда соперничал со своим братом Фиестом, убил его детей и накормил Фиеста их мясом. Это и наложило на род Атрея проклятие. В роду Атрея не прекращаются преступления. Одно из них – убийство Клитемнестрой своего мужа Агамемнона.
В начале первой части трилогии Агамемнон возвращается с троянской войны как герой. Они победили Трою. Его жена Клитемнестра, которая узнала о приближении Агамемнона еще по огням костров, зажженных на вершине горы, встречает его с подобающими почестями, расстилает перед ним красную дорожку и готовит ему баню, чтобы он сбросил усталость и набрался сил. Появляется Кассандра, которая пророчествует о том, что тут вскоре прольется кровь и она сама погибнет. Кассандра действительно гибнет вскоре от ударов слуг Клитемнестры. После чего Клитемнестра в бане топором убивает своего мужа, он издает громкий предсмертный крик.
Клитемнестра в следующей сцене говорит о том, что убила мужа из мести за Ифигению, ее любимую дочь. Хор предвещает Клитемнестре возмездие за это преступление. Что на самом деле руководит Клитемнестрой? Ее субъективное чувство мести? У нее, конечно, есть чувства, но не они движут действие. Сцена с Клитемнестрой, когда она говорит о своей мести за принесенную в жертву дочь, – лишь эпизод первой части трилогии. Осуществлением проклятия руководит рок, а не человек. На этом этапе развития греческая трагедия практически не знает субъективных действий, осуществляющих механизм развития драмы. Клитемнестра убила мужа по закону рока. События совершаются благодаря действию рока и словно сами собой, не люди их провоцируют. Поэтому здесь еще рано говорить о субъекте действия. Человек не является самостоятельной деятельной личностью. Он совершает те или иные поступки лишь по велению рока. После убийства Агамемнона Клитемнестра и Эгисф остаются в Аргосе в качестве единоправных правителей. Хор предвещает приход Ореста, сына Агамемнона и Клитемнестры, который должен отомстить за убийство отца.
Вторая часть трилогии, «Хоэфоры» («Просительницы»), начинается с того, что Орест возвращается в Аргос. Он до этого жил на чужбине, а теперь, вернувшись на родину, должен отплатить Клитемнестре.
Все совершит моей рукой суд богов. / Убив ее, пусть и сам погибну.
Это слова Ореста. В них уже сполна выражена философия трилогии.
Орест появляется перед Клитемнестрой. Она понимает, что погибнет от руки сына, обнажает грудь, говоря, что ею она вскормила Ореста, пусть разит ее. Орест на мгновение впадает в сомнение – это единственный субъективный момент у Эсхила, – но упоминание о необходимости мести за отца заставляет его действовать. Он убивает мать.
Я в разуме. Казнил я правосудно мать, / Отца убийцу, мерзкую в глазах богов.
Опять тот же мотив правомочности родовой мести. Орест тоже действует не по своему желанию и разумению, а выполняя волю богов, волю рока. За Орестом устремляются мстительницы – хоэфоры.
В третьей части «Орестеи», которая называется «Эвмениды», Ореста продолжают преследовать мстительницы. Тут в полную меру определяется конфликт Ореста и мстительниц, которые считают убийство Орестом матери преступлением.
Этот конфликт разрешает Аполлон, который оправдывает убийство Орестом матери как месть за отца. Он выражает позицию принятия древнего закона Зевса о мести за убийство кровного родственника. Аполлон гонит хоэфор из храма, они в ответ посылают проклятия. Аполлон – новый бог, по его мнению, Орест не виновен в убийстве матери. Аполлон предлагает для окончательного решения проблемы обратиться к Афине.
Орест у храма Афины. Спор с эринниями продолжается. Афина появляется на колеснице и для того, чтобы решить спор, предлагает созвать суд присяжных из лучших граждан полиса. Пусть они решат. Их голоса разделяются поровну. Тогда Афина добавляет свой голос, и спор решается в пользу Ореста. До сих пор в Греции, когда суд присяжных не может решить проблему, прибавляется символический голос Афины, оправдывающий подсудимого. Это стало традицией Греции.
Что делать хоэфорам? Они повержены и посрамлены, негодуют по поводу «века новых правд». Афина предлагает хоэфорам превратиться в эвменид и славить добрые дела и «блеск отчизны».
Античная драма отражает собой целостный, гармоничный мир, а понятие «гармония» выражает главное в менталитете греков. Оно в античности периода расцвета демократического полиса определено общим понятием гармонии космоса. «Космос с Землей посредине и со звездным небом наверху мыслился идеально построенным раз навсегда, с допущением круговорота вещества в природе и вечными переходами от космоса к хаосу и от хаоса к космосу»21, – писал А. Лосев. Космос – это некий порядок, который организует не только жизнь богов, но и жизнь людей. Во всяком случае, люди должны стремиться к тому, чтобы изначальную космическую гармонию, или изначальный порядок, сохранить. Поэтому они живут в умопостигаемом мире, где все взаимосвязано и одно вытекает из другого. Судьба человека – «одна из сторон космоса»22. «Человек трактуется в античности не как личность», а как «проявление природы, как эманация чувственно-материального космоса»23. Эти характеристики дают ключ к пониманию античной драмы, к ее философии и построению.
Орест у Эсхила живет в структуре гармоничного космоса, где боги исполняют космические законы и установления – и так происходит издревле. Зевс, самый древний бог, устанавливал закон родовой мести за смерть кровного родственника. Это самый начальный этап греческой системы жизни. Проходили столетия, и закон Зевса сменялся законом Аполлона. Он приносил с собой новое миропонимание и новые законы. В трилогии Эсхила Аполлон соглашался с законом Зевса и оправдывал убийство Орестом своей матери, которая убила отца. В демократическом полисе возникает богиня Афина как покровительница этого полиса. Она приносит с собой новый – гражданский – закон. Ему подчиняется суд присяжных, выборных граждан из полиса. Это закон государственный, и с точки зрения этого закона Орест тоже оправдан. То есть Эсхил подчеркивает, что новые государственные законы вовсе не противоречат древним законам богов. Орест рассматривается в трилогии в пространстве действия законов богов и государства. Действия Ореста отмечаются как правовые. Собственно, Эсхилу и нужно было своей трилогией утвердить новые государственные законы и показать, что они находятся в связи с более древними законами богов. Эсхил к концу трилогии показывает, что Орест прежде всего – гражданин. Его действия могут рассматриваться именно в связи с гражданскими правами и обязанностями. Цель этой трилогии Эсхила – утвердить и прославить позицию гражданина полиса. Поэтому здесь есть не только религиозные, но и социально-политические мотивы. Последнее обстоятельство очень важно для характеристики данного этапа развития античной трагедии, которая игралась при большом стечении народа, практически перед всеми гражданами Афин, включая женщин и детей. Это был театр социума на его подъеме, когда утвердились важные для жизни граждан законы.
Путь Ореста в трилогии не связан с личными намерениями и целями – он только орудие богов, исполнитель древнего проклятия. Это говорит о том, что позиция личности у первого великого драматурга Греции еще не сформировалась.
Что Орест совершает по своей воле, исходя из личностной цели? У него практически только одно деяние – убийство матери, и то оно происходит потому, что существует божественный закон кровной мести за отца. Дальше Орест вопрошает богов, правильно ли он поступил, и боги снимают с него вину. Но тут возникает важный вопрос: решается ли в трагедии вопрос личной правоты Ореста или это только вопрос о правомочности мести? Вопрос о личной правоте или неправоте – это уже вопрос развитого этапа европейской культуры. В античности этим вопросом еще не задавались.
Итак, в драматическом действии, движимом собственной субъективной целью, Орест не участвует. Поэтому можно сказать, что у Эсхила протагонист еще не выделен из объективного мира как личность, имеющая собственные, индивидуальные цели. Личность еще полностью подчинена высшим установлениям богов.
Структуру, которая исходит из понимания общей гармонии или космического порядка, можно определить как классическую (замкнутую). Ибо в ней все происходит внутри ситуации, в которой действуют боги и Орест.
Замкнутая структура античной трагедии – это идеальная структура. Потому что в ней протагонист свободно подчиняется высшим законам. В этом состоит его доблесть, в том числе и гражданская. В замкнутой структуре порядка присутствует гармония частного и общего. Протагонист в драматической ситуации убийства матери, последовавшей как месть за убийство отца, оправдан общими законами, в данном случае законами богов и государства. В такой структуре нет случайностей, ибо все подчинено общим логическим причинно-следственным связям и определенным законам.
Это очень важно, что в такой модели существуют законы. Это придает позиции гражданина полиса устойчивость и определенность. Потому что, если гражданин подчиняется законам, его участь благополучна и он прав в своих действиях. В целом можно сказать, что в этой модели действует власть закона и закономерностей.
Трилогия «Орестея» имеет центр. В центре находится Орест, к которому стягиваются нити всех других действующих лиц. Поэтому мы тут говорим о центростремительном построении. Оно и является основой того мира, который представлен в этой трагедии. Действие развивается линейно.
Центростремительная структура может противостоять нецелостной, дисгармоничной структуре, которую представит собой драма барокко у Еврипида и в дальнейшем комедии эллинистического периода.
Конфликт Ореста и эринний нельзя назвать драматическим, поскольку Орест в отношениях с эринниями ведет себя пассивно, не вступает в споры, не оправдывается и т. д., ведь для развитой драмы необходимо и наличие активной действующей личности, и наличие конфликта этой личности с другими. Поскольку конфликт в драматическом смысле тут не слишком определенно выражен, поскольку личностная активность у протагониста отсутствует, постольку мы имеем дело с очень ранним примером античной трагедии.
В этой трилогии еще сильно эпическое начало. Протагонист действует по закону рока, у него еще нет собственного целеполагания. Боги тоже не находятся в конфликте с Орестом, или, лучше сказать, наоборот, Орест не находится в конфликте с богами, что в миропонимании Эсхила вообще не допускается. Орест только вопрошает богов, чтобы разрешить основную проблему, поставленную здесь: правомочно ли мстить убийством матери за убийство отца? Проблема эта подается не от лица протагониста – ее скорее ставит сам автор. Это Эсхилу важно провозгласить законы и порядок нового времени, времени расцвета афинского демократического полиса. Собственно, ради этого Эсхил и написал свою трилогию.
В финале конфликт Ореста и эринний-эвменид разрешается. Поэтому его можно считать исчерпанным. В финале трилогии ставится точка. Все события совершились внутри драматической ситуации, и она от начала до конца проиграна.
Все эти свойства – исчерпанность конфликта, его развитие внутри драматической ситуации, наличие центра, центростремительность построения, подчинение частного общему – и весь гармоничный строй драматической ситуации говорят нам о том, что это классическое построение, замкнутая структура, которая появляется в период подъема и целостности социума. Личность в таком социуме существует по его законам. И на этом этапе греческой трагедии личность не ограничена никакими враждебными, детерминирующими силами. Она свободна. Поэтому мы говорим о некоей идеальной структуре, где все события располагаются по вертикали: от Ореста, который находится на земле, к богам, расположенным выше. Однако тут есть и события, построенные по горизонтали: это все сцены с Клитемнестрой. Соединение вертикальных и горизонтальных построений дает большой объем трагедии.
Замкнутая структура античной трагедии – тот пример, который впоследствии, в европейской ситуации, будет повторен в классической замкнутой модели Возрождения, затем в классической замкнутой модели классицизма. Дальнейшие замкнутые структуры будут ужесточаться, стягивать кольцо вокруг личности героя и детерминировать его, что уже проявится на поздних этапах европейской цивилизации и будет говорить об ограничении свободы личности. Античный герой еще свободен в своих взаимоотношениях с высшими законами богов, ибо античная гармония – самая первая из нам известных моделей космоса, который представляет собой всеблагой изначальный порядок. Другое дело, что, выстраивая линию преемственности от закона мести за убийство отца, утвержденного еще в догосударственные времена, до принятия этого закона Афиной уже в период греческой государственности, мы обнаруживаем еще архаичный характер мышления древних греков, который отразил Эсхил. Соединение высокой культуры века Перикла и архаичности мышления и характеризует античную цивилизацию V века до н. э. Хотя в дальнейшем архаизм мышления будет преодолен.
Софокл. «Эдип-царь»
Софокл (496(5)–406 г. до н. э.) – второй драматург классического периода Древней Греции. Он получил приз как лучший драматург на Великих Дионисиях после Эсхила и уже не писал трилогий, а создавал отдельные самостоятельные драмы.
В религии древних греков очень важен мотив судьбы, которая управляет действиями людей. Власти судьбы подчиняются даже боги. Судьба – это проявление космоса; почему космос решает так или иначе, древний грек не берется судить. Покорность судьбе – это высшая человеческая мудрость. Этой философии посвящена трагедия Софокла «Эдип-царь».
В трагедиях Софокла возросла роль личности героев. Сократилась роль хора, что говорит о нивелировке эпического начала и преобладании субъективного. Если действия Ореста у Эсхила были целиком и полностью определены богами, то у героя Софокла появляются собственная цель и собственные мотивы.
Миф об Эдипе имеет давнюю предысторию. Фиванскому царю Лаю было предсказание о том, что собственный сын убьет его. Тогда он решил избавиться от новорожденного, проколол ему ноги и оставил на горе Киферон. Младенца усыновил коринфский царь Полиб, когда того принес ему пастух.
Эдипу было предсказано, что он убьет своего отца. Поэтому, чтобы избежать этого предсказания, Эдип уехал из Коринфа от Полиба, которого считал отцом, и направился в Фивы. В дороге он встретил повозку, в которой сидел старик, охраняемый стражей. Возникла потасовка, и Эдип убил этого старика и его стражу. Это и был его настоящий отец, о котором Эдип ничего не знал. В Фивах Эдип женился на Иокасте, вдове прежнего правителя, которая на самом деле была матерью Эдипа. У них родились четверо детей. Эдип правил в Фивах вполне благополучно до тех пор, пока не пришло известие, что в город пришел мор. С этого и начинается трагедия.
К Эдипу обращается жрец Зевса и просит защитить город. Эдип отвечает согласием. Он посылает Креонта в Дельфы, чтобы узнать у оракула, какой ценой можно спасти город от гибели.
Креонт возвращается с известием о том, что в городе живет убийца предыдущего царя Лая. Эдип собирается найти убийцу.
Это намерение становится главной целью Эдипа, которая двигает дальнейшее действие.
Появляется Тересий, обладающий даром предвидения и пророчества. Тересий говорит о том, что убийцей Лая является сам Эдип. Царь не верит и обвиняет Тересия во лжи. Обвиняет также Креонта, якобы подговорившего Тересия назвать его убийцей. Креонт отвергает обвинения.
Сцена Эдипа и Иокасты, его жены. Эдип, с одной стороны, сомневается в обвинении Тересия, с другой, все же начинает подозревать, что убийца – он. Вскоре Эдип получает первое свидетельство этого: узнает о том, что он не сын Полиба. Полиб умер своей смертью, это для Эдипа означает, что он не убил своего отца, и это его на время успокаивает. Поэтому он хочет найти пастуха, чтобы убедиться в своем предположении. Иокаста в этот момент уже догадалась о том, кого Эдип убил на дороге, и просит Эдипа оставить расследование.
В дальнейшем раскрываются другие доказательства того, что Эдип убил своего настоящего отца, женился на собственной матери. Как он ни пытался уйти от пророчества, на деле он только приближался к нему. Его судьбой руководил рок. В финале Эдип выкалывает себе глаза.
Софокл в этой трагедии не обсуждает вину Эдипа. Тот не виноват в своих деяниях, поскольку им управлял рок. И мудрость человека заключается в том, чтобы принять это как данность, смириться с этим. Человек не властен над судьбой и роком, подчинен высшим космическим силам.
Трагедия строится таким образом, что действие в ней ведет протагонист. У него есть свои субъективные намерения, цель – найти убийцу. Это не только сугубо личностная цель, но еще и цель правителя Фив, то есть цель гражданина. Эдип инициирует настоящее расследование, в результате которого убеждается, что убил своего отца, женился на матери, то есть исполнил давнее пророчество, хотя пытался уйти от него.
Софокл уже в какой-то степени оперирует психологией героев. Иокаста первая подозревает, что Эдип – ее сын, в результате чего кончает самоубийством. Ее судьба – это целая законченная новелла, очень убедительная с психологической точки зрения. Однако с точки зрения психологии понимание Эдипом величия и неотвратимости рока еще не рассматривается, такого психологического мотива в трагедии нет. Софокл просто доводит действие до момента доказательства того, что Эдип – убийца отца. Ослепление Эдипа оставлено без комментариев драматурга. Назван сам факт. Психологическое исследование на этом этапе развития античной драмы еще не существовало. Не существовало вопроса о личной вине; он снимается в этой трагедии, поскольку Эдип принимает свою участь без рассуждений о том, справедливая ли кара его настигла. Всем управлял рок.
Но все же Эдип у Софокла уже является субъектом действия, потому что он ведет это действие и у него есть цель найти убийцу Лая, которой он достигает.
Античная драма в лице Софокла уже шагнула вперед по сравнению с Эсхилом, который написал «Орестею» о самых общих вопросах мировоззрения на тот момент греческой истории – о законах богов, о государстве. В этой трилогии, как уже говорилось, не совсем сформирована личность в ее субъективности. Герой трагедии как действующий субъект еще отсутствует. А ведь субъект, реализующий свою цель в действии, – это и есть главный закон драмы, ее родовая характеристика. Софокл уже пишет о человеке как самоценной сущности.
В трагедии «Антигона» тоже можно обнаружить субъективные намерения героини, Антигоны, которая тоже, как и Эдип, становится субъектом действия.
Сюжет трагедии, в согласии с мифом, посвящен гибели двух братьев, сыновей Эдипа, в бою, когда Этеокл сражался на стороне Фив, а Полиник – на стороне враждебного города Аргоса.
Этеокла, как героя, правитель Фив Креонт похоронил с подобающими почестями, а тело изменника Полиника бросил в поле. Антигона, сестра обоих братьев, поняла, что тело Полиника тоже надо предать земле, иначе его душа не найдет покоя. Так она и сделала.
Креонту сообщили, что труп Полиника похоронен. Креонт пришел в ярость и негодование. Ведь он приказал не трогать тело Полиника. Приказ правителя, считает Креонт, не может быть оспорен. Кроме того, Креонт исходит из сознания значительности своей персоны, которой все должны подчиняться.
А Антигона говорит, что приказ Креонта – это приказ смертного. А для нее важен только божественный закон, гласящий, что тело должно быть предано земле.
Гемон, сын Креонта и жених Антигоны, говорит отцу, что его правда не единственная, есть другая правда. Утверждает, что народ сочувствует Антигоне. Это очень важный момент, в котором провозглашается наличие двух правд. По сравнению с Эсхилом, в трагедиях которого была только одна правда, это шаг вперед. Софокл предполагает наличие противоположных точек зрения, что говорит о более совершенном этапе развития и драмы.
Креонт проявляет упорство и хочет казнить Антигону: поместить ее в темном склепе за городом, где та должна умереть.
Появляется Тересий и пророчествует о том, что Креонт за свое деяние получит кару, его будут преследовать эриннии.
В трагедии есть не только позиции Антигоны, Креонта и Гемона, но и позиция сестры Антигоны, робкой Исмены, которая сочувствует Антигоне, но боится ослушаться Креонта.
Таким образом, в этой трагедии уже представлены разные взгляды людей на главное событие – предание тела Полиника земле. Это уже личностные позиции. Они исходят из натуры героев. Божественный закон, который хочет соблюсти Антигона, – это не нечто внешнее, он кроется в глубине ее сердца, то есть позиция Антигоны тоже личностная, как и позиции Креонта и Исмены. Сфера действия в этой трагедии расширяется. Софокл исходит из модели демократического социума, в котором сосуществуют и решают проблемы разные личности. Это уже не монотрагедия, как у Эсхила. Мир расширился, появились разные точки зрения. Возникают диалогические отношения между людьми. Это очень важное завоевание Софокла.
Финал трагедии. Вестник рассказывает о том, как скончались Антигона и Гемон. Она повесилась, он вонзил в свою грудь кинжал. Это жертвы тирана Креонта. В этой трагедии есть не только призыв следовать божественному закону, но и социально-политические взгляды драматурга, выступающего против ложной позиции власти. В демократическом полисе тирания осуждается.
Креонт в финале пьесы понимает, что он виновен. Его настигает кара: гибнет его жена, царица. Он не слушался воли богов. Смерть Антигоны обретает героический ореол.
В трагедии «Эдип-царь» уже наличествует конфликт между персонажами. У Эсхила с Орестом конфликтовали эриннии, но это обстоятельство не стало сферой драматической борьбы. У Софокла идет борьба Антигоны с Креонтом, эти персонажи занимают в основном конфликте – предать ли тело Полиника земле – противоположные позиции. К этому конфликту также присоединяются и другие действующие лица – Исмена, Гемон. То есть тут мы уже встречаемся с более развитой драматической структурой. Наличие конфликтных позиций ведет к тому, что у персонажей есть свои цели, свои стратегии в борьбе. Каждый из них, таким образом, становится субъектом действия. Все вместе иллюстрирует классическую драматическую структуру, внутри которой развивается все и так же внутри разрешается.
Похожие драматические особенности отражены и в трагедии «Электра».
Электра годами ждет своего брата Ореста, который должен прийти и отомстить за смерть отца Агамемнона и убить свою мать Клитемнестру. Орест появляется на сцене вместе со своим воспитателем, которого просит разнести весть о его смерти. Это его тайный замысел, он собирается прийти во дворец Клитемнестры и Эгисфа тайно и осуществить месть. Известие о смерти брата приводит в отчаяние Электру, которая задыхается, живя во дворце со своей жестокой матерью и отчимом.
Электра в монологе долго говорит о своей горькой судьбе, о тирании Клитемнестры и Эгисфа. В трагедии участвует и сестра Электры Христофемида, отличающаяся более умеренной позицией и предпочитающая молчать и подчиняться матери. Христофемида похожа на Исмену из трагедии «Антигона».
После некоторых перипетий, связанных с ложным известием о смерти Ореста, появляется он сам и открывается сестре. Она ликует. Пришел мститель.