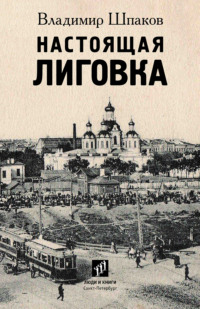Полная версия
Возвращение из Мексики
Идея была на первый взгляд абсолютно бредовая. Мол, есть какой-то знакомый в Краснодаре, который предлагает купить кагор, в большом количестве. То есть в очень большом: целых два фургона. Понятно, что на два фургона у нас денег нет…
– У нас и на один нет, – дипломатично поправил я.
– Ну да, у нас и на ящик вряд ли наберется… Но дело-то в другом! Нам не нужно закупать товар, нам покупателя требуется найти! Только по нашей цене, понял? А покупателем будет… Кто?
– Винный магазин?
– Вот и не угадал! Церковь! Кагор – это ведь церковное вино, оно там литрами потребляется, да что там – декалитрами! Во время причастия, на церковные праздники… Так что нужно всего лишь переговорить со святыми отцами, ну, на предмет покупки.
Мосина умела удивлять. Она могла расставить на сцене писсуары из папье-маше (действие пьесы происходило в мужском туалете), могла спрятать рок-группу за сценой, чтобы та грянула в момент лирического монолога, и кагор был из той же оперы. Причем главную арию в опере предлагалось спеть мне: себя Мосина в этой роли «не видела», поскольку женщина в церкви – существо второразрядное, а тут два фургона, как-никак…
– Честно говоря, я тоже для такой роли…
– Брось, у тебя получится. К тому же ты не даром будешь работать, а за процент. Получим свою прибыль, поделим, и ты бросишь наконец пахать на этих «новых русских». Спектакль будем делать вдвоем! Да от этого Курамова с его кинухой одно мокрое место останется! Ну скажи честно, я ведь лучше, чем он?
– Ты – лучше. Но кагор…
– Кагор нас спасет. Выручи, я умоляю! Я просто пропадаю, пойми!
Окурок нервно раскрошили в пепельнице, после чего Мосина надолго закашлялась. А я понял, что придется тащиться к святым отцам. Я не умел отказывать Мосиной, любые мои проблемы в сравнении с ее проблемами – меркли и казались ничтожными. У меня не было долга в несколько тысяч зеленых, не было астмы; и ребенка с пороком сердца я не рожал, а Мосина – родила и теперь разрывалась между творческими порывами и санаториями, куда иногда помещали юного Антона.
– Когда начнем делать спектакль, – откашлявшись, сказала Мосина, – я брошу курить. Честное слово!
– Ты и в прошлый раз, когда начинала, обещала бросить.
– Ну, тогда был стресс! Да и Антон, как ты помнишь, в больницу попал… Между прочим, он сейчас в санатории, нужно его навещать, поэтому в церковь, сам понимаешь… Да, тебе же нужны образцы!
– Образцы чего? – не понял я.
– Продукции. Мне эти краснодарцы завезли несколько бутылок на пробу…
Нырнув под стол, Мосина извлекла три бутылки. «Кагор № 32» – это я прочел на этикетке.
– Сама-то пробовала? – спросил я.
– Я сухое пью, как ты помнишь… Но это вино – классное, я тебя уверяю! Можешь смело нести его прямо в Александро-Невскую лавру!
– В лавру – слишком нахально, – сказал я, укладывая бутылки в сумку. – Я начну с чего-нибудь поскромнее.
Моя работа оторвала меня от культуры, Мосина же вроде как возвращала в ее лоно. Возвращала, впрочем, хитрым окольным путем, через коммерцию и церковь, а эти две вещи были равно от меня далеки, да и вообще как-то плохо соединялись в мозгу. Отложив свидание с попами, я двинул на Невский, по которому не гулял уже черт знает сколько времени. И на первом же перекрестке увидел Дятлова.
Под мышкой он держал увесистый черный том, и лицо Дятлова озаряла загадочная усмешка. Обернутый в глянцевую суперобложку, том выскальзывал, но Дятлов почему-то не спешил укладывать его в потрепанный кожаный портфель. Наоборот, он взял портфель под мышку, а том понес перед собой, как Евангелие в церковный праздник. Встречные, однако, проявляли полное равнодушие к приобретению библиофила, положение спасло только мое появление.
– Видишь?! – Дятлов тыкал книжкой в нос. – Это «Маятник Фуко»!
– Вижу… – отвечал я. – И что с того?
– «Маятник Фуко» Умберто Эко!
– Ну и? Насколько я знаю, это не самое свежее изделие мастера.
– Зато там есть вот что!
Дятлов раскрыл книжку, и на титульном листе обнаружилась размашистая подпись, сделанная фломастером. Латинские буквы образовывали какой-то каббалистический узор, в котором с трудом угадывались «и» и «Е».
– A-а… Добрался до тела, значит?
В те дни Питер переживал культурный шок – к нам в гости пожаловала ожившая легенда мировой литературы. «Ты слышал? – вопрошали меня по телефону. – Во время лекции в Публичке он ругал Интернет и хвалил Гуттенберга!» Говорили, что Умберто Эко бессменно сопровождают переводчица Елена Костюкович и ребята из модного издательства, получившие на последние книжки автора эксклюзивные права. Еще говорили, что ребята неплохо греют руки на визите, живой классик, мол, служит великолепным катализатором продаж, и этим информация исчерпывалась.
Дятлов сразу почувствовал мою отстраненность от эпохального события.
– Нет, – сказал он, – так не пойдет. Ты понимаешь, что такое бывает раз в пятьдесят лет?
– Ну уж… – криво усмехнулся я. – За последние пятьдесят лет к нам и Маркес приезжал, и даже Жан Поль Сартр…
– И ты слушал их лекции, да? И брал у них автографы, верно?
– Так я и здесь лекцию не слушал. И автографа, как видишь, не имею.
– Ну и дурак, – заключил Дятлов. – Между прочим, в Домжуре завтра прессуха будет, а потом еще в Доме книги пройдет автограф-сессия. Где ты спокойно можешь подписать такую же книжку.
– Такую же не хочу… – вяло возразил я. – Мне больше «Имя Розы» нравится.
Дятлов испепелил меня взглядом. Да читал ли я вообще это великое произведение – «Маятник Фуко»? Ах, не читал… Но как же я тогда смею предпочитать одно – другому?!
Спорить не тянуло. Библиофил гвоздил лоха из всех калибров, а я вдруг вспомнил про тот маятник, что раскачивается в Исаакиевском соборе. С юных лет меня завораживал процесс демонстрации вращения Земли, когда маятник Фуко сбивал установленные дощечки. То есть завораживал именно процесс сбивания, о том, что Земля вертится, я и так знал. Установленный экскурсоводом крошечный брусочек в гигантском объеме Исакия смотрелся жалко, выглядел ничтожной песчинкой мироздания. А маятник, между тем, неумолимо к нему приближался, как воплощенный Фатум. Приделанный к шару длинный штырь скользил в сантиметре от брусочка, потом в миллиметре, и, когда в момент очередного качка брусочек опрокидывался, так жалко почему-то становилось, так вдруг сжималось сердце… Ей-богу, в этот момент хотелось остановить вращение Земли, но группу уводили, и теперь другие должны были лицезреть беспомощность брусочка перед судьбой.
– Короче, приходи завтра в Домжур. Это будет самым значительным событием в твоей жизни, поверь.
– Думаешь? – усомнился я. – Вообще-то я Гагарина видел живого, а еще Фиделя Кастро…
– Скажи еще: руку ему пожимал!
– Руку Фиделю пожимал один мой знакомый. Между прочим, он…
– Нет, ты полный дебил! Все, прекращаю общение, иначе мне захочется стукнуть тебя по голове этой книжкой! А книжку – жалко!
Дятлов кинулся на другую сторону Невского, рискуя быть задавленным автотранспортом, я же направился к метро.
Через час я уже вешал двери под четким руководством Якута. Главное тут было соблюсти идеальную вертикаль коробки, а для этого – использовать отвес.
– Что-то он качается все время, отвес этот… Прямо как маятник Фуко.
– Маятник чего? – спрашивал Якут.
– Фуко. Который в Исаакиевском соборе висит.
– Ты там тоже, что ли, двери навешивал? Ну, в соборе этом?
– Пупок развяжется, если там двери навешивать. Там каждая створка – весом в танк.
– Да ну? – не верил Якут.
– Точно. Слушай, а почему тебя якутом зовут? Ты вроде не похож на представителей нацменьшинств…
– Потому что родился в Мирном. Знаешь такой городишко? Он как раз в центре Якутии находится… Но здесь уже десять лет работаю, видишь, даже до прораба дорос.
– И что, за десять лет в Исаакиевский не сходил ни разу?
– Да я вообще не знаю, где он находится. Ну как, установил? Косовато вроде…
– Можно поправить, если косовато.
Якут взглянул на часы.
– Некогда поправлять. Сегодня с дверями надо кончать, на кухню переходим.
Не знаю, почему хозяин этих пятикомнатных хором так доверял прорабу из Мирного. Немцы вместо слова «брак» употребляют выражение «русская работа». Здесь же практиковалось нечто более чудовищное, что следовало бы назвать «якутская работа». Дверные и оконные блоки перекашивало, паркет в углах скрипел, но Якут как-то умело убалтывал хозяина, выпячивал достижения, халтуру же искусно маскировал.
– От, блин… – ругался он на кухне, заделывая в стену пластиковый водосток. – Не лезет! Надо было штробу глубже делать, а времени долбить уже нет! Ладно, дай-ка молоток.
Якут в три удара вогнал в штробу водосток, который из круглого сделался овальным, потом и вовсе треснул. Повисла неприятная пауза.
– Надо бы заменить… – неуверенно проговорил Якут. – Но где взять время? Поэтому давай, заклей эту трещину скотчем – и можешь замазывать.
Замуровывая треснувшую трубу в стену, я представлял, как через пару месяцев штукатурка набухнет водой и из стены забьет «Кастальский ключ». Однако жалости к владельцу апартаментов не испытывал. С какой стати? Я чувствовал себя жертвой экономической разрухи, хозяин же, говорили, неплохо хапнул во время перераспределения собственности, откуда и квартирка в сталинском доме в полторы сотни квадратов…
Когда я, собравшись домой, вскинул на плечо сумку, раздалось предательское звяканье. Якут сделал стойку.
– А что это у тебя звенит? – спросил он вкрадчиво. – Пиво?
– Кагор, – честно ответил я.
– Да ну? – не поверил прораб.
– Точно, я его в церковь несу, продавать.
– В церковь, значит… – Якут что-то мысленно прикинул, после чего радостно заявил:
– Так ведь сейчас пост! А значит, твои церковники подождут еще пару недель! В общем, давай, наливай!
К счастью, Якут плохо переносил сладкое, поэтому ограничились распитием одной бутылки из трех. Продолжили на улице, пивом, и, когда прораб расслабился, я закинул удочку насчет завтрашнего дня.
– Мне на пресс-конференцию надо. Хочу Умберто Эко послушать.
– Кого-кого?!
– Одного итальянца знаменитого.
Якут горестно махнул рукой.
– Итальянцев все хотят слушать, а кто будет слушать Якута?! Я же говорю: времени, блин, в обрез! Заканчивать надо с этой хатой, а то скоро все сыпаться начнет!
Когда я купил еще по кружке, Якут вспомнил, что у него есть домашние дела. А значит, хата вполне может подождать до послезавтра.
Пресс-конференция была намечена на вторую половину дня, первую же я посвятил делам коммерческим. Опыт говорил: любой бизнес заканчивался для меня плачевно, госпожа удача воротила нос от моих поползновений огрести маржу на купле-продаже. Но тут вроде как не я, а Мосина была инициатором коммерции. На всякий случай я поставил инициатора в известность, мол, «иду на вы», услышал в телефонной трубке бодрое: «С богом!», после чего отправился в Спасо-Преображенский собор.
Первой преградой оказался церковный порог. Я не бог весть какой православный, но входить в церковь с прагматической целью впарить две фуры кагора не позволяло генетическое уважение к крестам на куполах. Перед глазами встала картина: «Изгнание торгующих из храма», и я в смущении остановился перед колоннадой. Служителей культа не было видно, пришлось обращаться к церковным нищим.
– Служебный вход? – удивился некто одноглазый. – Так откуда ж в храме – служебный вход?! Тут все входы для верующих, а ты, мил человек…
Я понял свою промашку и тут же опустил в шапки каждому из трех сидящих на паперти.
– Есть вход, – объяснила пожилая нищенка, – вон там. Надо в подвал спуститься, где у них хозяйственная часть. Только смотри, они ребята суровые…
– Ага, – добавил третий попрошайка. – Гоняют нас – со страшной силой!
Спускаться в подвал сразу расхотелось. Но и позорно сбежать, когда вожделенная прибыль была так близко…
В длинном, уходящем вдаль подвальном коридоре было пусто. Плитка на полу, белый кафель на стенах – это напоминало коридор больницы, сходству мешали разве что прикрытые брезентом штабеля вдоль стен. Приоткрыв брезент, я обнаружил ящики с пустой стеклотарой, на которой красовалась одна и та же надпись: «Кагор “Чумай”». Мелькнуло: «Верной дорогой идете, товарищи!» – после чего я двинулся вглубь, где слышались приглушенные голоса.
Завернув за угол, я увидел такой же коридор, а в нем – еще один штабель, теперь уже без брезента. Голоса сделались громче, а вскоре показались и их обладатели: один мелкий и худосочный, с венчающим редкую шевелюру хохолком, другой – массивный и чернобородый, в расстегнутом сером халате. Парочка сидела за столом, на котором стояла водка (как ни удивительно) и какая-то простецкая закуска.
– Плитку укладывать хочешь? – спросил обладатель хохолка. – Извини, набрали уже орлов… Приходи через месяц, когда будем ограду подновлять.
Я смущенно забормотал, дескать, работа не нужна, а вот кагор… Выслушав меня, собеседники переглянулись.
– Два фургона, говоришь? Да куда ж нам столько, родное сердце? Разве мы столько выпьем?
Мужик с хохолком цепко меня оглядывал, будто обшаривал карманы.
– Можно впрок купить… – неуверенно сказал я. – Впереди ведь еще Пасха, ну и так далее…
– Конечно, родной, конечно… И Пасха, и Троица, и Успение Богородицы… Сам-то крещеный?
– Ну., да… В детстве крестили.
– В детстве – это хорошо. В детстве мы эти… агнцы, да, Кирилл?
– В детстве – все агнцы, зато потом…
Толстый Кирилл, кажется, имел в виду меня, дескать, из безвинной овцы некоторые потом превращаются в живоглотов.
– Так как, берете? Я видел в коридоре пустые бутылки, там под брезентом один опорожненный фургон уж точно стоит.
Хохолок удивленно закачался влево-вправо.
– А ты хват – разглядел, чего хотел! Ну, ладно, если ты такой умный, то вспомни, что написано на бутылках?
– Написано: «Кагор».
– А еще что?
– Ну, «Чумай»…
– Вот! Мы молдавский кагор покупаем, ясно тебе?
– Краснодарский лучше! – убежденно сказал я.
– Зато молдавский дешевле.
– Это как-то непатриотично… – проговорил я после паузы. – У нас с Молдавией трения, приднестровский конфликт, а вы в это время…
– Ну, ты загнул! Выгода – она границ и конфликтов не знает. Нам выгодно это, понимаешь? А с тобой связываться – невыгодно!
Я помолчал, потом сказал:
– А маятник Фуко вешать не пробовали?
Парочка опять переглянулась.
– Что за маятник, родной? – спросил хохолок с подозрением.
– Его подвешивают за верх церковного купола, чтобы вращение Земли демонстрировать. Если деньги за это брать, тоже выгоду можно поиметь.
Повисло нехорошее молчание.
– А ты, однако, безбожник… – произнес Кирилл и, выпрямившись, уперся головой в подвальный свод. – А с безбожниками у нас разговор короткий…
– Сами хороши! – огрызнулся я, ретируясь. – Сейчас пост, между прочим, а вы тут водяру трескаете!
Я не стал огорчать Мосину неудачей, решил, что сделаю это после пресс-конференции.
Мероприятие проходило в малом зале Дома журналистов. Ища место, я здоровался со знакомыми, то и дело слыша: сколько лет, сколько зим! Ты куда пропал, а? Мы уже решили: ты умер… «Не дождетесь», – думал я, придерживая сумку с бутылками.
На сцене восседал вальяжный чернобородый человек, он что-то быстро говорил по-итальянски, а сидевшая рядом дама с короткой стрижкой (надо полагать, Костюкович) переводила. В первом ряду я заметил Дятлова, однако там мест не было.
– Ну? – саркастически спросил один из знакомых, свободный философ по фамилии Брандт. – Тоже пришел отметиться? Тогда садись, приобщись к дискурсу этого профессора.
– Почему профессора? – я присел на уступленный кусочек стула. – Он вроде как писатель.
– Нет, он именно профессор! Все, что он пишет, – это же университетская лекция, закрученная в детективный сюжет!
Брандт был фигурой гомерической, и предметы поклонения у него были такие же. Ницше, Селин, Чарльз Буковски – все, кто идет перпендикулярно толпе, превозносились Брандтом, остальных же он в упор не видел.
– Собрались, смотрите на них! – Брандт саркастически кривил рот, озирая сообщество. – Дескать, мы тоже участники европейской интеллектуальной жизни! Тоже не лаптем щи хлебаем!
Публика в зале и впрямь напоминала неофитов, приобщавшихся к таинству, которое ожидалось в течение всей жизни. Те же, кому удалось усесться на сцене и составить что-то вроде президиума, вообще парили в облацех, их лица без всякого преувеличения сияли.
Эко вел себя свободно, много шутил, возвышаясь на высоком подиуме, как римский бог, изволивший посетить гиперборейскую страну. Гиперборейцы, напротив, своей неестественностью и суетливостью демонстрировали безнадежный провинциализм.
Брандт толкнул меня в бок.
– А Дятел-то – глянь: никак вопрос задать решил!
Вскочивший в первом ряду библиофил что-то прокричал, получив краткий шутливый ответ. Дятлов захлопал в ладоши, приглашая зал присоединиться, а Брандт закатил глаза в потолок.
– Нет, ну что за низкопоклонство?! – он раскрыл газету. – Ты лучше посмотри, что пишут про твоего любимого Эко!
– С чего ты взял, что он у меня любимый? Он у Дятлова любимый.
– Ну, с Дятла чего возьмешь? Дятел – он же и в Африке, как говорится… Короче, слушай. «Когда этот человек объявляет, что заканчивает новый роман, издательские машины по всему миру приходят в движение. Литературные агенты начинают бороться за права на переводы и издания. Новый роман этого маэстро интеллектуальной интриги подобен камню, который обрушивает лавину…» Тьфу!
– Ну, положим, я бы тоже не отказался, чтобы издательские машины скрипели и литагенты шустрили, когда я заканчиваю что-то писать. Но ведь не скрипят, увы.
Моей ошибкой было то, что я втиснул между собой и Брандтом сумку. Тонкий кожзаменитель не мог скрыть лежащих в ней сосудов, и приятель, поерзав, спросил: что, мол, там?
– Кагор… – вздохнул я.
– Ну, даешь! Ты бы еще шампанского притащил, чтоб отметить приезд этого макаронника! Ладно, здесь есть одно укромное место, в курилке. Пойдем, раздавим твой кагор…
Говорить про образцы продукции было бессмысленно. Оставалась робкая надежда, что церковное винище Брандту придется не по вкусу и хотя бы одна бутылка уцелеет. Увы, аппетиты на спиртное у Брандта были тоже гомерические: два кагора пролетели мелкими пташками.
– Идем продолжать в «Борей», – сказал Брандт.
Я не возражал, философски решив: книжку все равно не купил, автограф не светит, а тогда – почему не выпить? Мы продолжили в подвале «Борея» водкой, потом забежали в актерское кафе заполировать выпитое пивком. Коктейль крепко шибанул в голову, мы шатались, идя по вечерней улице, и спорили, перескакивая с пятое на десятое. Как всегда, Брандта понесло в сторону своих «перпендикулярных» любимцев, о них он мог болтать хоть до утра.
Вскоре мы оказались возле цирка, встав рядом с афишей. А Ницше?! А тварь дрожащая?! Нет, при чем здесь тварь?! А вот при том! С афиши идиотически улыбались два клоуна, мы тоже чем-то напоминали идиотов. Я вдруг увидел нас со стороны: двое в соплю пьяных людей выкрикивают непонятные слова, и если бы нас кто услышал…
Оказалось, нас услышали.
– Нет уж, – не давал повернуть голову Брандт, – ты в глаза мне смотри! И отвечай: кто из нас та самая, дрожащая?
– Оба, – отвечал я. – Только я этого не отрицаю, а ты пальцы растопыриваешь.
– Я пальцы растопыриваю?!
– На полторы октавы, как Рихтер.
– Рихтер – выдающийся человек, высший! Он имел право растопыривать пальцы!
– Но ты же не Рихтер. Ты всего лишь Брандт.
Пока оппонент подбирал аргументы, я таки повернул голову. И увидел трех ментов: те стояли возле машины и, поглядывая на нас, весело переговаривались. Возможно, заключали пари: кто быстрее упадет? Или: кто первый врежет противнику в морду? Думаю, они стояли давно и должны были основательно пополнить образование в части философии бунта.
– Ну, мы пошли? – спросил я, почти не надеясь на положительный ответ.
– Я бы сказал: поехали! – загоготал один из ментов. – Предлагается автомобильная экскурсия по вечернему городу! Оплата – в конце маршрута!
Я никогда не понимал милицейской логики, не понял и на этот раз. Нас довезли, выгрузили из «стакана», но перед дверью меня остановили.
– Ладно, – сказали, – ты можешь гулять. А вот с приятелем твоим мы потолкуем!
Массивная железная дверь лязгнула, скрыв Брандта в недрах ментовки. «Оставь надежду всяк сюда входящий…» – вспыхнула надпись на черном железе. Я попытался заглянуть внутрь через окно, однако там виднелась лишь наглухо задернутая штора. Я выкурил сигарету, мысленно проклиная моего ницшеанца, затем приблизился к двери. Звонка обнаружить не удалось, и я постучал по железу костяшками пальцев. Глухо. Я постучал еще раз, потом грохнул кулаком. Безответность прибавила наглости: я начал методично долбить кулаком по двери, и раза с двадцатого та распахнулась.
– Ну, чего ты стучишь? – примирительно сказал мент. – У тебя это… деньги есть?
– Практически нет.
– Вот и у него ноль. Практически… – мент вздохнул. – Что ж вы так, ребята? Надо это… Иметь в кармане на всякий пожарный!
– Надо было нас до того брать. Тогда в карманах было.
– А повод? До того повода не было бы, а просто так нельзя…
Мент еще раз вздохнул.
– А этот твой Брандт… Он какого происхождения – еврейского?
– Германского, – сказал я.
– Фашист, значит… Хотя – какая теперь разница? Если денег нет, то хотя бы душу отвести…
Брандта вытолкнули за дверь через полчаса. Приятель держался за печень, матерился, но как-то тихо – видно, душу менты отвели основательно. Когда поймали такси, я спросил:
– Ну, понял теперь, сколько в этом мире твоя жизнь стоит? Рихтер Ницшевич, твою мать…
– Да уж… – пробормотал Брандт, потирая правое подреберье.
– Ты – всего лишь дощечка, понял? А жизнь – это огромный маятник Фуко, он раскачивается, приближаясь к тебе, и в один прекрасный день – щелк! И нет тебя, грешного!
– Слушай, – озираясь, сказал Брандт, – я, наверное, поеду все-таки. А то нас, я чувствую, еще раз заберут.
На следующий день Якут на работу не вышел, по огромной захламленной квартире бродил один лишь хозяин, толстый и мрачный. На вопрос о прорабе я бодро ответил, дескать, у него домашние дела.
– Дела у него? Ну-ну. А это – тоже дела?
Мы стояли в кухне, хозяин отвернул кран, и через минуту на стене расплылось мокрое пятно.
– Вы чего, заразы, наделали?! Предупреждаю: буду наказывать рублем! За такой ремонт не платить надо, а вычитать!
Я изъявил желание сбегать за новым водостоком, дабы исправить огрех, но хозяин показал фигу: нетушки, разбираться будем, когда появится эта якутская морда! То есть я получал три-четыре выходных – примерно столько продолжались запои прораба.
Отвыкший от праздности, я включил дома «ящик» и тут же увидел Умберто Эко. Вначале показали Публичную библиотеку, где писатель читал открытую лекцию, и толпы слушателей, ловивших каждое слово. Показ закончили красноречивым кадром: раздавленная стеклянная витрина в лекционном зале, на которую взгромоздился некий жадный до информации студиозус.
Репортаж из Дома журналистов начали с вопроса Дятлова. Мелькнула кислая физиономия Брандта (меня почему-то отсекли), после чего Эко заговорил о босоногом детстве, когда он запоем читал русских классиков. «Интересно, – подумалось вдруг, – а Гоголя в Италии так же встречали?» Насколько я знал, в его честь чепчики в воздух не бросали и витрин в римской библиотеке не давили. У нас же сплошная кумирня, и я тут не был исключением. То есть я уже решил: если заработок накрылся, то хотя бы автограф получу.
Но для начала следовало огорошить Мосину, на чьем пути встали молдаване со своим винным демпингом.
– Не берут, говоришь? Дорого? Ну да, ну да… А сам что сейчас делаешь? С Умберто Эко пойдешь встречаться?! Слушай, заскочи на минутку, у меня на этот счет идея есть!
Как я и предполагал, Мосина о трех бутылках даже не вспомнила, зато выдала такое! В общем, у нее возникла идея поставить «Маятник Фуко» на театре, что должно было произвести эффект разорвавшейся бомбы.
– Постой, но это ведь проза!
– Ерунда, мы с тобой в два счета превратим ее в драматургию.
– Ну, если в два счета… А о чем это? Ты хоть читала?
– Слышала. То есть примерно представляю: тамплиеры, масоны, каббалисты… Публика от всего этого визжать будет!
– А деньги? – ехидно спросил я. – Сама понимаешь: это ведь страшная сила. А кто их даст под твоих тамплиеров?
На лице Мосиной мелькнула торжествующая улыбка.
– Умберто Эко!
– Ты серьезно?!
– А что? Ты сегодня подойдешь, скажешь, что готовится постановка, и я уверена: он будет очень рад! Я проверяла: у нас пока никто его не ставил, мы будем первыми!