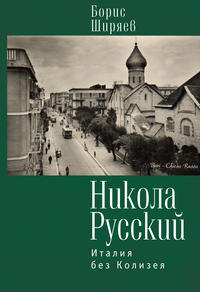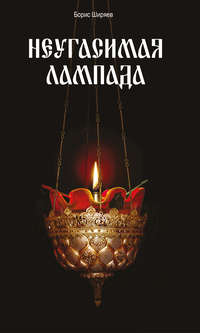Полная версия
Бриллианты и булыжники
Мощь истинной светлой идеи нередко подтверждается невольным признанием ее элементов в лагере противников, внесением тезиса в антитезис. Так было и с мелодией арфы Давида – религиозной идеей, пронзившей и одухотворившей собой всё развитие русской поэзии.
Одним из вождей победоносно наступавшего в 60-х годах прошлого столетия на русскую народную душу чуждого ей западноевропейского материализма был редактор радикально-нигилистического журнала «Современник» Николай Алексеевич Некрасов, наименованный современниками «поэтом-гражданином». Стремление к извечной красоте, дару Господню, служению которому отдавали себя милостью Божией поэты того времени, он (нужно признать, талантливо, ловко и даже виртуозно) подменил «гражданским идеалом» – зарифмовкой своих политических тенденций. Даже не лично своих, потому что внутренний мир самого Н. А. Некрасова до сих пор остается для нас загадкой, но тех, которых требовала от него материалистическая критика во главе с Чернышевским и которые, в силу этого, приносили издателю Некрасову немалый доход.
«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» провозглашал Н. А. Некрасов, но свое российское «гражданство» определял чрезвычайно субъективно и односторонне, т. е. стремился вытащить на свет и «обличить» всё темное, смрадное и грязное, что, как и в каждом народе, имелось и в народе русском. Хранитель национальных духовных ценностей, русского национального религиозного мышления – русский крестьянин – представлен Н. А. Некрасовым истомленным непосильной, бесплодной работой, с одной стороны, и беспробудно пьяным, почти что дикарем – с другой.
Он до смерти работает,До полусмерти пьет.Народный праздник в русской деревне показан им в форме отвратительной «пьяной ночи», да и вся-то русская жизнь, если поверить ему, абсолютно лишена каких-либо черт красоты. «Кому живется весело, вольготно на Руси»? – спрашивает этот поэт-гражданин в центральной для его творчества поэме и отвечает: «Никому»… кроме самого Н. А. Некрасова, как острили его современники.
Но вместе с тем Некрасов был трудолюбивым и точным бытоописа-телем, в силу чего, развертывая перед читателем широкую панораму русского народного типажа, он не мог пройти мимо чисто народных носителей христианской идеи. Показал он их в стихотворениях «Тишина», «Несчастные», «Крестьянские богомолки» вскользь, урывками, но верно и точно. Живописный, чрезвычайно характерный для русского крестьянства «Влас», несмотря на тенденциозно примешанные туда Некрасовым «гражданские» мотивы (стяжательство, мироедство и раскаяние в этих грехах), дает знакомый читателю, правдивый и характерный для России образ.
Владимир Соловьев сурово осудил Некрасова, как с религиозной, так и с национальной точек зрения:
Когда же сам разбит, разочарован,Тоскуя, вспомнил он святую красоту —Бессильный ум, к земной пыли прикован,Напрасно призывал нетленную мечту……Не поднялись коснеющие рукиИ бледный призрак тихо отлетел…В этих строках Владимир Соловьев, так же как и мы, признает загадочность, неясность для нас подлинного душевного мира Н. А. Некрасова, плотно укрытого им служением кумиру дней и златому тельцу. Но одно из стихотворений «поэта-гражданина» проливает немного света в темную область его духа. Вернувшись из заграничной поездки, Некрасов был столь потрясен встречей с родиной, что с его уст сорвалось даже нечто вроде молитвы; его ритмы приблизились к строю арфы Давида:
Всё рожь кругом, как степь живаяНи замков, ни морей, ни гор.Спасибо, сторона родная,За твой врачующий простор…Храм Божий на горе мелькнулИ детски чистым чувством верыВнезапно на душу пахнул.Лови минуту умиленья,Войди с открытой головой!Я внял, я детски умилилсяИ долго я рыдал и билсяО плиты старые челом,Чтобы простил, чтоб заступился,Чтоб осенил меня крестомБог угнетенных, Бог скорбящих,Бог поколений, предстоящихПред этим скудным алтарем.Внял ли Всемилостивый покаянной молитве этой заблудшейся души – недоступная нам тайна.
Из кн.: «Религиозные мотивы в русской поэзии», изд-во «Жизнь с Богом».
Брюссель, 1960 г. С. 22–33
Молитвы за землю русскую
Если бы пришлось искать образец сложности внутреннего строя человеческой души, то наилучшим примером оказался бы Федор Иванович Тютчев. Глубокий, проникновенный философ и вместе с тем великосветский сноб, не могущий жить без болтовни и острословия в аристократических салонах; вылощенный, утонченный европеец, вросший в германскую культуру, друг Шеллинга и Гейне, дважды женатый по искренней любви на двух немецких аристократках, проживший лучшие годы в Германии, дипломат и вместе с тем глубокий русский патриот, безмерно любящий свою родину, скорбящий о ее бедах и полный веры в ее грядущее величие, интуитивно проникающий в тайны глубин народной души; искренний христианин и полный сомнения, даже язычества, эстет; общепризнанный поэт, не понимавший сам всей величины дарованного ему таланта и писавший стихи лишь урывками, почти что «от нечего делать». Таков был Тютчев в жизни – таков был и его внутренний мир, в котором противоречивые, противоположные один другому элементы не находили общей гармонии и пребывали в беспрерывном борении. Не потому ли тема первозданного хаоса была главной в его поэтическом творчестве и преодоление этого хаоса он мыслил лишь в религиозном плане?
Две души, казалось, жили в теле Ф. И. Тютчева. Он сознавал это, томился этим и выражал это в своих стихах.
О вещая душа моя,О сердце, полное тревоги,О, как ты бьешься на порогеКак бы двойного бытия.Так ты жилица двух миров,Твой день болезненный и страстный,Твой сон – пророчески-неясный,Как откровение духов.Пускай страдальческую грудьВолнуют страсти роковые,Душа готова, как Мария,К ногам Христа навек прильнуть.Две последние строки этого стихотворения можно было бы поставить эпиграфом ко всей жизни, к духовному развитию и творчеству Ф. И. Тютчева. Прильнула ли его мятущаяся душа к ногам Христа, мы не знаем. Он не успел или не смог сказать об этом в оставленном им поэтическом наследстве. Две так же последних строки другого его стихотворения повествуют о сомнениях, томлениях и исканиях, терзавших его до гробовой доски, до «замкнутой двери».
Не плоть, а дух растлился в наши дни,И человек отчаянно тоскует.Он к свету рвется из ночной тениИ, свет обретши, ропщет и бунтует.Безверием палим и иссушен,Невыносимое он днесь выносит…И сознает свою погибель онИ жаждет веры… Но о ней не просит.Не скажет ввек с молитвой и слезой.Как ни скорбит пред замкнутою дверью:«Впусти меня! Я верю, Боже мой!Приди на помощь моему неверью!»…Как современны эти строки, написанные сто с лишним лет тому назад. Как много среди нас людей, томящихся так же, как, томился их творец, и готовых повторить вслед за ним его страстный молитвенный вопль.
Стремление излить свою душу в молитве Всемогущему не покидало Ф. И. Тютчева всю жизнь и даже разрешение чисто земных социальных вопросов он считал возможным только, как милость Божию.
Живя в Европе и в России, он и там и здесь отчетливо видел несправедливость социального строя его эпохи, страдания обездоленных и угнетенных, но искал выхода не в революционных взрывах, а в социальных реформах, основанных на религиозном мировоззрении.
Пошли Господь Свою отрадуТому, кто в летний жар и зной,Как бедный нищий мимо садуБредет по жесткой мостовой.Кто смотрит вскользь через оградуНа тень деревьев, злак долин,Нa недоступную прохладуРоскошных светлых луговин.Не для него гостеприимнойДеревья сенью разрослись,Не для него, как облак дымный,Фонтан на воздухе повис.Лазурный грот, как из тумана,Напрасно взор его манитИ пыль росистая фонтанаГлавы его не осенит.Пошли Господь Свою отрадуТому, кто жизненной тропой,Как бедный нищий мимо саду,Бредет но знойной мостовой.Своя родная страна, экономически бедная в ту эпоху последних лет крепостничества в России, конечно, ближе всего глубокому патриоту и русскому народолюбцу Ф. И. Тютчеву. С особою силой и проникновенностью скорбит он об экономическом убожестве угнетенного рабовладельческим строем крестьянства, но вместе с тем проникновенно видит под внешними слоями материальной нищеты богатство русской души, ее близость к христианским религиозным идеалам – незримую искру Христову под пеплом темной суетности.
Эти бедные селенья,Эта скудная природа —Край родной долготерпенья,Край ты русского народа!Не поймет и не заметитГордый взор иноплеменный,Что сквозит и тайно светитВ наготе твоей смиренной.Удрученный ношей крестнойВсю тебя, земля родная.В рабском виде Царь НебесныйИсходил, благословляя.Будучи по основной своей профессии дипломатом, а, следовательно, и политическим работником, глубоко и широко эрудированным в современной ему политической жизни Западной Европы и России, Тютчев совершенно ясно видит и всего в четырех строках – поэтически формулирует глубокую разницу, бездну, разделяющую оба мира. Он пророчески провидит то, что с предельной ясностью наблюдает теперь каждый из нас:
Умом Россию не понять,Аршином общим не измерить:У ней особенная стать —В Россию можно только верить.Эту непоколебимую веру в грядущее светлое будущее России, в выполнение русским народом предназначенной ему Господом вселенско-исторической миссии Ф. И. Тютчев высказывает в нескольких других своих философски-политических стихотворениях. Но и в них он идет к познанию своей родины путем религии, путем веры. Владевшие им тогда славянофильские тенденции придают этим стихам некоторый специфический колорит, но не изменяют их сущности.
Вставай же, Русь! Уж близок час!Вставай Христовой службы ради!Уж не пора ль, перекрестясь,Ударить в колокол в Царьграде?Раздайся благовестный звонИ весь Восток им огласися!Тебя зовет и будит он:Вставай, мужайся, ополчися.В доспехи веры грудь оденьИ с Богам, исполин державный!..О Русь! Велик грядущий день,Вселенский день и православный.Историческую вселенскую миссию Руси Тютчев видит в преодолении пропасти, лежащей между Западом и Востоком, в религиозно-культурном соединении двух разобщенных миров, в «русском благовесте», разносящемся не только над Русью и Восточным миром, но и «льющимся через край».
День православного Востока,Святой, святой, великий День,Разлей свой благовест широкоИ всю Россию им одень.Но и святой Руси пределомЕго призыва не стесняй:Пусть слышен будет в мире целом.Пускай он льется через край.Много общего с духовным строем Ф. И. Тютчева мы находим в жизни, душе и творчестве его единомышленника и современника Алексея Сергеевича Хомякова. Мы видим в нем тоже богатейшее разнообразие эмоциональной и интеллектуальной одаренности, но в противоположность Тютчеву в А. С. Хомякове эти элементы пребывали не в состоянии хаоса и постоянного взаимного борения, но гармонично сливались в единое целое, создавая в результате этого процесса могучую духовную фигуру пророка и борца. Алексей Сергеевич Хомяков – поэт, богослов-мирянин, политический деятель, яростный полемист, превосходство которого над собой признавал даже горделивый Герцен, смелый, жертвенный офицер, но прежде всего историк, бесстрашно проникающий в глубины прошлого своей родины, не считаясь при этом с господствовавшими в ту эпоху историческими взглядами и тенденциями.
Он – судья в историческом аспекте и выносит свои приговоры не только в форме научных статей, но и в поэтических строках. Он так же, как и Тютчев, пламенно верует в ту же историческую миссию России, но видит реализацию этой миссии не в укреплении внешней мощи Империи и широте ее завоеваний, а в организации общественной жизни на основах религии, свободы, любви и братства народов. Для осуществления этого он считает необходимым прежде всего анализ своего прошлого, признание ошибок, раскаяние в них и волю нации к их исправлению.
«Гордись! – Тебе льстецы сказали, —Земля с увенчанным челом,Земля несокрушимой стали,Полмира взявшая мечом.Пределов нет твоим владеньямИ прихотей твоих рабаВнимает гордым повеленьямТебе покорная судьба.Красны степей твоих уборы,И горы в небо уперлись.И как моря твои озера…»Не верь, не слушай, не гордись.…Не говорите: «То былое,То старина, то грех отцов;А наше племя молодоеНе знает старых тех грехов».Нет, – этот грех – он вечно с вами,Он в вас, он в жилах и крови,Он сросся с вашими сердцами,Сердцами мертвыми к любви.Молитесь, кайтесь, к небу длани!За все грехи былых времен,За ваши каинские брани,Еще с младенческих пелен;За слезы страшной той годины,Когда враждой упоены,Вы звали чуждые дружиныНа гибель русской стороны……За слепоту, за злодеянья,За сон умов, за хлад сердец,За гордость темного незнанья,За плен народа; наконец,За то, что полные томленьяВ слепой сомнения тоскеПошли просить вы исцеленьяНе у Того, в Его ж рукеИ блеск побед и счастье мира,И огнь любви и свет умов, —Но у бездушного кумира, —У мертвых и слепых богов.И, обуяв в чаду гордыни,Хмельные мудростью земной,Вы отреклись от всей святыни,От сердца стороны родной!За все, за всякие страданья,За всякий попранный закон,За темные отцов деянья.За темный грех своих времен,За все беды родного края, —Плед Богом благости и сил.Молитесь, плача и рыдая,Чтоб Он простил, чтоб Он простил!Так же, как Тютчев, А. С. Хомяков видит и указывает в этом стихотворении на политически-моральный тупик, в который неуклонно приводит отрыв социально-общественной жизни от религии, от заветов Христа. Но он, неумолимый аналитик историй и борец, непоколебимо строг и тверд. Он призывает прежде всего к очищению себя самих, своего интеллектуально-духовного мира покаянием и моральным самосовершенствованием – возвратом к Богу истинному от поклонения «бездушным кумирам, мертвым и слепым богам» материализма.
Но Хомяков, как и Тютчев, верит в совершение русский народом этого подвига, силы для которого таятся в русской душе.
И вот за то, что ты смиренна,Что в чувстве детской простоты,В молчаньи сердца сокровенна,Глагол Творца прияла ты,Тебе Он дал свое призванье,Тебе Он светлый дал удел:Хранить для мира достояньеВысоких жертв и чистых дел;Хранить племен святое братство,Любви живительный сосуд,И веры пламенной богатство,И правду и бескровный суд.…О вспомни свой удел высокий,Былое в сердце воскресиИ в нем сокрытого глубокоТы духа жизни допроси.Внимай ему – и все народы,Обняв любовию своей,Скажи им таинство свободы,Сиянье веры им пролей!Ф. И. Тютчев и А. С. Хомяков взаимно дополняют друг друга. Различные по внешности своего творчества, по силе и направленности творческого темперамента, по характеру его, даже по душевным способам восприятия и осознания России в ее прошлом, настоящем и будущем, они сходятся в конечной точке – в признании национальной миссии своей родины, как утверждения общественно-политической жизни на основе веры в Христа, стремления к Нему и внедрения в повседневную личную и общественную жизнь Его правды.
«Наша страна», Буэнос-Айрес, 1 ноября 1956 года, № 354. С. 6
Народный монархист XIX века
Мы привыкли к баснописцу дедушке Крылову так, как он сам был привлечен к своему засаленному халату, к своему облеженному просторному дивану. Крылов остается для нас «дедушкой» и в ту пору, когда наши собственные внучата учат те же басни, какие и мы твердили когда-то…
В те далекие теперь времена, Крылов был для нас примитивным, простым и ясным моралистом, весело и занятно посмеивающимся над пороком, глупостью, косностью… С хитринкой, по-мужицки, учил нас тогда забавник-дедушка выношенной в сердце народном жизненной правде. Мы запечатлевали в создании его мелкие смачные слова-образы, и несли их с собой в жизнь. «Медвежья услуга», «демьянова уха», «квартет» становились неразлучными с нами бытовыми, житейскими формулами, но если бы кто-либо спросил нас о политических взглядах великого, первого в русской литературе народника, – дедушки Крылова, то, вероятно, мы только пожали бы плечами.
– Басенник Крылов и политика? Что между ними общего?
Руководители советской школой – иного мнения. Там тоже учат басни Крылова, даже в большем объеме, чем в старой школе. Прочтя «Квартет» малышам, учитель говорит им:
– Вот, так и теперь у наших врагов, врагов СССР. Садятся, пересаживаются, а договориться между собою не могут, потому что у них «капиталистические противоречия». Вы, дети, пока только еще пионеры и не можете в этом разобраться, но станете комсомольцами и тогда вспомните «Квартет» дедушки Крылова.
Пионеры становятся комсомольцами, слушают доклады о международном поколении и вспоминают «Квартет», а вспомнив, убежденно повторяют:
– Действительно, мудр наш вождь! Ни черта эта буржуазная дипломатия не стоит! «Квартет» из басни! Только и всего!
Советская школьная пропаганда систематично и умело пользуется наследством Крылова (как и всею русской литературой), для достижения своих целей. Выполнение этого задания в данное время не трудно, и не сложно: Крылов – яркий русский почвенник, жизненно, а не литературно впитавший в себя политические концепции народного мышления и образно противопоставивший их наносным, внешним влияниям.
«Говорильня» для него лишь смехотворная нелепость: «А Васька слушает, да ест». Сверх-мудрственные построения «научных систем» становятся в свете его трезвой мужицкой смекалки только «ларчиком, который просто открывался». Взять и открыть, не разыскивая несуществующих механических тайн.
Это «открыть», «просто открыть» в государственной жизни он формулирует строчками:
Знать свойства своего народаИ выгоды земли своей…Если бы нас с Иваном Лукьяновичем [Солоневичем] не разделяли десять тысяч километров океана, то я успел бы своевременно напомнить ему эти строчки для эпиграфа к «Народной Монархии». Проще и яснее открыть этот ларчик нельзя.
И. Тхоржевский[14] в своей «Русской Литературе» пишет: «С Крыловым неотлучно был громадный жизненный, и политический (курсив И. Тх. – Б. Ш.) опыт, – опыт крота, долго рывшегося внизу, у самых корней народного дерева. Продвинувшись исподволь, от деревенской ярмарки… к ближайшим ступеням царского трона, Крылов прошел и выучил наизусть всю русскую политическую гамму». «Он мог бы и теперь давать неплохие советы», – замечает далее И. Тхоржевский.
Уточним эту фразу: не «мог бы», а «дает», и эти советы И. А. Крылова до удивления точно совпадают с советами И. Л. Солоневича, для тех, конечно, кто хочет понять одного и другого.
Вот басня «Пушки и паруса». К сожалению, ее вряд ли читал генерал Фуллер[15] и прочие апостолы всемогущества атомной бомбы и военной техники. Но совпадение ее «морали» со взглядами И. Л. Солоневича на этот вопрос совершенно точно.
Столь же точно сопоставление кота Васьки с милым старым «Джо»[16], спокойно пожирающим страну за страной под звуки речей прекраснодушных демократических говорунов – «поваров».
Безупречным демократам САСШ, Англии и Франции, всадившим нож в спину генерала Врангеля, выдавшим генерала Власова и генерала Дражу Михайловича[17], а теперь собирающимся выдать китайских перебежчиков в Корее, было бы очень полезно прочесть басню «Булат»:
Нет, стыдно-то не мне, а стыдно лишь тому,Кто не умел понять, к чему я годен…Может быть, и им стало бы стыдно. Избиратели, посылающие в парламенты и сенаты республик любителей лакомиться чужими каштанами, могли бы увидеть себя в басне «Два мальчика».
В редкой басне Крылова мы не найдем аналогии с современностью и эта современность рассмотрена И. А. Крыловым в том же аспекте, в каком рассматривает ее теперь «Наша Страна» – в аспекте простого, ясного здравого смысла. Вот то, что через столетие роднит с нею русского народного моралиста и политика Крылова. Это сродство усиливается еще более при внимательном прочтении тех басен, где фигурируют «цари»: львы и орлы. Моральная основа монархии – «диктатура совести» ясна для русского почвенника Крылова. Беда в лихом средостении между властью и народом. Как устранить эту беду? Крылов отвечает на этот вопрос в басне «Огородник и философ»: «Прилежность, навык, руки» – общий повседневный труд на одиннадцативековом российском «огороде», традицией которого этот «огород» и возделан: спаси его, Господи, от философского эксперимента: он – экспериментатор —
Всё перероет, пересадитНа новый лад и образец…И в результате – «философ – без огурцов». Увы, не сам «философ», но закабаленный им в колхозе всероссийский «огородник»…
Пушкин назвал И. А. Крылова «представителем духа русского народа». Русский народ подтвердил это определение, раскупив при жизни своего баснописца 77 тыс. экземпляров его книг. Небывалый, невероятный по тому времени тираж!
Русский мужицкий здравый смысл, пропитывающий каждое слово Крылова, жизненен в наши дни в той же мере, как был сто, двести, триста лет назад. Именно он является стержнем нашей государственной традиции.
Вот почему басенно выраженные политические сентенции И. А. Крылова через 120–130 лет отразились в публицистически оформленных историко-политических концепциях «Духа Народа» И. Л. Солоневича.
Вот почему, мы смело можем назвать великого российского почвенника, русского народолюбца и правдолюбца И. А. Крылова народным монархистом XIX в., нашим политическим предтечей.
«Наша страна», Буэнос Айрес,
26 апреля 1952 года, № 119. С. 3–4
Забытая могила на родной земле
Текущий год богат литературными юбилеями. Наши зарубежные «прогрессивные» литературоведы пожевали нудную псевдонародную мочалу слякотно-слезливого Глеба Успенского, помянули затвержденным наизусть акафистом другого более сильного исказителя творческого лица русского крестьянина Некрасова и ни словом не обмолвились о замечательном поэте, драматурге и историческом романисте гр. Алексее Константиновиче Толстом, со дня рождения которого исполнилось 135 лет. Еще бы! Как можно! Ведь он монархист, патриот, почвенник, к тому же и друг детства, личный друг царя, освободившего русских крестьян! Друг, близость с которым, как и с другим упомянутым вскользь юбиляром – Жуковским, несомненно, оказала, некоторое влияние на формирование великой и прекрасной души Александра Второго.
Лишь одна «Жар-Птица» блеснула своим радужным пером над забытой могилой поэта, творчество которого может быть безоговорочно названо русским, народным, национальным…
Давно, на грани меж детством и юностью, я был глубоко потрясен одним спектаклем. Автор шедшей тогда пьесы так встряхнул, так переместил и разместил все атомы и элементы строя моей души, что сложенный им костяк укрепился в ней на всю жизнь, и не только со мной было; так, но со многими, очень многими. Это был первый спектакль Московского Художественного Театра. Шел «П, арь Феодор Иоаннович» гр. А. Толстого.
Тогда роль царя Феодора исполнял Москвин. Потом я видел в ней Орленева, Качалова. Трактовки этой роли были внешне различны, но в основе каждой из них, в глубинах творческого перевоплощения этих исключительных мастеров лежало одно: трагизм подвига царственного служения – внутренний нерушимый стержень Русского Самодержавия. Его начало – в веках, в струе Корсуньской Купели. Конец – в подвале дома Ипатьева. Конец ли? Ты лишь, Господи, знаешь. Верую в милость Твою!
Глубже всего запала мне в душу последняя сцена трагедии царственного подвижника.
…Кремль. Стены и паперть собора. Трепетный перезвон колоколов. Один за другим падают тяжелые удары на Русь и ее Подвижника-самодержца: кровавая борьба на ступенях трона, жертвой которой становится герой-полководец… гибель Наследника Престола, надежды Пдрства… татарская рать под Москвой…
Страшная петля захлестнута на горле. Нет исхода. Рушится Святая Русь… Гибнет…
Пустеет Кремлевская площадь. Уходят последние ратники и лишь слепцы заунывно поют свою стихиру.
Никого, лишь один Самодержец-Подвижник со своей безмерной в любви супругою. Гибнет Великое Царство. Кто виноват в том?
– Простит ли мне Господь? – спрашивает изнемогший под царским бременем Самодержец. Он один принимает на свою неповинную душу всю тяжесть сотворенного не им греха, всю ответственность за него перед Богом, совестью и народом. Он не винит никого, не ищет иных плеч для несения всей тяготы, но безропотно отдает себя в Искупительной жертве.
Светлыми струями купели святого Владимира Русь омылась от своего первородного с нею рожденного греха.
Святыми струями жертвенной крови своих Самодержцев не раз омывалась она от греха людьми сотворенного.
…Павел. Александр. Николай…
За всех и за вся. Во искупление грехов.
А бескровные, но, быть может, более страшные жертвы?
…Исступленный крик совести Грозного – его Синодик? Схима Бориса. Мучительный поиск пути к искуплению Александра Первого. Трагический смертный надлом могучего Первого Николая…