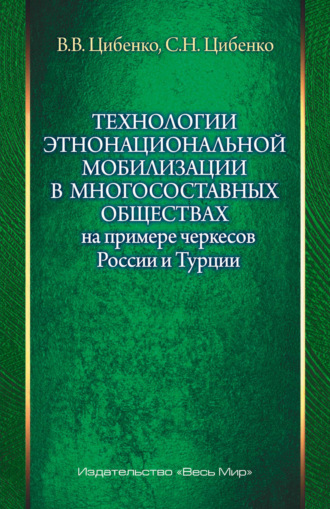
Полная версия
Технологии этнонациональной мобилизации в многосоставных обществах на примере черкесов России и Турции
Для выработки аналитической модели в отношении национализма диаспоры следует рассмотреть разработанные к настоящему времени концептуальные подходы. Для обозначения особого вида национализма в диаспорах уже в 1949 г. Ричардом Алонзо Шермерхорном был введен термин «национализм страны происхождения» (англ. home country nationalism)116.
В 1983 г. Геллнер представил свою классификацию национализмов, в которую входил особый тип «национализма диаспоры» (англ. diaspora nationalism), при котором в условиях разности культур находящейся у власти и недоминантной групп диаспора имеет доступ к высокой культуре через образование, а господствующая группа – нет117. Значимость для нас имеет и утверждение Геллнера, что триггером национализма диаспоры является реальная угроза ассимиляции и полного исчезновения118.
В 1992 г. Бенедикт Андерсон предложил особый термин для обозначения национализма диаспор – «дистанционный национализм» (англ. long-distance nationalism)119. Развивая свой концепт наций как «воображаемых сообществ» (англ. imagined community)120, Андерсон дополнил его «воображаемой родиной» (англ. imaigened heimat), позволяющей «дистанционным националистам» осуществлять заочное участие в политической жизни без прямой ответственности, т.е. выплаты налогов, голосования, соблюдения законодательства и пр. Андерсон был склонен рассматривать такой вид национализма в негативном ключе, характеризуя дистанционных националистов как людей, не чувствующих прямой ответственности за свои действия, а потому способствующих распространению насилия и радикализации на своей исторической родине121.
Одним из последних значимых концептов является «диаспоральный транснационализм», введенный американским политологом Хачиком Тололяном для обозначения изменений «изгнаннического национализма» (англ. exilic nationalism) евреев и армян под влиянием транснационализма и глобализации122. Эту концепцию развил армянский политолог Арег Галстян, заявивший о появлении в качестве «парадоксального продукта глобализации» новой формы устройства нации, а именно «транснациональных политических наций» (ТПН), не имеющих физических (географических) границ. Будучи результатом глобализированного сетевого нациестроительства, эти нации направляют все силы рассеянной диаспоры на поддержание государства исхода, в том числе через лоббистскую деятельность транснациональной элиты – «диаспоральной аристократии»123.
Поскольку члены диаспоры живут в разных странах, а некоторые из них настолько ассимилированы, что даже не говорят по-армянски, А. Галстян предпочитает в своем конструкте транснациональной армянской нации видеть именно «политическую», а не этническую (замкнутую в сугубо диаспоральных интересах этнокультурного выживания) общность. И по его мнению, для такой транснациональной политической нации общий (национальный) язык не является определяющим фактором124.
Автор концепта транснациональной политической нации не дает ответов на вопросы, как может существовать политическая нация без гражданства в соответствующей политии и какой, если не этнической, может быть общность, которая свои «глобальные возможности» направляет на защиту интересов своей армянской, т.е. этнически определяемой, страны-происхождения. В любом случае для оценки концепта «транснациональной диаспоральной нации» требуется уточнить, во-первых, понятие диаспоры; во-вторых, смысл ее «транснациональности».
Тезис Галстяна о том, что «транснациональные политические нации могут сформировать только малые народы и страны»125, имеет в основе традиционный концепт диаспоры, поскольку термин «диаспора» применялся только к общепризнанным народам рассеяния, среди которых, помимо евреев и цыган, упоминаются и армяне126. Впрочем, большинство исследователей считают такое понятие диаспоры устаревшим и включают в него – с учетом современных глобальных тенденций – представителей любых народов.
В современных представлениях о диаспоре есть две крайние трактовки данного феномена. В широком смысле диаспорами считают любые этнические группы, по каким-либо причинам проживающие за пределами страны своего происхождения127. По справедливому замечанию Тишкова, эта позиция «фактически не делает различий между иммигрантами, экспатриантами, беженцами, гастарбайтерами и даже включает старожильческие и интегрированные этнические общины»128. Однако сам Тишков, по мнению ряда авторов129, впадает в другую крайность, отказывая в праве на диаспоральный статус этническим сообществам, лишенным националистических амбиций, хотя и поддерживающим сеть взаимоотношений с исторической родиной и с этническими родственниками в других странах.
Так, по утверждению Тишкова, диаспора «как политический проект и жизненная ситуация выполняет особую по сравнению с этничностью миссию. Это – политическая миссия служения, сопротивления, борьбы и реванша»130. Данная миссия предполагает, что диаспоральное сознание – это в обязательном порядке «романтическая (ностальгическая) вера в родину предков как подлинный, настоящий (идеальный) дом и место, куда представители диаспоры или их потомки должны рано или поздно возвратиться»131.
Нам такая черта диаспорального самосознания представляется обязательной характеристикой лишь его этнонационалистических разновидностей, а не общим его отличительным признаком. Представления об исторической родине в этническом самосознании диаспоры, как правило, довольно смутные, начинают обретать четкую структуру именно в контексте этнонационалистической мобилизации с ее мифами, героями, памятными местами и ритуалами.
В качестве же отличительных черт собственно диаспорального феномена мы – на основании исследовательской литературы, реализующей срединный путь между упомянутыми крайностями, – выделяем следующие.
Диаспора является по своей природе этническим, а не этнополитическим (этнонациональным) феноменом. Диаспора может быть втянута в этнонациональный проект, но политизация ее этнического самосознания не выступает необходимой отличительный чертой любой диаспоры. Далее, диаспора является не любой этнической группой, но «особым видом этнического меньшинства»132, представители которого в результате дисперсной миграции, помимо гражданства определенного государства, имеют еще и так называемую историческую родину как страну исхода вне принимающей страны. Диаспора – это именно «устойчивая совокупность людей единого этнического происхождения, живущая в иноэтническом окружении за пределами своей исторической родины»133.
Устойчивость этому этническому меньшинству придает объединяющее его этническое сознание, внешне проявляющееся в форме самоназвания (этнонима) и предполагающее коллективную память, в которой образ исторической родины играет ключевую роль. Для сохранения своей коллективной идентичности и тем самым противостояния угрозе культурной ассимиляции в стране проживания диаспоре свойственно наличие «общности определенных организационных форм ее существования, начиная от такой формы, как землячество, и кончая наличием общественных, национально-культурных и политических движений»134.
В современных условиях данные организационные формы не ограничиваются пределами страны проживания диаспоры, но с необходимостью организованы как сетевое диаспоральное пространство, включающее в себя «не только совокупность этнических общин внутри одной страны, но и трансгосударственные сети, на постоянной основе объединяющие их с исторической родиной, с родственными диаспорами в других странах»135. Современная диаспора – это сеть связей, состоящая из трех элементов: отдельной диаспоры в данной принимающей стране, исторической родины (страны исхода) и этнически родственных диаспор в других странах проживания.
Упомянутые диаспоральные «трансгосударственные сети» включают в себя «разнообразные контакты и связи, устанавливаемые социальными группами, политическими структурами и экономическими институтами поверх государственных границ»136. Другими словами, речь идет о «трансграничной инфраструктуре» диаспор, дающей основание говорить о том, что «явление диаспоры приобретает транснациональный характер»137.
Тишков идет дальше и говорит о «формировании транснациональных общностей за привычным фасадом диаспоры»138. Эти общности составляют люди, которые находятся «не между двумя странами и двумя культурами (что определяло диаспорное поведение в прошлом), а в двух странах (иногда даже формально с двумя паспортами) и в двух культурах одновременно»139.
Выражения «транснациональный», «трансграничный», «транс-государственный» и другие в этом контексте являются синонимами, поэтому любой разговор о «транснациональной нации» оказался бы здесь парадоксом: даже если признать факт существования «транснациональных общностей за привычным фасадом диаспоры», эти общности по определению не могут быть нацией, поскольку не проводят сакрализованного национальным воображением разграничения между «мы» и «они».
Это, впрочем, не исключает влияния националистически настроенных элементов диаспоры на политический процесс в «стране исхода». Но национализм здесь подразумевается вполне традиционный, этнический, а не «транснациональный». И этот национализм делает людей, живущих в диаспоре, частью этнической нации на исторической родине, одновременно превращая их в нелояльных граждан среди национального сообщества принимающей страны.
Социально-политические технологии
Анализ сложной системы отношений, в которых находится «рождающаяся нация», определяет важность учета этнокультурной сегментации. Но каков будет исход конкурентной борьбы национальных проектов, это в значительной степени есть «дело техники», т.е., успешного применения мобилизационных технологий.
Концептуализация технологий национальной мобилизации сталкивается прежде всего с проблемой их классификации. Куда следует отнести технологии национальной мобилизации: к политическим либо социальным технологиям? Оба понятия присутствуют в социогуманитарных дисциплинах, но они не тождественны по смыслу. С другой стороны, в последнее время довольно активно используется понятие мобилизационных технологий, так что есть необходимость прояснить отношение к этому понятию и нашего концепта технологий национальной мобилизации.
Начнем с самого общего концепта «технология». Под ним подразумевается совокупность методов и процессов140, используемых для изменения качеств или придания новых свойств объектам материального мира141, или знание о способах искусственного воспроизведения новых сущностей, «которые, возможно, могли бы возникнуть и самопроизвольно – но только не тогда и не там, где это нужно человеку»142. Таким образом, для технологического процесса важна предсказуемая воспроизводимость и опора на конкретные знания. Это должно выполняться и в случае технологий национальной мобилизации. Но к какому более общему понятию следует эти технологии отнести? Вопрос отнюдь не схоластический, потому что от этого зависит предметная область, которая будет нашим понятием охватываться.
Поскольку нация понимается нами как общность прежде всего политическая, логично рассматривать технологии национальной мобилизации как разновидность политических технологий. Однако статус понятия политических технологий не является бесспорным в научной литературе.
Под данным термином, который лишь недавно стал использоваться в отечественной политологии, обычно подразумевается «совокупность способов, методов и процедур воздействия на человеческие массы с целью изменения их политического поведения в достижении определенных целей, а также решения политических и управленческих задач»143. Важным для политической технологии является целенаправленность, установленная последовательность (алгоритмизированность) и заведомая эффективность предпринимаемых действий, предполагающая достижение необходимого политического результата – кратковременного либо длительного144.
Однако за рубежом этот термин не только не получил распространения, но и обладает негативными145 коннотациями. Так, профессор Университетского колледжа Лондона и специалист по украинистике Эндрю Вилсон утверждает, что термин «политическая технология», малознакомый на Западе, это эвфемизм, используемый в постсоветских государствах для обозначения высокоразвитой индустрии политических манипуляций. По его мнению, политические технологии широко применяются и сохраняют популярность на постсоветском пространстве, поскольку придают авторитаризму более «мягкую» форму146.
Из сказанного следует, что имеющийся концепт политических технологий оказывается узким и проблематичным для описания таких масштабных и долгосрочных социально-политических задач, как модернизация общества или строительство нации. Поэтому не случайно в современной справочной литературе нациестроительство (соответственно, национальная мобилизация как его органическая часть) связывается с «социальными», а не политическими технологиями147.
Концепция «социальных технологий» как основы социальной инженерии, нацеленной на улучшение общества и индивида посредством применения знаний (теорий, методов, экспертизы) общественных наук, развивается на Западе примерно с конца ХIХ в. Карл Поппер, предложивший идею социальной инженерии, выделил новый тип сознания социального инженера или технолога, верящего в креативную способность человека, а не безличных исторических законов по своей воле изменять историю. В соответствии с этим основой политики становится не знание о неизменных исторических тенденциях (историцизм), а социальная технология, представляющая фактическую информацию и алгоритм действий для конструирования и трансформации социальных институтов в соответствии с целями и желаниями человека148.
В XXI в. термин «социальные технологии» стал использоваться на Западе и как синоним социального программного обеспечения (англ. social software) – новое понятие, введенное американским экспертом по компьютерным технологиям Клэем Ширки для обозначения программного обеспечения, поддерживающего групповую коммуникацию (социальные сети, средства мгновенного обмена сообщениями, чаты, веб-форумы, веб-блоги и пр.) в противовес программному обеспечению единичного пользователя149.
Констатируя важность концепции «социальных технологий», в то же время следует отметить терминологический хаос в их определении, который, во-первых, не дает возможности строго отделить социальные от политических технологий, а во-вторых, не позволяет однозначно толковать технологии национальной мобилизации как политические или социальные. Для политических эти технологии слишком широки и глубоки по своим целям, а при характеристике в качестве социальных их трудно специфицировать, соотнести с типами мобилизации.
В этой связи мы будем придерживаться в нашей работе промежуточного пути, метафорическим выражением которого может служить предложенное британским социологом Зигмунтом Бауманом описание процесса превращения социальных технологий начиная с эпохи Просвещения в неотъемлемую часть современного общества. Развив предложенный Геллнером концепт «диких» и «садовых» культур, Бауман выделил среди интеллектуалов категорию «садовников» как своего рода социальных технологов модернового общества, которые не просто наблюдают за вверенными им землями (как «лесники» премодерного общества), но превращают их посредством ряда осознанных манипуляций в цветущий и плодоносящий сад150. Мы полагаем, что технологии национальной мобилизации могут служить подходящим случаем для развития такой трактовки.
Для целей нашего исследования представляется возможным выделить особую категорию социально-политических технологий (СПТ), т.е. такого типа технологий, которые используют теоретические и прикладные разработки общественных наук, в том числе в сфере социального взаимодействия и социального программного обеспечения, для достижения масштабных политических целей подобных нациестроительству. Такое определение позволяет уйти от сведения политических технологий исключительно к манипулятивному воздействию на массы; расширить их теоретико-методологическую основу за счет опоры не только на политические, но и в целом на общественные науки; включить актуальные трактовки социальных технологий как социального программного обеспечения.
Хотя введенное определение СПТ близко к пониманию социальных технологий в западной науке, в нем отсутствует одностороннее восприятие технологий как нацеленных исключительно на улучшение общества или, напротив, негативное их восприятие как политических манипуляций. Правда, термин «социально-политические технологии» уже используется российскими исследователями, однако это делается скорее интуитивно, без введения строгого определения. При этом СПТ описываются в контексте политического управления обществом или частью общества как имеющие признаки манипуляции и осуществляемые государственными властями или внешними силами151.
Выделяя особую категорию СПТ, в то же время нельзя обойти вниманием концепты дискурсивных152 и информационных/ информационно-коммуникативных технологий153, которые довольно точно отражают агитационно-пропагандистскую составляющую технологий национальной мобилизации. При этом под дискурсивными технологиями понимается «осознанное, обдуманное и спланированное управление партнерами по коммуникации при помощи дискурса», а также «поэтапный технологический процесс производства конечного продукта, а именно дискурса», строящийся на обдуманном использовании лингвистических знаний154. Планирование дискурса и использование общих принципов коммуникативного взаимодействия на основе политической креативности позволяет, по словам С.Н. Плотниковой, «мыслить социальный мир не только как саморазвивающуюся систему, но и как систему, сконструированную технологами. Действуя технологично, политик порождает бессознательную самоорганизацию общества по «зову» технологии. Технология помогает политику придавать коммуникации стабильность и прогнозируемость»155. Мы, без сомнения, можем охарактеризовать технологии национальной мобилизации подобным же образом.
Мобилизация ресурсов и идеологические технологии
С учетом того, что мобилизационные технологии побуждают свой объект к организованному активному действию индивидуального или чаще коллективного характера в интересах технолога, ставящего перед собой политические цели, их можно рассматривать в рамках теории коллективного действия (мобилизации ресурсов)156, понимающей под коллективностью поле совместного действия, а не просто сумму совокупных индивидуальных поведений.
Коллективные мобилизационные действия, как и любые действия, предполагают наличие стратегий у субъектов (акторов) этих действий. Но стратегии мобилизации не следует смешивать с ее технологиями, что нередко случается. Мобилизационная стратегия как стратегия политическая есть «общая цель движения и общие принципы и способы ее достижения»157 политическими акторами, причем стратегия нацелена на достижение долговременных целей и использует для этого необходимые ресурсы политической власти. Мобилизационная технология, в свою очередь, является алгоритмом действий для политических акторов. Таким образом, первая отвечает на вопрос: «Что мы делаем, чтобы достичь тех или иных целей?»; вторая – «Как мы будем действовать, чтобы эффективно достичь поставленных целей?». При этом выбор стратегии осуществляется в ситуации неопределенности, а выбор технологий задается выбором стратегии.
Различие между стратегией и технологией близко к различию между стратегией и тактическим средствами ее реализации. Так, известный российский экономист и политик Михаил Делягин, рассматривая технологический аспект формирования нации, выделил такой стратегический инструмент, как вовлечение в общее дело, а также ряд тактических инструментов: создание и постоянное подкрепление «гражданской религии»; создание и поддержание культа предков; формирование ключевых точек национальной истории, использование систем воспитания и образования, а также культурной политики для закрепления результатов нациестроительства и т.п.158
В любом случае выбор стратегии национальной мобилизации отражается в концепте нации, построение которой составляет главную цель мобилизации. Ресурсами же для мобилизации, т.е. средствами, с помощью контроля над которыми акторы осознанно заставляют объект действовать в соответствии со своими намерениями (т.е. подчиняют его своей власти), могут выступать в зависимости от обстоятельств физические, экономические, социальные, духовные, символические, демографические и прочие средства и возможности, в том числе сила, умения, знания (информационные и интеллектуальные ресурсы)159.
В современном обществе первостепенную роль играет именно информационный ресурс в силу своей неисчерпаемости и доступности160. При этом мы не противопоставляем понятия ресурсов и технологий, поскольку солидаризуемся с широкой трактовкой политических ресурсов161. Соответственно, они для нас не просто сырье, материал или полуфабрикат, но «упорядоченная совокупность реальных и потенциальных, традиционных и заимствованных возможностей общества, которые субъекты социально-политического взаимодействия используют в публичной политике для достижения своих целей»162.
Важно иметь в виду, что эти ресурсы являются для индивидов не внешним и единичным опытом, но изначально выступают средством осуществления их коллективных идентичностей. По словам А. Мелуччи, ресурсная теория мобилизации, существенно развитая в ее американской (прагматической) версии (прежде всего в работах Джона Маккарти и Майера Залда163, а также их последователей164), «показала, что коллективное действие не является результатом объединения разрозненных индивидов. Скорее оно должно рассматриваться как результат сложных процессов взаимодействия, опосредованного определенными сетями причастности к различным сообществам»165.
В рамках данного подхода дается и собственное определение мобилизации как процесса, посредством которого социальная единица с относительной быстротой берет на себя контроль над ресурсами, которые она не контролировала до этого166, либо как процесса, в рамках которого коллективный субъект собирает и организует свои ресурсы для достижения общей цели, направленной на подавление сопротивления групп, выступающих против этой цели167.
Для мобилизации необходимы сформулированные требования или воля к достижению определенного результата; выявление и делегитимация идеологического противника, находящегося в конфликте с группой за контроль над определенными ресурсами или ценностями; определение общего ресурса или ценности, за который борются акторы посредством мобилизации. В свою очередь, за отображение, кто является мобилизуемым социальным субъектом, против кого должно бороться это движение, и определение коллективной цели этой борьбы отвечает идеология168. При этом задача идеологии – обеспечивать символическое вознаграждение или менять ожидания членов сообщества, вызывая готовность индивидов инвестировать личные ресурсы и нести расходы за участие в мобилизации.
Также важно учитывать, что «социальное движение может только тогда заслужить свое название, если оно будет вдохновлено (мобилизовано) массовой идеологией. А последняя неизбежно редуцируется по содержанию к нескольким ключевым идеям-лозунгам, доступным для всеобщего понимания»169. Функциональная логика мобилизации рождает феномен символически «сгущенной» политической коммуникации, состоящей из символических актов. В этом случае речь идет не просто о политических действиях с применением символов, но о действиях как символах. Эти действия «используют не обычные референтные знаки, но знаки как сгущающие смыслы символы-конденсаты, возбуждающие массовые эмоции и объединяющие события в одно смысловое целое. Тем самым знаки-конденсаты учреждают когнитивно-эмоциональные фреймы, благодаря которым люди находят смысл участия в коллективных действиях и формируют свои групповые идентичности»170.
Упомянутые фреймы – это, выражаясь словами В. Осипова, «эмоциональные якоря», способствующие повышению эффективности мобилизационных технологий. Данные технологии мобилизуют потенциально готовых к социально-политической активности людей, объединяя их вокруг как самой идеи проектирования будущего, так и необычной, новой для них деятельности171. Под «будущим» при этом понимается не только некая отдаленная перспектива, но и само осуществляемое действие, которое предстает в качестве “будущего в настоящем”»172.
Таким образом, в технологиях национальной мобилизации можно выделить идеологические технологии. Концепт «идеологических»173 технологий представлен в современной научной литературе, при этом он не определяется строго и фактически выступает инструментом дискурс-анализа, т.е. разновидностью тех же «лингвистических»174 технологий в широком смысле. Мы же подразумеваем под идеологическими технологиями определенные алгоритмы в производстве собственно самих идей, которые имеют символический смысл, но могут быть рассмотрены абстрактно, без привязки к конкретному тексту. Такой смысл идеологических технологий подразумевал в свое время немецкий философ Эрнст Кассирер, писавший о том, что в великую эпоху технической цивилизации была создана и новая техника мифа как «современного оружия»: политики использют и трансформируют существовавшие прежде архаические мифы, а также конструируют новые175.

