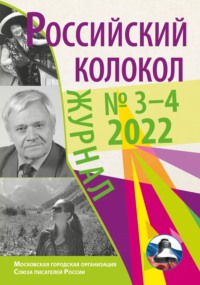Полная версия
Журнал «Юность» №04/2024
Всеволод, весь день пребывавший в мыле и дыму премьеры, Люшу узнал моментально. Память на лица у него в принципе была по-режиссерски отменной. А уж острые черты взбалмошной девчонки, ради которой он съел с земли макароны, всплыли сразу. Но едва пробудившая в горах Кударо симпатия по очевидным причинам даже в мыслях не получила развития. Мешал Люшин тогдашний возраст, а точнее, казавшаяся непреодолимой пропасть лет между ними. Не говоря о том, что до конца экспедиции она упорно избегала Севу: отворачивалась, задирала нос. Ну, он и не настаивал на общении. Уехал и забыл, откуда взялся тонкий шрам в основании правого большого пальца. Не вспоминал и когда вернулся в те места со съемочной группой. А тут, в прокуренном буфете «Авроры», в сутолоке, вспомнил.
На первый взгляд, они были не слишком-то похожи, эти двое. Люша вскакивала в семь утра, часу примерно на пятом Севиного сна. Она искала истину в твердой земле, он – в тех туманных зыбях, где обитают идеи. Закаленная в экспедициях Люша умела обходиться малым. Сева, раблезианец и жизнелюб, не отказывал себе в удовольствиях – например, подлакировать водочку коньячком под свежую байку в теплой компании.
Но оба с детства любили собак и одинаково легко относились к деньгам. Оба были импульсивны и патологически азартны; хитроумные партии в преферанс нередко обрывались посередине, оттого что тузы, короли и десятки трепетными бабочками разлетались с балкона. И оба – отходчивы в той равной мере, чтобы понимать: примирения требуют в два раза больше страсти, чем ссоры. Хотя, может, и это на самом деле не имело значения… Никому не ведомо, как возникает синхронность душ, вспышки ослепительного счастья, в которых исчезает время.
Под воздействием мощных высоковольтных токов Всеволод в январе восемьдесят девятого развелся с первой женой-артисткой, нервной блондинкой с серыми глазами холодного стекла, и через месяц Люша вышла за него замуж. А в апреле того же года она получила письмо из Академии наук Грузинской ССР, повергшее ее в гнев. Решением археологической комиссии Люше отказали в выдаче открытого листа, позволявшего вести раскопки в Юго-Осетии, – за два месяца до предполагаемой экспедиции в Кударо.
– Нет, ты не понимаешь, – с жаром объясняла Люша Севе, бегая по квартире, – вся моя кандидатская строится на кударском материале! А они хотят отрезать наших археологов от югоосетинских стоянок и копать самостоятельно. И на уже найденное давно глаз положили.
Она судорожно собирала обоих в дорогу. Сновала между распахнутыми шкафами, кидала выдернутые за шкирку вещи то в Севин чемодан, то в свою пузатую сумку болгарской кожи.
– Люшенька, я понимаю, – сочувственно отвечал Сева, протирая очки кромкой рубашки. – Но что толку срываться в Тбилиси? Что ты им скажешь? Были ли вообще случаи, когда комиссия меняла решение? Это бюрократическая процедура, сама же мне когда-то говорила.
Люша остановилась посреди комнаты, комкая в руках ангорский свитер.
– Если понадобится, до членов президиума дойду, – фыркнула, – лично им все растолкую, и про цель, и про задачи полевых работ… Всеволод не сдержал улыбку. И правда ведь, дойдет. Тихо проглотить отказ – не в Люшином характере. Как взбредет в голову что-то, вынь да выложь. И, пожалуй, она вполне способна создать прецедент.
Но это не делало затею жены менее безумной. У Всеволода, с его обширной киношной сетью знакомств, имелись добрые друзья и среди грузин, и среди осетин, и среди абхазов. В последнее время до него все чаще с разных сторон долетали дымы конфликтов, разгоравшихся на почве глубоких межэтнических противоречий. А у коллег с «Грузия-фильма» нет-нет да и проскакивала в желчных репликах антисоветская идейка, мол, оставьте нас, сами разберемся… Сложные, сложные вопросы. Ясно одно – в республике сегодня, мягко скажем, неспокойно.
Он даже хотел аккуратно предложить Люше поменять тему кандидатской, благо у нее написана только первая глава с обзором литературы, да смысл? Упрямая девчонка только раззадорится. Сделает наоборот. Такая вот она… наоборотливая.
– Послушай, давай я хоть Гие позвоню, чтобы он тебя встретил, разместил, – предложил Сева.
– Господь с тобой, не надо никого напрягать на ночь глядя! – воскликнула Люша. – С самолета сразу такси в «Иверию» возьму, гостиница от института археологии через дорогу.
И запихнула нежный свитер поглубже в сумку. Хотя Всеволод не очень удивился бы, обнаружив его по прибытии в Тулон у себя в чемодане. С Люши сталось бы в ажитации перепутать. Ухмыльнулся, но мысли о грядущем фестивале привели его на тонкий лед. И Всеволод провалился: подумал о конкурсе, о том, возьмет новый фильм приз или нет… Как жаль, как несправедливо, что Люша с ним не летит. И визу дали, а тут этот чертов открытый лист… Едкой кляксой стала расползаться обида. Ну чего ей не повременить с Грузией? А ему как быть? Не силком же Люшу с собой тащить, в самом деле. Не найдя решения, Всеволод промолчал.
Готового плана действий в Тбилиси у Люши не было и за пять часов полета не появилось. На месте разберется – не лыком шита. Уже не одного академика прогнула, чем председатель комиссии, этот профессор Беридзе лучше? Пробиться в его кабинет, а там – речь экспромтом, заготовки всегда искусственны. Но в самолете ее изводила тревога о судьбе экспедиции, а пуще того, о Севе. Как он, хорошо ли долетел, устроился? Волнуется наверняка. Все же неправильно она поступила, не поехав с ним, могла в конце концов несколько дней потерпеть, отложить штурм грузинской академии наук… Утром надо будет обязательно добежать до почты, позвонить, решила она.
Тбилиси встретил ее темной вечерней прохладой. Покинув аэровокзал, Люша направилась прямиком к группке таксистов на площади. Те оживились, разулыбались из-под черных усов, но, услышав, что ей нужно к «Иверии», замахали руками.
– Что ты, красавица, там же оцеплено все. – Потешный упитанный усач помотал головой в приплюснутой клетчатой кепке.
– А что случилось? – не поняла Люша.
– У Дома правительства митинг, пятый день уже. Гамсахурдия выступает, – веско сообщил другой, дубленый и морщинистый. – Баррикады построили. По Руставели не проехать.
– А в объезд? Ну или хотя бы до оцепления, дальше сама обойду, – напирала Люша.
Водители топтались, переглядываясь. Люша шумно выдохнула. Надо было послушать Севу на счет Гии… И неизвестно, что ей досадило больше: то, что она не могла после долгого, с двумя дозаправками, полета без проволочек добраться до отеля или то, что Сева в конечном счете оказался прав. Но очень уж Люше не хотелось подвергаться всем, несомненно приятным, да вот только по-своему изнурительным ритуалам грузинского гостеприимства. Завтра ей нужна свежая голова.
– Девушка, вам в центр? – послышался из-за спины хрипловатый басок.
На нее пристально смотрел молодой губастый таксист. Люша кивнула.
– А вы журналистка, да? – спросил он, почесывая шерстяную бородку.
Вопрос озадачил, но виду Люша не подала. Если это способ попасть в город, подумаешь, побудет журналисткой.
– Да, – заявила она твердо, – из «Ленинградской правды».
– Поехали. Мне как раз туда.
Сели в бывалую салатовую «Волгу», провонявшую бензином. Пока тряслись по автостраде, водитель, клокоча, погружал Люшу в темные новости: о возмутительном абхазском сходе с предложением выйти из состава Грузии, о голодовке тбилисских студентов у Дома правительства, о вспыхнувшем митинге под руководством лидеров национального движения, который начался с призывов не вмешиваться в дела Закавказья, а вылился в лозунги «Долой коммунизм!».
– Газеты ваши, в Ленинграде, молчат небось.
А знаете, знаете, что власти сегодня сделали? – негодовал водитель. – Танки прогнали по улицам! И вертолеты пустили над толпой. Запугать хотят, сволочи! Не дождутся… – Он стукнул волосатым кулачищем по рулю. – Я вот наоборот из-за этого решил, поеду. Танков не боялся и не буду!
Только потому меня и взял, сообразила Люша, что хочет огласки. Яростный монолог таксиста она с интуитивным благоразумием (абсолютно ей, надо заметить, не свойственным) почти не прерывала. Разве что для поддержания легенды время от времени задавала уточняющие вопросы. Известное дело, даже в компанейской атмосфере экспедиций абхазы с грузинами за один стол не садились.
Спустя минут десять водитель припарковал машину у небольшого, по-весеннему взбухшего сквера.
– А как в «Иверию» отсюда пройти? – напоследок спросила Люша.
Таксист смерил ее недоверчивым взглядом из-под густых сросшихся бровей.
– Зачем в «Иверию»? Протест там!
– Да мне вещи в гостинице оставить, пленки запасные, а то вдруг отнимут, – вывернулась Люша.
– А-а-а. Вам туда, прямо по Дзнеладзе, минут через пятнадцать упретесь в гостиницу, – буркнул он.
Сам запер машину и встроился в колонну демонстрантов, шагавших вверх по крутой, тускло освещенной улице к проспекту Руставели.
Люша перехватила сумку и пошла в указанном направлении. Моросило. Асфальт казался гладкой рекой. Влажный безветренный воздух гудел, словно за углом, прямо на центральной площади, ревел футбольный стадион. Неразборчиво орал по-грузински жесткий мужской голос, многократно усиленный мегафоном. Изредка сквозь гвалт резался высокий свист или нервный наигрыш скрипки.
Ни с того ни с сего Люше вздумалось посмотреть на митинг. Она свернула налево и через двести метров уперлась в заграждение – стоявший поперек дороги грузовик с песком. Заглянула в зазор между его смрадной угловатой мордой и цоколем облицованного мрамором сталинского дома. Люша отродясь не видела такой огромной толпы. Плотная, пестрая, она шевелилась, рокотала, ворочалась в каменном ложе площади. Над кипящей человеческой кашей реяли флаги – кизилово-красные полотнища с черно-белым полосатым крыжом. Происходящее плохо укладывалось у Люши в голове – грузины требовали независимости, но сами не допускали свободы других народов, навязывали им свой язык…
Она вернулась, минуя грузное серое здание, кажется, библиотеки, на улицу, параллельную Руставели. Быстрым шагом добралась до гостиницы, остекленной высотки, из-за балконов напоминавшей гигантскую терку. Получила ключ из рук черноокой девушки за полированной стойкой (та вместо приветствия встревоженно спросила: «Как там? Народу прибывает?»), поднялась на десятый этаж. Номер Люше дали просторный, с тяжелой кроватью и груботканым серым ковром на полу. С узкого балкона частично просматривался проспект.
Всю ночь на улице не смолкали крики. Заснуть Люше не удалось: вертелась на слишком мягком матрасе, переживала о Севином фильме. Некуда было деваться от нараставшего чувства вины. А в начале пятого утра с площади взрывной волной прокатился невообразимый шум. Люшу вытряхнуло из постели. Она скинула измятое одеяло, набросила на ночнушку пальто. Вылезла на балкон и остолбенела.
По улице бежали сотни. Стремительный поток, безудержный человеческий сель оглушительными валами сходил с площади. Демонстранты кричали, толкались, падали на проезжую часть, поднимались и снова бежали, будто обезумевшая дичь спасалась от лесного пожара. Но почему? И от кого? Присмотревшись, Люша заметила, что в неоднородной толпе мельтешат одинаковые пятна, рыжие на темном: то блестели в свете ночных фонарей круглые солдатские каски… И вокруг каждой – людские завихрения, очаги неравной борьбы. Подробности Люша с высоты разглядеть не могла, но и от этой нечеткой картины ее бросило в жар. Ворот ночнушки взмок, в висках застучало, занемели пальцы. Даже на безопасном балконе Люшу подстегивал древний стайный инстинкт: бежать, скорее, скорее!
Выплеснувшись беспорядочной массой, толпа между тем зримо редела, растекалась по переулкам. Кто-то еще метался по разоренному проспекту, кто-то двигался ползком за кустами. Кого-то, страшно тряпичного, втроем несли на руках. Медленно протащилась скорая, завывая сиреной. Один из носильщиков бросил ноги своего безвольного груза и ринулся следом. Догнал, заколотил по кузову – безуспешно. Должно быть, полная, с содроганием подумала Люша.
А потом увидела, что на тротуаре среди мусора и рваных транспарантов недвижно лежит тщедушная черно-белая фигурка. Упавшую девушку не замечали – ее скрывал высокий парапет пешеходного перехода. Люша с замиранием сердца ждала минуту, две, три, потом закричала, но голос сорвался в хрип, да и на этом пятачке уже было почти безлюдно. Тогда она наспех перетянула пальто поясом и, теряя туфли, помчалась из номера к лифту.
Гостиничный вестибюль походил на лазарет. Люди сидели и лежали на плоских бордовых диванчиках: порванные брюки, ссаженные колени, грязные платья, измазанные кровью носы. Человек двадцать, женщины и мужчины, молодые и старые. У стойки регистрации скрючился, стиснув непокрытую голову, милиционер. Между ними носилась с аптечкой бледная взъерошенная администраторша. Поймав ее черный беспомощный взгляд, Люша на секунду задержалась и виновато развела руками, после чего кинулась к стеклянным дверям, напрямик к распростертой на асфальте девушке.
На улице было поразительно тихо, как после горного камнепада. Приторно пахло чем-то сладким, цветочным, то ли черемухой, то ли жасмином. От этого невинного аромата у Люши стянуло глотку, зачесались, как от аллергии, глаза и выступили едкие слезы. Повсюду валялись затоптанные сумки, разносортная сиротливая обувка и полосы полиэтилена, которыми, вероятно, на площади укрывались от дождя. Люша споткнулась – ей под ноги попала разбитая скрипка. А рядом обнаружилась длинная резиновая палка, без сомнений, часть воинской экипировки. Неужели били людей, как скот? Дико, немыслимо, не пошли же демонстранты штурмовать Дом правительства…
Девушка – лет двадцать, черная копна волос, белая курточка из плащовки, синее платье в меленький горошек – полубессознательно лепетала что-то на грузинском. Узкое лицо сильно опухло и покраснело, кожа, казалось, вот-вот лопнет. На трогательном кружевном воротничке темнела кровь, натекшая из разбитой губы. В остальном каких-либо заметных увечий Люша у девушки не нашла, руки и ноги целы.
Люша, присев на корточки, тормошила бедняжку за плечи и вдруг услышала щелчки. Обернулась – в трех метрах стоял поджарый мужчинка с фотокамерой, ремешок ее туго перетягивал ладонь. Люша рявкнула: «Что снимаешь, помоги!» В носу опять защипало, зрение помутилось. Она потерла кулаками веки, вгляделась – а мужчинки и след простыл. Побежал дальше, за следующим кадром своего хладнокровного репортажа.
Девушка тем временем более-менее пришла в себя. Открыла воспаленные, кровянистые глаза, приподнялась, постанывая на локтях. Промямлила на русском:
– Теснили нас с площади, четыре бронемашины, а за ними цепи из военных… митинг мирный… мы студенты…
– Тише-тише, давай мы тебя поднимем, – сказала Люша, подставляя ей плечо.
Невесомая на вид девчушка оказалась удивительно тяжелой. Пока ковыляли до гостиницы, она продолжала неразборчиво бормотать – про солдат, про какие-то лопаты. За время, что Люша провела с ней на тротуаре, на стоянке перед отелем чудом появилась скорая. Две вспаренные немолодые медички с вытаращенными глазами подхватили студентку. Люша побежала внутрь здания. Любой экспедиционный человек знает, как промыть рану и перебинтовать конечность, да только кто бы мог подумать, для чего ей пригодятся навыки первой помощи этой чудовищной апрельской ночью…
Спать она так и не легла. Опустошенная, зашла через несколько часов к себе в номер. Ополоснула ледяной водой горевшие щеки. Уставилась в зеркало: на скулах зацвел нездоровый багряный румянец, веки набрякли, пониже образовались тяжкие мешки. Люша машинально взяла помадный тюбик, лежавший у раковины, накрасила зачем-то обветренные губы. Жирный розовый пигмент некрасиво забивался в трещинки. Она взяла неразобранную сумку и выписалась из гостиницы – на сутки раньше оплаченного срока. Даже переодеваться не стала.
Весеннее утро выдалось особой пасхальной прелести, хотя до Пасхи оставалась еще пара недель – чистейшей голубизны небо, едва брызнувшие молодой зеленью платаны, желтенькая клейкая шелуха почек на мостовой. Центр по-прежнему был перекрыт. Группами по пять-шесть человек стояли военные. По солнечным улицам под безжалостный звон колоколов церкви Кашвети бродили прохожие. На всю жизнь Люша запомнит их скорбные, будто из могильного мрамора высеченные лица; взгляды, полные гнева и горестного недоумения. Не понимая, куда идти, она отправилась единственно знакомым путем – к тому месту, где вчерашним вечером ее высадил водитель салатовой «Волги» – только сунуться на проспект Руставели уже не решилась.
Такси поймалось на удивление легко. Люша попросила отвезти ее в аэропорт, в прострации рухнула на заднее сиденье. Сомнамбулой доплелась до касс, купила втридорога билет до Ленинграда. Очнулась, лишь когда объявили посадку. Пока поднималась по трапу в самолет, в голове бились, связываясь в тугой болезненный узел, три мысли. Первая – что кударская экспедиция не состоится, ни сейчас, ни через год. Вторая – что отныне она будет ездить с Севой на все фестивали. Третья, не столь оформленная, как две другие, скорее была фатальным предощущением: из-за чьих-то непоправимых начальственных решений незыблемый советский мир сегодня дал уродливую трещину, которая неотвратимо приведет к распаду.
* * *Как известно, Люша не ошиблась. Экспедиции в Кударо прекратились на долгие годы. Новую тему она так и не выбрала, учеба в аспирантуре как-то сама собой заглохла. Денег у университета после развала Союза стало на порядок меньше, настроения на кафедре витали упаднические. Доценты, чтобы прокормиться, возделывали огороды, аспиранты шли в посудомойки, кто посметливее, становились за прилавки. Словом, выкручивались.
С искусством в начале девяностых обстояло не лучше, чем с наукой. Госфинансирование сильно, сильно оскудело. Но Сева был талантлив и маниакально работоспособен, хорошо укладывался в сроки и успел приобрести репутацию безукоризненного производственника. Вдобавок ему, одному из немногих, везло. Скромный Тулонский фестиваль принес Севе первую важную награду, за которой последовали другие, золотые в прямом и переносном смысле. Его проекты снимались на деньги Франции (по программе помощи кинематографистам из Восточной Европы), а когда средств не хватало, выручали частные инвесторы. Коммерсанты жаждали «поиграться в кино» и щедро спонсировали все подряд, правда, порой встревали в процесс со своими, прямо скажем, сомнительными требованиями – например, ввести в сценарий удалого парня с рельефными мышцами и навыками рукопашного боя… Зато идеологическое давление ослабло, радовался Сева. Можно экспериментировать.
Люше случалось бывать с супругом на «Ленфильме». Нравилось наблюдать, как он ведет себя на площадке, спокойно и деловито. Громогласный, с актерами Всеволод разговаривал тихо, почти ласково, добивался выверенности каждого жеста и взгляда. Замечание – всегда с похвалой. Со съемочной группой он общался иначе: лаконично и четко. Больше думал, чем говорил, – не потому, что жалел фраз, а оттого, что знал вред лишних слов, которые, нарастая коростой на шестеренках производственного процесса, рано или поздно стопорили эту сложную киношную машинерию.
Как-то незаметно Люша там прижилась. На съемках есть чем заняться, если быстро соображаешь и не путаешься под ногами. И Люша, светлая голова, врубалась, да еще как: то о ценном реквизите договорится невзначай на перекуре у соседнего павильона, то весь город прочешет в поисках ужасно редкой и позарез нужной оператору лампочки, без которой не воплотить режиссерского замысла, то выхватит в последний момент из кадра забытый актером сценарий.
Вне съемок в их тесноватую «двушку» на Васильевском набивались киношники, а с ними – оголтелые поэты, музыканты и прочий творческий контингент. Небольшая квартирка тряслась, как мексиканский маракас, а в гуще веселья царил хлебосольный Сева, которого все они обожали. Его вообще легко было любить – такого живого, открытого, чуткого к чужому таланту.
Да вот напасть – этот самый творческий контингент надо было кормить. Деньги-то имелись, а в магазинах – пустые полки. Чтобы хоть как-то накрыть три сдвинутых вместе стола, Люша бегала по очередям, выменивала сахарные талоны на сырные, закупала на стихийных рынках мерзлые куриные окорока; в духовке жирные «ножки Буша» становились ватными на вкус, но под водку шли превосходно. Постигла женскую науку закрутки (соления создавали видимость разнообразия закусок). Овладела и мужской – разводить в правильных пропорциях и настаивать на тимьяне и лимоне спирт «Рояль». Даже пресное печеньице навострилась печь из детской смеси «Малыш», единственного продукта, никогда не исчезавшего с прилавков. Завела дружбу с грузчиком Елисеевского магазина и кудрявой буфетчицей из котлетной на Невском. Та мечтала сниматься в кино и вместе с пятью килограммами сосисок всякий раз настойчиво передавала Всеволоду Константиновичу, поигрывая янтарными бусиками, кокетливый привет.
В ежедневной круговерти Люша не переставала думать о науке. При случае просматривала изрядно поредевшие публикации по антропологии и археологии, выспрашивала новости академического мира у недавно защитившейся Веры Стерх. «Сделаю паузу, пережду несколько лет, пока в стране не устаканится… А как наладится, и дела в университете пойдут, возобновлю», – так отвечала Люша, когда подруга интересовалась ее планами.
В девяносто четвертом Всеволод вместе с независимой студией затеял большие натурные съемки. Сценарий – его собственный, личный вариант «Буранного полустанка» Айтматова. Работали экономии ради не в Казахстане, а на Алтае, в Кулундинской степи, примерно в семи часах езды на юго-запад от Барнаула. Засушливый край беспредельных трав; во время нечастых дождей казалось, что влага здесь испаряется прежде, чем успевает коснуться встрепанных метелок седого ковыля и узких листов пырея, оставлявших на неосторожной ладони жгучие глубокие порезы.
Люша, следуя данному себе зароку, сопровождала Севу. Но, сказать откровенно, ее подзуживала шкодная мыслишка при первой возможности слинять. Люша вызнала, что в ста километрах от киноплощадки, у полевой дороги вдоль края речной террасы, копали древние поселения: три полуземляночных жилища, всякие фрагменты обожженной глины, осколки костей животных и кусочки керамического шлака эпохи бронзы. Позднятина, конечно, не палеолит, да за неимением лучшего сойдет. Съездить, познакомиться, а там и примкнуть к экспедиции – просто так, без оплаты. Чем черт не шутит.
Но возможность удрать на раскоп все никак не подворачивалась. Шел второй месяц съемок, а Всеволод едва закончил десяток сцен. Жара стояла немилосердная. Иссушенный воздух драл горло, как песок. Аппаратура перегревалась, густо загримированные лица актеров к полудню напоминали плавленые циферблаты с полотна Сальвадора Дали. Скверно выдрессированная лисица по кличке Сныть, арендованная для фильма с Тальменской зверофермы, забивалась в угол клетки и тяжело дышала, вывалив из узкой пасти шершавый язычок.
Несмотря на зной, Всеволод был неумолим и как никогда требователен. Переделывал дубль за дублем, на ходу менял концепцию, доводил артистов до изнеможения репетициями, коротко переругивался с оператором об изобразительной плотности материала. Третировал художника-постановщика: чтобы превратить заросшие зеленым разнотравьем поля в мертвенную сарозекскую сушь и великие пустыни, заставлял вручную красить сорные злаки в иссера-желтый, кое-где нещадно выкашивать и выпалывать целые сотки до растрескавшейся, вздыбленной почвы. «А здесь зачем лишнего убрали? – гаркал потом Всеволод. – Нужны клочки, клочки!» И декораторы, сдавленно матерясь, пересаживали дерн обратно…
Дураку понятно: что-то у режиссера не клеилось. И после того как половина съемочной группы не без усилий уняла очередную истерику перегревшейся артистки Каплан, которая, выпустив пар, распласталась под парусиновым навесом, Люша вознамерилась выяснить у мужа, в чем дело.
Сева уже час как застрял у себя в вагончике, служившем одновременно кабинетом и комнатой отдыха. Склонился, сощурившись, с незажженной сигаретой в зубах над разбросанными по столу раскадровками.
– У тебя новый режиссерский метод? Заморить актеров, чтобы они достовернее играли несчастных степняков? – шутливо поинтересовалась Люша.
Всеволод выдернул изо рта сигарету и принялся разминать ее в пальцах, соря табаком.
– Можно сказать и так, – отстраненно произнес он, снова закусил фильтр и уставился в документы.
Люша поискала глазами зажигалку. Нашла в пыли под столом, рядом с раздавленной пачкой «Винстона».
– Сев, что случилось? – шоркнула колесиком и поднесла прозрачный огонек к кончику полупустой сигареты.
Бумага затлела и слиплась, супруг втянул сквозь зубы кислую гарь.
– Все нормально, – насупился. – Работаем.
– Ну брось, я же вижу, – не выдержала Люша, – я знаю, как ты обычно работаешь. Не так. Что-то не по плану?
– План, как же… Планы – это чушь! – Сева резко смел со стола раскадровки. – Нельзя просто начертить план и сделать фильм. Так не работает! – крикнул он в сердцах. – Кино рождается буквально на ощупь, в контакте с живой материей. А тут нет контакта, хоть ты тресни! Зашагал из угла в угол по вагончику, который как будто чуть кренился от его косолапой поступи.