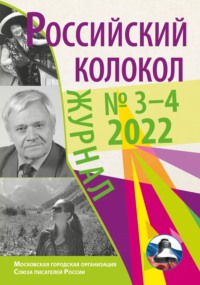Полная версия
Журнал «Юность» №04/2024
Люша и сама себя ругала последними словами – совсем от волнения смешалась, балбесина, не спросила у Стерха главного. Ничего, кое-что важное она тем не менее выяснила и уже знала, как использовать: Стерх, очевидно, любит балет. А в сумке у Люшиной мамы хранится специальная книжечка с пропускными бланками, которая вкупе с волшебным словом «контрамарка» укрощает даже хамоватых врачих из поликлиники. В переговорную силу книжечки Люша верила непреложно.
О том, чтобы снова без разрешения попасть в кабинет к Стерху, не могло быть и речи, поэтому Люша при следующем визите тайком от Веры запихнула книжечку вместе с запиской в узкий просвет под дверью. Сообщение было простым и вежливым: Люше, будущему археологу, очень хочется узнать, где «многоувожаемый» ученый и коллега раскопал древние черепа…
Не прошло и четверти часа, как Стерх нагрянул в общую комнату. Вера только что вытрясла из тканевого мешка пластмассовые фишки для «Эрудита» и теперь переворачивала их буковками вверх на ковре.
– Значит, черепа, а, девочка? – спросил он Люшу, помахав запиской. – А я-то думал… Ну, пойдем. Обмирая всем тельцем, от корней волос, скрученных мамой в тугие каральки, до грязноватых пяток, Люша последовала за ученым. В кабинете Стерх дернул дребезжащую дверцу шкафа. Вынул глянцевитый череп, протянул Люше. На ощупь костяной каркас был твердым и гладким, как бы полированным. И совсем не тяжелым.
– Вы археолог? – задала она давно мучивший вопрос.
– Нет. Антрополог. Ты понимаешь разницу?
Люша неуверенно кивнула. Стерх тепло усмехнулся, поправил очки, усаживая их обратно на красноватую вмятину тонкой переносицы.
– Археологи изучают, как люди жили. Зачастую они первыми спустя тысячелетия прикасаются к предметам быта и ископаемым останкам. Наша наука тоже уделяет таким находкам большое внимание, но нас волнуют вопросы культуры, этносов, проблема антропогенеза… Происхождения человека, – пояснил он. – Кто мы. Откуда пришли.
За ворот Люше пробрался нездешний сквознячок, словно выползший из какого-то доисторического кургана.
– А зачем вам столько черепов? – полюбопытствовала она, не в силах отвести взгляд от пустых глазниц.
– Был такой видный антрополог, Михаил Михайлович Герасимов. Мой учитель. Я продолжаю его работу. Он разработал методику, благодаря которой мы можем изучить череп и понять, как выглядел его обладатель. Получить представление о внешности хоть древнего неандертальца, хоть Ивана Грозного.
– Покажите, – потребовала Люша и отдала Стерху череп. И добавила: – Пожалуйста.
Стерх повертел костяной шар в руках, словно выбирал на базаре дыньку-колхозницу.
– Обычно мы начинаем со специальных измерений, краниометрии. Но даже после поверхностного осмотра можно заключить, что это был юноша, судя по профилировке лица, у женщин она другая. Черепные швы, зубы и еще некоторые юнальные особенности строения лицевого отдела позволяют определить возраст, что-то около двадцати лет… Видишь, как хрупок костный материал. – Ученый легонько постучал черепу по темени. – Сильное недоедание, он очень исхудал. Лоб высокий, с выраженными буграми. Большие глаза… И так далее. Чтобы достичь портретного описания, нужны детальные обводы, по которым затем делается реконструкция из скульптурного воска.
Люша слушала завороженно. Все это здорово походило на магический фокус. Как воссоздать лицо на основе голых костей? Откуда взять форму носа, если вместо него лишь жутковатое треугольное дупло? Загадка.
– А этот юноша древний?
Стерх печально покачал головой.
– Нет. Это опытный образец. Мальчика того, ленинградца, не стало тридцать лет назад.
Люша машинально произвела в уме нехитрые расчеты. Сорок четвертый, да, никакая не древность. И принялась дальше выспрашивать про замеры и про воск, и что, прямо лепить нос, уши, как из пластилина?..
Так Валерий Яковлевич Стерх неожиданно для себя превратился в Люшиного наставника и покровителя. Книжечку ту со служебными пропусками после некоторых колебаний он Антонине Семеновне, конечно, вернул, а впоследствии до конца жизни получал контрамарки на все мало-мальски значимые премьеры в Кировском театре.
* * *Первая настоящая Люшина экспедиция состоялась через четыре года. Ей было пятнадцать. Она только-только прошла невыносимую стадию телесных изменений, когда растущий организм беспрестанно преподносит гнусные сюрпризы: то подлый, вызревший за ночь прыщ-жировичок, то острый приступ внутримышечного зуда, а то и темный волосок в неположенном месте – скажем, на подбородке, – как будто мало природе того безобразия, что происходит в местах подобающих.
Весь остаток весенней четверти Люша изнывала. Ничто не радовало в томительном ожидании поездки. Горчили на языке пятилистники сирени, мальчишки раздражали, первые в жизни туфли на взрослых каблуках натирали кожу до мокрых мозолей. А главное – прежде любимые уроки истории теперь воспринимались как бесконечный пролог. Люше не терпелось перейти от слов к делу.
И вот каникулы. Папа достал с антресолей залежалый походный рюкзак. Люша затолкала туда запас белья, свитера для спусков в пещеры, рабочие брюки, а еще джинсы и пару платьев – что называется, на выход. Седьмого июня Люша и Вера загрузились в плацкартный вагон. Люшу провожали родители, самостоятельная Вера, как обычно, добиралась до вокзала одна. Валерий Яковлевич прибыл позже, с тройкой веселых студентов-антропологов из ЛГУ.
Поезд шел на Кавказ. Дорога, как ни странно, промелькнула быстро. Люша лежала на верхней полке, перечитывала «Восстановление лица по черепу» Герасимова. Иногда спускалась к Вере поболтать, сыграть в морской бой и пожевать что-то из ее домашних заготовок, фаршированное яичко или сложный многослойный бутерброд. Она испытывала неловкость за Верину стряпню (ну кто берет в экспедицию такие изыски?), и зря: голодные студенты Стерха с ума от них посходили и в благодарность даже позвали девчонок к себе в отсек порезаться в карты. А ночью Люша лежала под простыней и прислушивалась к их разговорам: парни гудели, строили планы, спорили взахлеб о проблемах палеолита. Временами к их басовитому трио присоединялся резкий тенорок Стерха… И это было прекрасно.
В Тбилиси пересели на дряхлый автобус. С горем пополам по извилистому серпантину доползли до Цхинвали. Там их встретил Захарыч – жизнерадостный, обильно потевший мужик в нестираной майке и холщовых штанах, подвязанных веревкой. Но за рулем темно-зеленого грузовика с брезентовым верхом, гулкого и грязнющего, как помойный бак, Захарыч был асом, каких мало. Монструозная «шишига», грохоча и кренясь на крутых поворотах, бодро пожирала подъемы и спуски на пути к горняцкому поселку в Кударском ущелье, на северных склонах Рачинского хребта.
Пещерный комплекс Кударо, важнейший памятник каменного и медного веков, богатством уникальных находок ежегодно привлекал на Большой Кавказ самых разных специалистов. Вывезенные отсюда археологами палеолитические орудия, к примеру сланцевые ретушеры и чопперы из песчаника, пролежавшие в культурном слое без малого триста тысяч лет, и по сей день хранятся в Эрмитаже в залах археологии Восточной Европы и Сибири на первом этаже. А предметом изысканий антропологов были в первую очередь немногочисленные останки архантропов и неандертальцев. Человеческие предки, по всей видимости, спасались от оледенения в хорошо освещенных солнцем окрестных пещерах. Жили здесь, в горах, разводили огонь, охотились на медведей, оленей, бизонов и прочих плейстоценовых животных, чьи кости примерно с середины пятидесятых ученые регулярно выуживали из непроглядных недр.
Высоту в тысяча семьсот метров путники брали пешком, с рюкзаками на плечах. Часто останавливались: тяжко было подниматься в гору по натоптанной тропинке, ноги, затекшие после длительного перегона, не слушались. Люша, однако, бежала впереди – сказывался энтузиазм неофита. Не отставал, несмотря на возраст, и Стерх. По мере приближения к стоянке руководитель молодел на глазах; Люша списала эффект на здешний животворящий воздух. Так и шагали вдвоем в авангарде, самый старый и самый юный участники экспедиции, и прыти в них было поровну, как в сообщающихся сосудах.
– Добро пожаловать, – наконец объявил Стерх.
Люшиному взгляду предстала полузаброшенная деревенька. В бедную скальную почву вросли приземистые деревянные домики с большими, почти во всю стену, решетчатыми окнами. Крутобокие уличные печи источали дивный аромат горячих лепешек. «Тандыр», – благоговейно прошептала Вера, а Люша непроизвольно сглотнула. У горки нарубленных дров на сучковатой колоде в позе мудрого старца, подпершись, восседал щуплый смуглый мальчуган и темными глазами провожал прибывших.
– Имей в виду, – предупредил Люшу руководитель, – мы, антропологи, на раскопе народ пришлый. Во-первых, надо уважать местных, это, думаю, без объяснений понятно. Во-вторых, нужно считаться с хозяевами стоянки, археологами. Научными сотрудниками и их практикантами. Они ведут основные полевые работы. Приезжают в Кударо первыми, с оборудованием и провизией, обустраивают базу и последними уезжают. Остальные группы – так, погостить на всем готовом.
– А что за остальные группы? Кроме нас? – встрепенулась Люша, поглядывая, как суровая, чеканной красоты осетинка развешивает на веревке лохматые шкуры.
За редкозубым штакетником поблеивали овцы. Там и сям в выжженной солнцем траве попадались скопления черненьких козьих шариков.
– Палеонтологи, например, – ответил Стерх. – Ищут кости каких-нибудь грызунов, носятся с ведрами и ситами, намывают грунт из раскопа. Геологи-четвертичники почву исследуют. Академик Молчанов сейчас тут, кстати. Увидишь, манерный такой господин, доктор геолого-минералогических наук, за ним всегда бегает рьяный школяр с теодолитом. И гречку ему студенты варят отдельно. Тоже мне, барин, – неодобрительно проворчал он. – А вообще кого только нет… Вплоть до астрономов. Их по синякам под глазами можно идентифицировать. Они бедняги, не высыпаются, ночами звезды считают, а днем их все норовят привлечь к тяжелому физическому труду.
Познакомившись поближе с разнообразными обитателями базы, Люша узнала, что существует еще одна категория «пришлых» – неквалифицированный творческий люд. Поэты, художники, музыканты, прибившиеся к экспедиции в поисках вдохновения.
Взять, скажем, флейтистку Сонечку, невесомую и белокурую консерваторскую лорелею, обладательницу чересчур подвижной, словно на шарнирах, челюсти, чьи утренние гаммы будили экспедицию почище пионерского горна. Или медвежьего вида Севу из Ленинградского института киноинженеров, который путал палеолит с неолитом и с первого дня своим невежеством действовал Люше на нервы. Богему тоже снабжали лопатами или кисточками и спозаранку отправляли на раскоп. Впрочем, они не больно-то протестовали, ведь вдохновения от местных лиловых рассветов хоть отбавляй… Встречались и просто эксцентричные личности – как сухощавый йог по прозвищу Мяу-Ляу. Этот питался исключительно грецкими орехами в меду из привезенной с собой пятилитровой банки.
Жилось на базе относительно комфортно, даже не в палатках. Под нужды экспедиции был приспособлен заброшенный осетинский дом на краю скалы. Одно из помещений археологи отвели под камералку. Там чистили, фотографировали и изучали добытый в пещерах материал, а еще, по слухам, назначали поздние свидания. В других комнатах ночевали (кто на раскладушках, кто в тощих спальниках с хлопчатобумажными вкладышами), еду готовили на летней кухне. Дела туалетные браво справляли прямо над бездной, в щелястой кабинке, по-хитрому пристроенной к дому. Умываться шли с бруском хозяйственного мыла на ручей либо наскоро освежались у рукомойника, прибитого к одинокому деревцу. По воскресеньям спускались в нижний поселок – в баню.
Больше всех от тягот этой недопоходной жизни страдала, понятно, чистоплотная Вера. Кропотливая и точная возня с костями в камералке вполне соответствовала ее усидчивой натуре, но вот неистребимая грязь… Тут-то и начались между подругами разногласия. Люша к бытовым неудобствам приладилась быстро, по-спартански; Верино нытье ей стало надоедать. Ну Люша и огрызнулась пару раз, Вера обиделась. А что, не полагается дочери Стерха жаловаться, не к лицу. Тем паче когда столько чудес творится: и полуночные песни под гитару, и сумасшедшие звезды, и первые робкие глотки молодого вина.
Стерх был Люшей доволен, хвалил. Он до последнего колебался, стоило ли брать с собой в экспедицию не одну, а сразу двух неразумных девчонок, от которых только и жди, что будут путаться под ногами. Это ж не студентики Молчанова, подобострастные и вышколенные до нервного тика, а непредсказуемые подростки, женского тем более пола, со всеми их труднопостижимыми потребностями. Что до Веры… Кто знал, что в ней так сильны неврозы, ее клиническая домовитость: готова в студеном ручье портянки стирать, пока суставы не распухнут.
Разумеется, Стерх понимал, что виноват. Он-то после смерти жены малодушно ушел в работу, а Вере куда было деться? Неспроста она взвалила на себя домашние тяготы, фактически сама себя воспитала по-женски… Стерх даже косичку не научился плести, лишь однажды отвел в парикмахерскую, Вера так и носит с тех пор короткую воробьиную стрижку. Да, наверное, он нерадивый отец, но получше того проходимца, который бросил Верину мать беременной и теперь не имел на дочь ни притязаний, ни прав.
А когда в доме Стерхов появилась Люша, эта неуемная девчонка с горящими глазами, все в одночасье пересобралось в причудливую ролевую структуру, о которой Валерий Яковлевич пытался лишний раз не думать. Правда, порой ловил себя на неуютной мысли, что Люша ему как бы дочка, а хозяйственная Вера, столь похожая на маму, – немножечко жена…
Как бы то ни было, Люша, в отличие от Веры, демонстрировала выдающиеся способности к исторической науке, а уж для экспедиционной жизни и вовсе оказалась скроена идеально. Несмотря на похвалы наставника, ей, однако, мнилось, что она медлительна и неуклюжа. Люша лихорадочно ворошила в памяти все проштудированное по теме. Если от руководителя не поступало задач, добровольно бегала на раскоп. Наблюдала за археологами (ее манила их деятельная близость к земле), помогала, училась. И очень-очень старалась, особенно при старших коллегах.
К чести Люши, в пещере и в камералке она и вправду справлялась неплохо. Но на пятый день, когда ее поставили дежурной, случилась катастрофа.
Дежурных на кухню директивным порядком назначал руководитель экспедиции, грозный косматый археолог по фамилии Ванин, носивший полосатые рубашки попеременно с клетчатыми. И накануне Люша с ужасом узнала, что ей в напарники достался не кто иной, как увалень Сева из Института киноинженеров. Спроси ее кто-то – она не сумела бы толком объяснить, чем конкретно ее так бесит этот нескладный, полноватый парень, с умным видом рассуждавший о Тарковском и ни черта не смысливший в истории. Бесит – и точка.
Беда заключалась в другом: как и Люша, Сева решительно не умел готовить. А им надлежало кормить голодных, со свежего воздуха, трудяг. Без малого два десятка. Так что, встретившись утром рокового дня на летней кухне, оба смотрели на три пачки макарон и ровный столбик банок говяжьей тушенки с известным недоумением.
Почесавши в затылках, приступили. Сева с трудом разжег костер, изведя коробок спичек. Люша принесла ведро воды и вылила в большой котел. Мучительно припоминая, как кто-то когда-то при ней вскрывал банку с дефицитными персиками, взялась за консервный нож. Подолбила крышку – безрезультатно.
– Да ты не тем концом, дай я, – авторитетно изрек Сева.
Размахнулся, пырнул банку – аж бульон прыснул – и давай орудовать локтем. Люша нахохлилась. Сева кинул торжествующий взгляд. И вдруг как заверещит! Рассек ладонь об острый край. Люша – за аптечкой, шипучая, розоватая от крови перекись, пластыри… Прочие банки Сева открывал уже не отвлекаясь, с идиотским выражением святого страстотерпца на круглом лице.
Переглянулись – что дальше?
– Макароны сыпать? – предположила Люша.
Ей бы с Верой сейчас посоветоваться, да какое там… Сутки не разговаривали.
– А тушенку? – спросил Сева, ущипнув свой мягкий, будто слива, нос.
– И тушенку!
С внезапной, незнамо где взятой решимостью Люша высыпала макароны в холодную воду. Сева поочередно опрокинул в котел банки влажно хлюпавшей тушенки. Перевели дух. Люша с достоинством помешивала половником жирное месиво, подражая Вере.
После того как вода закипела, серо-бурое тестяное варево вспучилось и полезло за борта. Запахло горелым: часть макаронной массы прилипла ко дну.
– Что стоишь, снимай! – завопила Люша.
Сева нерасторопно стащил котел с решетки, под которой полыхали угли.
– Тяжелый-то какой, елки-палки, – пробормотал он по пути к компостной куче.
Накренял бадью, сливая жидкость, все ниже и ниже, пока вместе с мутной бульонной водой на землю не шлепнулась добрая половина слипшегося теста. Люша с Севой глупо застыли над злополучным блюдом, сваленным в компост поблизости от подгнивших картофельных очисток и яичной скорлупы.
– Может, время признать поражение? – философски предложил Сева.
Люша затрясла головой:
– Ни за что!
Присела и принялась, чертыхаясь, собирать руками скользкие разбухшие макароны в ошметках тушенки обратно в котел. Она готова была разрыдаться: позорище, оставить экспедицию без обеда, так подвести Стерха… Видя, как Люша расстроилась, Сева щепотью подцепил из компоста склизкий комок.
– А знаешь, вкусно! – давясь, заверил с набитым ртом.
Естественно, это была ложь во спасение. Никто из загорелых ясноглазых ребят и их научных руководителей, собравшихся вскоре на летней кухне за крепким, грубо сколоченным столом, подобного великодушия не проявил. Но экспедиционный народ незлобивый, а что важнее, бывалый. Ругаться на разваренные макароны не стали. Посмеялись зато от души. По счастью, днем раньше археологи спускались в баню, заодно закупились в нижнем поселке кто чем – бордовыми снизками чурчхелы, свежеиспеченными пирогами, черемшой, дырчатым осетинским сыром. Устроили вскладчину спонтанную пирушку, даже мосластый Мяу-Ляу вложился горстью клейких орехов из своей заляпанной медом банки. Так что не пропали.
А Люша, потерпев кулинарное фиаско, поджала хвост. Помирилась с Верой и под ее руководством к концу поездки научилась лучше всех готовить макароны.
* * *После того памятного путешествия в Кударские пещеры в Люшины студенческие годы случилось еще немало экспедиций по советским республикам – Армении, Молдавии, Узбекистану, – да всего и не упомнишь. Но именно с Осетией Люша связывала основные исследовательские планы и собиралась писать кандидатскую о стоянках архантропов Центрального Кавказа.
Поступила она, как и следовало ожидать, на истфак, туда же, куда и Вера. С отличием окончила, совместив антропологическую специальность с археологической, первой среди ровесников получила открытый лист с правом производства разведки. Снискала на курсе уважение и затаенную зависть (ее способность находить ценнейшие ископаемые останки считали фартом). В дополнение к Стерху обзавелась еще полудюжиной наставников, престарелых ревматических профессоров, которых подпитывала кипучая энергия Люши, мчавшая ее в большую науку на сверхскоростях.
Но незадолго до запланированной подачи документов в аспирантуру Люшина судьба совершила непредвиденный вираж. Светочка Стрельцова, выросшая наливной хохотушкой с герценовским дипломом, в ту пору выгуливала по Ленинграду группы иностранцев. Пользуясь ситуацией, искала себе заграничного мужа (к слову, без заметных успехов), хитростью проводила старых друзей на обеды в «Асторию» и вовсю промышляла импортной косметикой.
Как-то Свете в подопечные досталась симпатичная пара из Франции. Переводческие услуги им были без надобности: коренастый кинематографист Эмиль, чудаковатый сын русского эмигранта, сносно владел языком. На третий день, нагулявшись по достопримечательностям, Эмиль изъявил желание узнать, какие фильмы нынче снимают в Советском Союзе. Подключив всемогущий аппарат «Интуриста» и кое-какие связи, Света снабдила его пригласительными на премьеру подающего надежды ленинградского режиссера. Супруга Эмиля Аньес, снулая уроженка Тулона, у которой с самого приезда в Россию кошмарно, с багровыми всполохами, болела голова, от культурной программы наотрез отказалась. Лишний билет Света предложила Люше.
Премьера проходила сентябрьским вечером в кинотеатре «Аврора» на Невском, напротив Дворца пионеров. Туго накрученная плойкой и утянутая в нужных местах под зеленым велюровым платьем Света встретила Люшу на полукруглых ступеньках перед входом, у ниши с псевдоантичной гипсовой Венерой. Рядом в сером, рыбьего оттенка костюме и пижонистых ботинках с пряжками переминался невысокий импозантный Эмиль, чей журчащий акцент Люша сочла уморительным.
Воздух в переполненном фойе был спертый, напитанный сигаретным дымом, запахом трехзвездочного коньяка и тяжелым парфюмом. Зрители галдели и толкались, где-то близко щелкали затворы фотоаппаратов. На Люшу накатила дурнота. Сжался желудок, зачастил пульс, к горлу подступил плотный удушливый ком. Она поглядела по сторонам, не пробиться ли к выходу, на улицу, или хотя бы в туалет – плеснуть в лицо водой, и бог с ней, с тушью, но тут двери кинозала раскрылись.
Втроем пробрались к своим сиденьям в шестом ряду. Эмиль лучился в предвкушении показа и с упоением втолковывал что-то Светке, которая ошибочно принимала его синефильский пыл на собственный счет. Люшу по-прежнему слегка мутило. Всю торжественную часть она просидела, глубоко дыша, с полузакрытыми глазами и почти не увидела, как режиссер Сазонов представлял картину вместе с творческой группой. И только когда погас свет и на экране в скрещенных лучах прожекторов возник ленфильмовский Медный всадник, Люша окончательно пришла в себя.
С первых сцен она узнала осетинские пейзажи: речную излучину на дне ущелья, хрупкие домики-скорлупки с окнами в полстены, глиняный тандыр. Люшу охватила мгновенная ностальгия, пускай трагикомический сюжет про учителя, по воле случая попавшего из Ленинграда в захолустье, мало перекликался с ее экспедиционной жизнью. Как, как сумели они с такой бережной, поэтической точностью передать душу того укромного места?
Гипнотическое получилось кино. Цельное, пронзительное. Цветные кадры в нем чередовались с черно-белыми, инструментальная музыка мешалась с гортанным шумом горного потока, блеянием овец и низким монотонным пением. Пока шли титры, зал аплодировал стоя. С первого ряда темным силуэтом на фоне экрана поднялся режиссер и, чуть поклонившись, жестом поблагодарил публику.
– А теперь главное, – сообщила довольная Светка Эмилю, на гладко выбритых щеках которого лоснились влажные дорожки. – Прием! Не всем, между прочим, положен. Только стараниями вашей покорной…
На пьянку действительно пускали лишь избранных, однако и этих было достаточно, чтобы заполонить буфет. Света, поработав локтями, немедленно пробуравилась к бутербродам с икоркой. Эмиль изящно подцепил ломтик слезливого сыра и без видимого удовольствия съел. Зато слабосоленая красная рыба пришлась иностранцу по вкусу.
А Люше, как говорят в таких случаях, кусок в горло не лез. Перед глазами сменялись кадры, но на сей раз не просто знакомые виды, а детали – правдивые, беспощадные, – на которые Люша прежде не обращала внимания. Тоска на лице старого осетина, отдавшего здоровье обогатительной фабрике. Обветшалая сельская школа. Поросшее дикой травой урочище с покосившимся крестом. Скалистые пики, взятые с особого, непривычного ракурса.
Внезапно откуда-то из толпы вынырнула Светка с бокалом.
– Представляешь, Эмиль сам пошел знакомиться с Сазоновым, – зашептала намасленными губами, – он вроде как координатор с какого-то кинофестиваля. – Светка потянула Люшу за локоть. – Давай-давай, интересно же.
Эмиль, бурно жестикулируя, беседовал с высоким плечистым мужчиной. Рядом с ним француз казался совершенным колобком. Заметив Свету, энергично помахал:
– В севолод, позвольте, мои ленинг’адские д’узья – Светлана и… – Эмиль запнулся и сконфуженно посмотрел на Люшу, не совсем понимая, как придать этому странному имени полную форму.
– Галина. – Она протянула руку режиссеру и застыла.
Он тоже замер, всего на миг, а затем пожал ее ладонь.
– Галина… Что ж, очень приятно. Хорошо, что здесь нет макарон, правда? Одни бутерброды, – подмигнул Люше возмужавший Сева.
Сколько лет миновало с того неудачного дежурства, кажется, десять? А какая у них с Севой разница в возрасте? Тоже десять. Студенческая полноватость обернулась для Севы взрослым брюшком, которое, впрочем, ему даже шло. Одет он был, несмотря на премьеру, просто, без галстука, в черную рубашку с вареными джинсами и кожаную куртку. На щеках и подбородке синела вечерняя щетина. Надбровные дуги жесткие, на лбу – две глубокие строгие складки, точно он постоянно хмурится. И уголки карих глаз за очками грустно опущены. Но по бокам – мелкие лукавые морщинки. И улыбается обаятельно, с хитрецой.