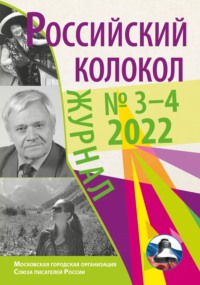Полная версия
Журнал «Юность» №04/2024


Журнал «Юность» № 03/2024
Журнал «Юность» № 03/2024
© С. Красаускас. 1962 г.
Поэзия
Анастасия Маркелова

Писатель, поэт, переводчик с английского и немецкого языков. Заместитель главного редактора Marshmallow Books. Лектор и редактор на курсах литературной школы Band.
Автор детских книг «Поросенок Хрюндель», «Обними меня! Сказка о слоненке и его маме», «Обними меня! Сказка о том, как Обнимашка хотел спасти мир».
Соавтор сборника «Книга любви. Русская поэзия» (2010).
* * *У радости запах имбирного латте в высоком стакане. Рука на руле, свежевыпавший снег, блики фар в темноте. А помнишь, когда мы еще не касались друг друга руками. А помнишь, как души друг другу навстречу рвались в пустоте. У радости запах с тобой обретенного дома. Где в теплых объятьях твоих согреваюсь колючей зимой. А помнишь, когда-то мы были с тобой не знакомы. Ты не торопился ко мне. А я не спешила домой.
Но сердцем я знала. Ночами мне снился твой профиль. Ты ждал меня где-то, по мне тосковал ты. И вот… Рука на руле, а в другой – остывающий кофе. Все стекла в снегу, и до встречи – один поворот.
* * *Тосковать по тебе всеми клетками тела,Замечая, как вяло сменяются дни,Мне уже надоело и осточертело,Что кровят мои раны и сердце саднит.Не желать ничего, кроме встречи с тобою,Не мечтать ни о чем, лишь о ночи вдвоем.Не безумна ли я, называя любовьюЭто пламя, что в сердце бушует моем?Провожать бесполезный медлительный вечер,Выпроваживать мысли, как шумных гостей,Я устала до боли, и, выгорев, свечиТеплым воском накапают мне на постель.Целый мир без тебя вряд ли что-нибудь значит.В запотевшем бокале осадок на дне.Зажигаю я свет, одеваюсь и плачу.И все жду, я все жду, что приедешь ко мне.* * *От гаммы эмоцийЗавертится солнцеИ день захлебнетсяЛучами слепымиКто выдумал имяТвое что отнынеЛюблюЯ стою на краюИ с тобой говорюБудто с умалишеннымТы возьмешь меня в женыТы мне сделаешь жженыйЧерный кофеНаверное правдаНе в этих наградахТы знаешь я радаБыть рядом в молчаньеНемыми ночамиДелиться печальюИ веритьНавек или всластьТвое сердце украстьВ твои руки упастьИ любить тебя громкоНаполняясь до кромкиНежно бережно робкоСильноПроза
Анна Авиталь Баснер

Родилась в 1991 году. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет и Дублинскую бизнес-школу имени М. Смерфита. Пишет прозу, научно-популярные статьи и учебные кейсы. Резидент Переделкина.
Приамовы сережки
Моей маме
С трех лет Люша была твердо убеждена, что все самое интересное находится в земле, будь то сладко пощипывающий язык редис, полупрозрачный фиолетовый камешек или дождевой червяк. Когда Люша сидела в песочнице среди сверстников, лепивших куличи, и усердно черпала ведерком грунт, стороннему наблюдателю сразу бросалась в глаза целенаправленность процесса – словно эта пухлая, зефирной нежности кроха пыталась докопаться по меньшей мере до станции метро «Маяковская», которую в те годы как раз закладывали в Ленинграде.
Мама Люши, Антонина Семеновна Крымова, стройная женщина, носившая пышную укладку бабетта с высоким, залитым лаком начесом, работала администратором в Кировском театре. Своей дочери она дала имя в честь балерины Улановой, сама же потом стала ласково называть Галюшей, а когда теряла терпение – Люшей. Вскоре первый слог за ненадобностью отвалился, и Галюша превратилась просто в Люшу.
При всей непосредственной близости к богеме человеком творческим Антонина Семеновна не была. В то же время театральная должность наложила на нее печать светскости и легкого снобизма. Перво-наперво она научила дочь, в какой руке держат нож, а в какой – вилку, и странно гордилась тем, что Люша любому сладкому предпочитала азербайджанские маслины (их и многие взрослые-то не ели), – видела в этом зачатки будущего тонкого вкуса. А вот тому, что Люша всегда возвращалась с прогулок чумазая, как чертенок, Антонина Семеновна, конечно, не радовалась. Но что поделать – дети.
Когда Люше исполнилось восемь, родители взяли ее в гости за город, на взрослый юбилей. Судя по недовольно поджатым маминым губам, парадным золотым сережкам величиной со спелую черешню и гигантскому букету вонючих лилий, который ехал в электричке по соседству с Люшей, чествовали кого-то из женщин – папиных коллег. Люшин папа Геннадий Вадимович, рослый и бородатый школьный географ, был всеобщим любимцем. По нему сохла половина учительской, а другая половина, постарше, воспринимала как приемного сына.
Праздничный банкет с непременной селедкой под шубой и мутным дрожащим холодцом накрыли на застекленной веранде старой двухэтажной дачи. Отмечали пятидесятилетие Нонны Викторовны Стрельцовой, с чьим гнусавым толкованием всемирной истории Люша еще не сталкивалась, поскольку училась в начальной школе. Именинница жирно мазнула маме по щеке помадой, приняла у Люши букет, ввинтила его в ведро, разворошив охапку мятых роз. Пригласила Крымовых к столу, главным украшением и композиционным центром которого служил величавый, с золотистой корочкой гусь на овальном блюде, обложенный дольками сморщенных яблок.
Вокруг расселись с десяток незнакомых взрослых и трое нарядных, точно конфеты в фантиках, детей. Мальчики были на пару лет помладше Люши (то есть слишком маленькие, чтобы вызвать с ее стороны какой-либо социальный интерес). Дочка Нонны Викторовны, Светочка, училась с Люшей в одном классе. Теоретически все располагало к общению, но Люше не понравился объемистый капроновый бант, смотревшийся на ее голове как дурацкая, набок сползшая шляпа. Взрослые же страшно умилялись и поминутно трепали Свету за красные щеки – не хватало еще с ней за компанию получить щипков.
За окном сеял мелкий летний дождик. Уютно запотели стекла. Люша ерзала на двух томах советской энциклопедии, помещенных на стул, чтобы ей сиделось повыше. Слушала бессчетные тосты, с тоской глядела на склизкие маринованные грибочки, которые мама переложила ей в тарелку из хрустальной розетки, и маялась. Самое вкусное – картошку в аппетитных горелках, пахучий бутерброд со шпротами и, разумеется, маслины – она уже съела.
Взрослые помягчели и зарумянились. Даже у мамы, весь день улыбавшейся так, будто ее сзади тянули за уши, на левой щеке проступила ямочка. Потребовались развлечения. В середине веранды установили табурет, на который друг за другом забирались дети и отбывали увеселительную повинность: кто отделывался песенкой, кто – незатейливым стишком. Светочка шепеляво прочла басню про мартышку и очки – на месте молочного зуба у нее розовела квадратная дырка.
Подошла и Люшина очередь. Она продекламировала с двумя запинками заранее заготовленного Маршака (а сбивалась Люша оттого, что мама все выступление синхронно шевелила губами) и сползла с табуретки. И тут представился шанс: одна из тетенек, широкая и бархатная, вроде придворной жабы, смахнула с напудренной щеки слезинку и томно выдохнула: «За детей». Улучив момент, когда гости звонко чокались, Люша выскользнула с веранды.
Выходить на участок без спроса мама строго-настрого запретила. Это из-за платья – нового, бело-голубого, со сборками, круглым вышитым воротничком и малюсенькими рукавчиками на туговатых резинках, которыми ужасно натирало под мышками. «Только попробуй изгваздать», – сурово предупредила мама еще в городе. Внятной угрозы за этим не последовало, но начавшая стремительно взрослеть Люша уже понимала: неизвестность, как правило, гораздо страшнее любого конкретного наказания.
От нечего делать Люша обследовала коридор. Грустно отметила, что входная дверь, ведущая на запретный участок, отпирается простым поворотом ключа, но соблазн поборола стоически. Наведалась на кухню, где пунцовая сестра хозяйки, сжимая нетвердой рукой консервный нож, вскрывала банку с дефицитными персиками.
Люша поднялась по сиплым ступенькам на второй этаж. Послонялась по небольшим комнатам среди кроватей, диванов и раскладушек, кое-как застеленных, чтобы разместить ночующих гостей. Изучила коллекцию пыльных ракушек на полке, прошлась взглядом по книжным корешкам, тронула струны бокастой гитары, которой, похоже, мало это понравилось. Отважно сунулась в громадный, грозивший проглотить сундук. Никакого пиратского клада, впрочем, внутри не обнаружила – и вообще ничего, кроме затхлой одежки.
С веранды долетали крикливые отголоски. Время от времени звенели бокалы, брякали стопки. Кто-то что-то разбил, захмелевшие тетеньки вразнобой завопили: «На счастье!» Люша уже все осмотрела, но спускаться к столу ей категорически не хотелось. Она устала. Картошка со шпротами согревала живот, клонила своей теплой тяжестью в сон.
Подготовленным для гостей постелям с противно холодным и сыроватым бельем Люша предпочла массивное продавленное кресло у окна. Забралась с ногами, стащила со спинки сквозистую шерстяную шаль, укуталась. Вечерело; из углов комнаты к Люшиным пяткам потянулась темень – не знакомая домашняя темнота, живущая у нее в шкафу и под кроватью, а чужой, тревожный, скрипучий сумрак. Перевесившись через подлокотник, Люша ощупала голенастый торшер, нашла заветную пупочку, включила свет – стало лучше. Угнездилась поглубже в кресле, бочком уперлась в нечто твердое.
В книжку. Точнее, в автобиографию (хотя это слово Люше было пока незнакомо). Зачитанную, не очень толстую, в бурой обложке, на которую неизвестный оформитель поместил горшок с желтыми украшениями. «Золото Трои», Генрих Шлиман. На первой странице – фотопортрет лобастого дядьки с гнутыми книзу усами и таинственным взором, обращенным куда-то за пределы кадра. Как позже поймет Люша, в вечность.
Люша любила читать. Она полистала замусоленный томик, задерживаясь на черно-белых снимках, и у нее вдруг сбилось дыхание. Грубая каменная кладка, горы вывороченной земли, лопаты… А дальше – женщина с симметричным и невозмутимым лицом. Настоящая красавица. От совершенной греческой скульптуры из Эрмитажа ее отличала только маленькая родинка на скуле. И вся в драгоценностях: на груди лежало многорядное ожерелье из тонких цепочек, длинные серьги оттягивали мочки, золотые подвески двумя косами спускались на плечи от широкой, с частой бахромой диадемы. И подпись: «Супруга Генриха Шлимана София в украшениях из клада Приама». Предчувствие не обмануло, это клад! Люша торопливо вернулась в начало и припала к тексту.
Люшина мама обнаружила дочь несколько часов спустя в том же кресле, замотанную в кокон из какой-то ветхой шали. Собралась было пожурить, что Люша против всяких приличий улизнула из-за стола, но, заметив книжку, оттаяла. Чтение в системе ценностей Антонины Семеновны стояло по рангу выше этикета. И все-таки Люше давно уже полагалось спать, а не сидеть, согнувшись крючком, над мелким текстом. Поэтому, несмотря на умоляющее «Пожалуйста, еще чуть-чуть!», от которого щемило сердце, Антонина Семеновна отправила дочку в постель. Чтобы Люша угомонилась, со вздохом пообещала с утра одолжить Шлимана у хозяйки.
Антонина Семеновна и сама страсть как хотела лечь. Голова неприятно прояснялась и побаливала – начинало выветриваться выпитое вино. Разухабистый бабский юбилей чертовски ее утомил. Вот в Комарове, когда были у Петровых, в доме творчества композиторов, – совсем иное дело. И публика интеллигентная, и разговоры другие, интеллектуальные, это вам не вульгарные сплетни учителок о дрязгах в роно, споры о методах засолки огурцов и беспрерывное брюзжание, какова, дескать, пошла молодежь. Генку обхаживают так гаденько: кто лапкой увядшей дотронется невзначай до его руки, кто оливьешки с майонезом в тарелку, да побольше… Старые тетехи, тьфу.
Стараясь не попасться никому на глаза, Антонина Семеновна добралась до умывальника. Возвратилась в комнатку к Люше, которая сопела на широкой кровати мордашкой к стене. Вытащила из ушей округлые серьги, проворными пальцами перебрала распадавшуюся прическу на предмет шпилек. Залезла к дочери под комковатое ватное одеяло. Аккуратно положила голову на подушку, чтобы не замять волос – укладку нужно было сохранить до завтра любой ценой. Немного погодя поднялся наконец и Гена.
Когда Люша проснулась, было темно, лишь фонарь с дороги давал слабый гудящий отсвет. Мама спала, вытянувшись стрункой. Раскатисто храпел папа. Уснуть обратно не представлялось возможным: у Люши возникла идея, которую приспичило воплотить немедля.
Она выкрутилась из жаркой постели. Сунула ноги в сандалии, наступив босыми ногами на колкие пряжки. Нашарила в полумраке платье, помедлила, засомневалась. Напялила вместо него папину сорочку, насквозь пропахшую табаком и приторной смесью духов. Стиснула в потном кулачке мамины драгоценные сережки – дутые шарики в замысловатой золотой оплетке корзинкой. Ясное дело, чтобы считаться взаправдашним кладом, они должны пролежать в земле как минимум ночь. Так она думала, пока кралась вниз по лестнице, замирая и прислушиваясь при каждом скрипе.
Дверь и впрямь открылась легко. Перед Люшей мрачно колыхался мокрый шелестящий сад. Зудели ночные насекомые, их стрекот напоминал нестерпимую щекотку. На мгновение Люшу парализовало. Ее отчаянно потянуло к родителям, назад, под теплое одеяло. Глубоко вздохнув, она ступила с безопасного крыльца в неведомое.
Сандалии мигом отсырели. Соскальзывая со стелек, Люша потопала по дорожке к клумбе, засаженной еле различимыми мглистыми цветами. Бухнулась на коленки, подмяв отцовскую рубашку, поспешно разрыла среди сизых стеблей влажную ямку. Положила туда сережки, накидала земли. Огляделась в поисках какой-нибудь веточки или камня – обозначить место, – но таковых в темноте не сыскалось. Люша постаралась запомнить приметы: размытый изгиб тропинки, два сумрачных куста.
Задуманное было исполнено. Люша юркнула обратно в дом. Разделась и легла, тесно прижалась к маме, так и не поменявшей позы. Чрезвычайно довольная вылазкой, уткнулась головой в подушку и быстро заснула, представляя смелого археолога Генриха своим мужем, а себя – его прекрасной античной женой в многорядных золотых украшениях…
Само собой, наутро сережек она не нашла – забыла, где именно закопала. Удивительно: при свете дня сад показался Люше совсем другим, цветным и четким, каким-то ненастоящим, точно вырезанным из бумаги. Зыбкие ночные ориентиры исчезли. Ох и влетело же ей тогда – и за сережки, и за отцовскую рубашку, неминуемо испачканную. Которая, собственно, Люшу и выдала. Но все это было абсолютно неважно: вместе с заслуженной взбучкой мама вручила ей книгу, перепавшую от щедрот великодушной с большого бодуна Нонны Викторовны.
– Насовсем? – тихонько уточнила обалдевшая Люша, прижимая к груди потрепанного Шлимана. Мама сухо кивнула. Ей было тошно от мысли, что однажды, вскапывая кверху задом свои чахлые клумбы, Нонна Викторовна непременно наткнется на серьги – и, конечно, оставит себе. Наверное, стоило попридержать у себя книжку. Даже, может, соврать Люше, мол, не дали. Так сказать, в воспитательных целях.
Но тяга дочери к чтению по-прежнему обладала в глазах Антонины Семеновны особой ценностью – высокой, гораздо более высокой, чем у любимых, подаренных мужем сережек.
* * *Археолог-самоучка Шлиман так и остался Люшиной первой любовью. Чем пленил ее этот путешественник, полиглот и торговец? Неутолимой жаждой знаний, тягой к авантюрам, а может, чистой и по-детски наивной верой в поэмы аэда Гомера, которые подсказали ему местонахождение загадочной Трои… Пожалуй, всем понемногу.
Правда, когда выяснилось, что советские археологи шлимановскими мифологическими тропами не ходят, в Грецию не ездят, а работают в основном в Крыму или на Кавказе, разгоревшийся в Люше огонь несколько пригас. Ровно до тех пор, пока к ним в пятый класс не перевели новенькую Веру Стерх.
Молчаливая Вера с ее куцей чернявой стрижкой, выпяченным подбородком и долговязой фигурой была тут же признана девчонками какой-то странной. Коричневое школьное платье, симпатичное само по себе, совершенно на ней не сидело. Особенно бросались в глаза непомерно короткие рукава, из которых высовывались тяжелые ладони со старательно, но неуклюже подпиленными ногтями на длинных пальцах.
Однажды, на следующий день после первого в том году родительского собрания, востроносая Светка Стрельцова, ставшая главной сплетницей класса, явилась в школу в состоянии крайнего возбуждения. Вид имела торжественный и многозначительный.
– Люш, а ты знала, что Верин папа колдун? – шепнула на уроке истории, теребя вылезшую из растрепанной русой косицы белую ленту.
Люша нахмурилась. В колдунов она не больно-то верила. Хотя, признаться, почувствовала пробежавшую по позвоночнику ледяную мурашку. Всего одну.
– С чего ты взяла?
– Мама сказала папе, у него вся квартира в черепах! Человеческих! – Взбудораженную Светку аж потряхивало, в уголке маленького рта поблескивал перламутровый пузырек слюны. – А Вера его падчерица, он ее держит при себе, как прислугу. Говорю тебе!
– Да ну тебя с твоими сказками, – буркнула Люша, силясь услышать, что именно гундосит у доски Нонна Викторовна про границы грекомакедонских государств.
Обиженная Стрельцова уткнулась в тетрадку. Жгучий темный секрет, распиравший со вчерашнего вечера, был израсходован зря – угас, словно бенгальский огонь, который неловко уронили в сугроб.
Благодарные слушатели у говорливой Светки все же нашлись. К концу дня новость облетела весь класс и обросла совсем уж фантастическими деталями (например, о ведовских обрядах с детскими костями, которые зловещий Стерх проводил перед сном). На Веру, обреченную из-за роста вечно торчать на камчатке, то и дело косились – одни с опаской, другие сочувственно, – но знакомиться поближе и проверять интригующие сведения, естественно, не желали.
Сказать по правде, Люша тоже не переставала думать о Верином отце. Вовсе он не колдун – в этом она практически не сомневалась… Но, может быть, с трепетом размышляла Люша, он археолог? Она уже знала, что ученые раскапывают древние могилы не золота ради, а чтобы найти интересные вещи и человеческие останки. Ну откуда еще, скажите на милость, у Стерха было взяться черепам? Ее собственный папа в ответ на расспросы только плечами пожал и, ухмыльнувшись в усы, дал совет подружиться с Верой.
Люша прислушалась. Усаживалась к Вере за парту, предлагала скрепя сердце свою сосиску в столовой, вставала в пару на физкультуре – в общем, брала измором. Вера на сближение поначалу не шла. Поглядывала исподлобья, на уроках не болтала, от сосиски, к досаде и радости Люши, вежливо отказывалась. Вероятно, ждала подвоха.
Не терпящая поражений Люша сменила тактику – стала наблюдать. На переменах Вера постоянно играла сама с собой в непонятную игру. Выписывала на тетрадном листочке циферки, по том в неизвестном порядке зачеркивала. Люша гадала-гадала, пробовала и так и этак, однако общего принципа не вывела. Лишь частности: что числа идут от одного до девятнадцати, а вычеркивать надо те пары, которые в сумме образуют десять. Тогда она села в очередной раз рядом с Верой, достала тетрадку и принялась играть как умела.
– Неправильно, – не выдержала Вера. – Пары должны находиться вместе или через зачеркнутые цифры, как здесь и здесь. А в конце надо заново переписать оставшиеся числа…
Так и сдружились. Единственное, чего Люше не удалось, – это добиться взаимной симпатии между Верой и Светой. Аккуратистка Вера на дух не переносила расхлябанную, всегда не на те пуговицы застегнутую Светку. Стрельцова же, привыкшая в одностороннем порядке считать Люшу лучшей подружкой, называла Веру занудой, жутко ревновала и норовила встрять в каждый Люшин с Верой разговор.
Новая подруга действительно отличалась щепетильностью и почти болезненной опрятностью: крошечное чернильное пятнышко на кружевной манжетке доводило обыкновенно флегматичную, глухую к насмешкам Веру до сердитых слез. Дом она тоже содержала в чистоте. Люша обомлела, напросившись к Стерхам в гости, когда из липкого и загаженного коммунального коридора попала в идеально чистую комнату. Жадно заозиралась – две разделенные платяным шкафом кровати, степенные напольные часы, на окнах светлые венские шторы в мелкую полукруглую складку, напомнившие Люше спущенные чулочки.
Ни Стерха, ни черепов.
– А где твой папа? – разочарованно спросила Люша.
Вера поставила портфель на стул, стянула крапчатое от мокрого мартовского снега драповое пальтишко и повесила на рогатую вешалку.
– В кабинете работает. А тут у нас общая комната.
– Над чем работает? – не сдавалась Люша.
– Он ученый, пишет про древних людей, – отмахнулась Вера, сочтя объяснение достаточным, – возьми тапки, поможешь мне с обедом.
На кухне, больше похожей на общественную уборную из-за немытых кафельных стен и обилия засаленных тряпок, Вера вытащила из холодильника внушительную эмалированную кастрюлю с алыми маками на боках. Взгромоздила на плиту, где уже кипятилось чье-то белье, наполняя помещение горячим хлорным паром. Ловко, с одной спички, включила газ. Мотнула головой на шкафчик: «Доставай три плошки», сама порезала хлеб. Разлила половником куриный суп с вермишелью. Две плошки загрузила на поднос, вручила его Люше. В третью запустила ложку и, прихватив посудину полотенцем, понесла в ладонях.
Не дойдя до общей комнаты, Вера постучала мыском тапки в облезлую дверь. Щелкнул замок – и на пороге возник длинный носатый мужчина в квадратном твидовом пиджаке, свеженаглаженных брюках и большущих стариковских очках. Стерх. Вера шмыгнула в кабинет. Люша вытянула шею – хоть бы одним глазком увидеть черепа, но Стерх скользнул по ней незаинтересованным взглядом, что-то бормотнул и захлопнул дверь. Люша так и осталась стоять, как дурочка, с подносом в коридоре, пока не вернулась Вера и не впустила в соседнюю комнату.
Суп был замечательный – ароматный, маслянистый, с тертой морковью. Правда, немного, самую чуточку, отдавал хлоркой.
– Вкусно. Моя мама тоже такой делает, – заметила Люша, дуя в ложку, и осеклась. Наверное, она допустила бестактность?
Но Вера нисколько не расстроилась. Наоборот, улыбнулась, и от этой мягкой улыбки вдруг стала неожиданно взрослой.
– Секрет в том, чтобы сперва зажарку сделать из лука с морковкой, – объяснила она.
Деликатно пристроила ложку на край посудинки, сняла с полки увесистую поваренную книгу. Принялась тыкать пальцем в рецепты и смаковать всяческие кулинарные подробности, мало занимавшие Люшу.
Готовка в Люшином сознании накрепко связывалась с оседлостью и бытом, а значит, была занятием не то чтобы недостойным, но для великих путешественников явно бесполезным. Люша слушала Веру вполуха, ее, понятное дело, сейчас волновал исключительно кабинет. И ей несказанно повезло. Когда Вера прошествовала на кухню с опустевшими плошками, Люша выглянула в коридор и заметила, что вожделенная дверь слегка приоткрыта.
Сунула нос в щель – никого. По центру кабинета стоял исполинский письменный стол. Вытертое, местами прожженное сукно зеленело из-под вороха бумаг, испещренных какими-то чертежиками. Отсвечивала хрустальными гранями переполненная пепельница с латунным ободком. По периметру комнаты – книжные шкафы с прозрачными дверцами. Люша подошла к одному, поднялась на цыпочки. В стеклах отражались, мешая смотреть, тусклые блики настольной лампы.
Люша прищурилась, покрутила головой и углядела среди трухлявых томов потусторонний костяной оскал. Отступила и зачарованно ахнула – тут и там щерились потрескавшиеся желтоватые черепа: большие и малые, с нижней челюстью и без… А на полке ниже, к вящему изумлению Люши, лежали, лоснясь атласом, нежные, пусть и стесанные на носках балетные пуанты, изысканный флакончик духов и письма, несколько перехваченных лентами пачек…
– Кто тебе разрешил это смотреть, девочка? – раздался высокий, недовольный голос.
У Люши запылали щеки. Онемев от смущения, она повернулась к хозяину кабинета. Из коридора шершаво повеяло запахом кофе. Стерх навис над ней, раздувая ноздри огромного горбатого носа. Сжимал крупными плоскими пальцами кожаную папку – глядишь, сейчас прихлопнет, как глупую осу. В очках Люша увидела свое испуганное отражение поверх его увеличенных, с кровянистыми прожилками, глаз. Она пролепетала извинения и опрометью выскочила в коридор, где на нее сердито зашипела Вера.
Стерх положил папку на стол. Растерянно провел пятерней по волосам, жалко зачесанным назад, чтобы скрыть недавно обнаруженную пролысинку. Вытянул из кармана носовой платок и стер со стекла следы маленьких пальчиков. Надо будет еще раз сказать Вере, чтобы не пускала сюда подружек. Слишком уж опасался Стерх, страстный театрал, безнадежно и безответно влюбленный во всех московских и некоторых ленинградских прим, за свою скромную коллекцию. Ну какой девочке не захочется поиграть с этими манящими штучками? Балерины… Изящные, легконогие, сладчайшие из созданий…