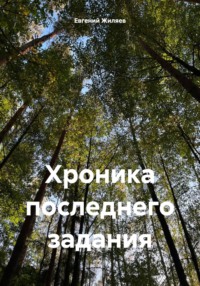полная версия
полная версияНить Лекаря
Это он как-то неприметно увлёк меня изучением болезней сердца. Этот обширный раздел медицины стал предметом моих исследований на всю оставшуюся жизнь. Я ознакомился со всей научной литературой по данной тематике. С рвением молодого учёного штудировал всё, что попадалось мне на глаза. Меня настолько поглотила моя деятельность, что я по-настоящему растворился в ней; а по ночам, во сне, близко-близко, словно в большое увеличительное стекло, рассматривал в мельчайших деталях бьющееся сердце. Зрелище пульсирующего органа настолько завораживало меня и затягивало, отчего просыпался всегда, точно находясь в капсуле, коим и являлся неутомимый «мотор». Дело дошло даже до того, что, идя по улице и встречая постороннего мне человека, я начинал «слышать» его сердечный ритм, определяя сбои, ставя диагноз. Подобная диагностика сопровождалось сильным болезненным ощущением, мелкой тряской тела, повышением давления и головной болью. Моя сверхчувствительность чуть не довела меня до исступления. Благо Иван Сергеевич вовремя заметил творившиеся со мной безобразия. Его своевременное вмешательство спасло меня от сползания в пропасть и, может быть, от дома для душевнобольных. Куда я тоже заглядывал для получения материала.
Профессору пришлось повозиться со своим учеником, то есть со мной. Он выразил крайнюю степень неудовольствия выбранными подходами и методами исследования. Его начальная фраза: «Вы, батенька, …», дальше содержала полную мою характеристику в крепких словцах, которые никогда прежде и после не слышал от привычно спокойного Ивана Сергеевича. Монолог моего учителя навсегда запечатлелся в моей памяти, став тем предохранительным клапаном, который не позволял мне больше сползать в бессвязное, бесформенное существование, как в тумане, как в бреду. После восстановления моего физического и психического здоровья профессор всерьёз и надолго занялся формированием моего научного склада характера, делая упор на контроле за мыслями и чувствами, уча постоянно искать и находить ту золотую середину во всём, что обеспечивает устойчивое, главное без срывов, восприятие окружающего мира. В этом он добился со мной значительных успехов. С тех пор мой разум ещё не единожды подвергался серьёзным испытаниям, стрессам, каждый раз выдерживая колоссальные нагрузки, оставаясь чистым и незамутнённым. Именно Ивану Сергеевичу, его наставничеству я многим обязан в своей жизни. Помню каждое его слово, сказанное на мой счёт: «Фридрих Карлович, голубчик, у вас редкий божий дар. Вы проникли в ту сферу познания, которая мне, к сожалению, не доступна. Вы ушли вперёд. Единственное, чем я могу вам помочь, так это только советом, опытом старого человека. Такой талант, как ваш, даётся чистым душам, чьё призвание служить людям. Но он же накладывает и высокую ответственность. Кому много дано, с того много и спросится.
А знания следует постигать поэтапно, дозированно. Вы врач, и прекрасно знаете, в больших дозах всё вредно. Свой талант тратьте с умом и рачительностью. Только так вы сможете принести наибольшую пользу людям. И последнее, ваш дар подобен скрипке Страдивари. Вам предстоит научиться на ней играть виртуозно, неподражаемо, но, упаси вас бог, порвать струны, замены им не будет. Без инструмента вы превратитесь в обыкновенного скучного обывателя, вместо неординарности – заурядность. А это уже трагедия. Вы просто обязаны стать мастером, в совершенстве владеющим своим даром».
***
…Да, уже двадцать минут одиннадцатого. Торопливая суета в N-ской городской больнице…
Война застала меня здесь в должности главврача. Срок моей длительной командировки подходил к концу, когда Германия вероломно напала на Советский Союз. Неиссякаемый поток раненых, поступающих с передовой, поставил крест на моём возвращении домой в Москву. Операции, операции, операции…Боль, крики, стоны, мольба пропитали все стены теперь уже военного госпиталя. Грязные машины привозили всё новых и новых пациентов. Уставшие нянечки, медсёстры начали свой великий бессонный подвиг.
Совсем недавно больница представляла собой тихое спокойное место. За время моего пребывания в ней я успел ознакомиться с «каждым местным кирпичиком», каждым укромным уголочком ухоженного большого парка со скамеечками для больных, на которых они сидели поодиночке или небольшими компаниями. Тихо разговаривали, что-то обсуждали. Теперь этого больше нет. Везде унылость, страдание и смерть.
Шло тяжёлое лето сорок первого. К началу июля стало окончательно ясно, что показываемая в кинохрониках непобедимость красной армии почему-то дала сбой. И теперь отступала, ведя за собой вглубь родной земли беспощадного врага.
Мучительно было осознавать всё происходящее – масштабную катастрофу, панику, неиссякаемый поток беженцев. Огромная страна только отходила от шока внезапного нападения и пыталась организованно дать отпор, перестроиться на военный лад. Всё кругом подстёгивало куда-то идти и что-то делать, в хаосе, неразберихе, суматохе.
С горестью смотрели, как рушилось с таким огромным трудом заново отстроенное после гражданской войны народное хозяйство под снарядами и авиабомбами, уничтожалось гусеницами танков и сапогами солдат. С болью люди прощались с мирной жизнью, покидали родные места. А враг посыпал их с неба смертоносными «подарками» и листовками.
Чёрные лица от горя и пыли, неизвестность – вот то, что видел наш город в бесконечном потоке беженцев, идущих на восток, спасающихся от гибели и нежелания оказаться под гнётом чужой власти.
Я же остаюсь…Остаюсь по просьбе Безбородова Тимофея Петровича, комиссара государственной безопасности. Наш разговор с ним тогда был не очень длинным, и состоялся он на конспиративной квартире, куда меня доставили под предлогом осмотра тяжелобольного.
– Мы скоро уйдём из города – устало говорил Тимофей Петрович – и, возможно, надолго, но обязательно вернёмся. За это я вам ручаюсь. Я знаю, что вам предписано эвакуироваться вместе со всеми, и в связи с этим у меня к вам будет не личная просьба. Прошу вас не уезжать. Вы нужны нам здесь, очень нужны.
– Позвольте, Тимофей Петрович, что же вы предлагаете мне здесь делать? Я хирург и моя помощь нужна там, на фронте.
– Я сейчас вам всё объясню, Фридрих Карлович. Мы с вами давно знакомы и уж не знаю, как назвать факт неожиданной встречи здесь, но это не случайность. Вы знаете меня. Не раз имели возможность оценить мои качества. Однажды вы мне сказали про мою интуицию, что она у меня феноменальная. Помните?
– Как же, как же. Тогда она спасла нас от верной гибели. Тогда много было разговоров о вашем чутье.
Действительно, речь шла о событиях в двадцатые годы в Туркестане, куда был направлен молодой чекист Безбородов Тимофей. В то время я находился там в командировке. Басмачи, поддерживаемые Англией, старались не допустить утверждения Советской власти и лютовали, особенно охотились они за красными командирами и комсомольскими активистами. Мне нередко приходилось сопровождать обозы с тяжелоранеными, которых укрывали и переправляли в более безопасные места. Чекист Безбородов, возглавлявший нашу охрану, каждый раз доводил нас до нужных населённых пунктов без потерь и особых приключений. Он по только ему ведомым знакам, приметам, умудрялся обходить хитрые ловушки басмачей, охотившихся за нами. Каким-то просто невероятным наитием обладал Тимофей, ходивший всю жизнь точно по лезвию бритвы.
– Прошу вас довериться мне и на сей раз, Фридрих Карлович. Нам крайне важно знать, что здесь будет происходить, так сказать изнутри, каким людям можно будет доверять. Вы умеете располагать к себе. Вы тонкий психолог и проницательный человек. Вас сложно ввести в заблуждение и обмануть. Кроме того, вы не только врач «с именем», профессор, но и, что самое ценное для нас сейчас, вы – немец. А значит, общие национальные корни позволят вам легко найти общий язык с нашими врагами. По возможности устанавливайте контакты с офицерами, врачами, в общем, со всеми теми, кто непременно станет обращаться к вам за помощью. Ваш опыт, жизненная мудрость, возраст как нельзя лучше подходят для этой роли.
– Тимофей Петрович, вы предлагаете мне в преклонных годах стать шпионом. Не кажется ли вам, что это не очень рациональное использование моих возможностей.
– Я всё понимаю, Фридрих Карлович. Но вы войдите в моё положение – такую подходящую кандидатуру, как ваша, трудно найти. Вы, поверьте моему опыту и интуиции, не вызовете никаких подозрений даже при тщательной проверке вас со стороны СС. Вы всю жизнь только и делали, что лечили людей, хорошо лечили. Вы были вне политики, вы ни в чём не замешены. И потом, как можно бросить жителей без хорошей врачебной помощи?! – закончил свою мысль комиссар.
– Когда вам нужен мой ответ?
– Сейчас! У нас нет времени.
Мне совсем не нравилась эта затея. В ней было что-то жуткое, отталкивающее. Одно дело оперировать раненых, находясь среди своих, другое дело выполнять свои обязанности «под пятой» захватчиков, да ещё обременённым таким непростым заданием. Я прекрасно понимал в какую игру втягивает меня Безбородов, в мир предателей, провокаторов, ловушек. Смогу ли я быть так полезен, как обо мне думает комиссар? Но чашу весов в сторону принятия предложения перевесили слова о необходимости помогать тем, кто остаётся здесь.
Я посмотрел на своего собеседника. Чтобы не мешать мне он отошёл к окну, закурил и смотрел задумчиво на улицу. Сигаретный дым уходил в форточку. Глядя ему в спину, поймал себя на мысли, что жизненный путь комиссара подходит к концу. Я никогда не мог чётко объяснить себе откуда мне было такое известно, просто знал. Конечно, идёт война. В двадцатые годы тоже была война, и тогда он выжил. А теперь…
Не единожды Безбородов спасал мою жизнь там, в Туркестане, рискуя своей. Я не мог ему отказать. Не имел права. Что-то другое, неосознанное, смутное, также толкало сделать этот шаг. Противиться возникшему настойчивому чувству не стал.
Alea jacta est1…
– Хорошо, Тимофей Петрович, вы можете мною располагать, – после продолжительной паузы ответил я.
– Что же, признаюсь вам, другого ответа я и не ждал от вас, Фридрих Карлович.
Безбородов провёл со мной обстоятельный инструктаж по поводу того, как и что говорить в разных случаях, как вести себя, к чему быть готовым. «Не доверяйте никому до конца! Это вопрос жизни и смерти для вас, Фридрих Карлович. Проверяйте и перепроверяйте людей. В общем, я верю в ваш опыт и благоразумие, профессор» – говорил комиссар. После мы обсудили детали связи со мной и на том наши пути разошлись. Он очень спешил.
С тяжёлым сердцем я стал встречать надвигавшуюся с запада грозу. Окончательно в прошлое ушло мирное спокойное время. Рубикон пройден.
Вдали грохотали пушки. Дымы пожаров, разрывы снарядов уже докатывались до нас. Гарь и смрад доходили до города.
Придя домой, после разговора с комиссаром, у меня состоялась беседа с женой.
– Юля, – начал я неторопливо, – я никуда отсюда не уезжаю. Мне надо остаться здесь. Прошу, не спрашивай причины. Они веские. Тебя же хочу попросить уехать.
– Фридрих, мы с тобой прожили долгую жизнь. У меня никого нет роднее и ближе тебя. После сына я не хочу потерять еще и тебя. Неужели ты думаешь, что я смогу оставить тебя одного в этом аду?
Она умолкла и посмотрела мне в глаза. В них я мог прочитать всё: и горечь утраты, и тревогу за меня, но, главное, твёрдость принятого решения. Настаивать на своём было бессмысленно. Мы помолчали несколько минут, а потом жена улыбнулась и сказала: «Помнишь, мы поклялись друг другу не разлучаться, разве забыл»?
– Помню!
– Тогда решено, я тоже остаюсь, что бы ни случилось дальше!
– Хорошо.
Как ни странно, но у меня отлегло от сердца, стало легче дышать. Присутствие жены меня всегда успокаивало. Без неё я словно начинал «прихрамывать», терял часть себя.
После разговора с Юлей пришло ясное понимание того, что ей необходимо остаться. Уже не единожды именно вместе мы преодолевали все испытания, выпадавшие на нашу долю.
***
Август… Стихла канонада. Наступила непривычная тишина, и только здесь, в больнице, продолжалось броуновское движение. Слава Богу, всех раненных красноармейцев удалось эвакуировать, остались лишь гражданские тяжелобольные. Каких усилий в этом хаосе поспешного отступления стоило организовать подводы и транспортировку до станции тех, кого ни в коем случае нельзя было оставлять. Теперь все мои мысли занимали «подопечные» в палатах. За них я серьёзно волновался, будучи наслышанным о тех зверствах, которые чинили воодушевлённые лёгкими победами немецкие войска. Для меня, человека уже немолодого, пережившего революцию и смутное время, было страшным и непонятным такие преступления против мирного населения. Это какое–то чудовищное дикое погружение в средневековье. И дело не в том, что я представитель самой гуманной профессии. Нет, ни в коем случае. Во мне сейчас говорил исключительно здравый смысл, который отказывался верить в творимое безобразие здесь. Падение человека, целой нации, которая точно взбесилась, отбросила нравственность, справедливость, поправ все добродетели, доставшиеся исторически высокой ценой и невообразимым количеством жертв, шокировало.
С гуманной точки зрения нельзя объяснить столь уничижительное отношение одного народа к другому, обладающего богатейшей культурой, великими научными открытиями, гражданскими достижениями. Бредовые идеи о превосходстве ещё никого не сделали счастливым, но несли только смерть и разрушение. Похоже, человечество снова страдает амнезией, предпочитая наступать на одни и те же грабли и набивать новые шишки, ещё более болезненные.
Я нисколько не сомневался, что и эта война, только набирающая обороты, когда-нибудь закончится. И урок для всех опять будет с одним результатом –восток зло остановит. Я верил в свою страну, в свой народ!
А сейчас я готовился встречать непрошеных гостей. Время неумолимо летело, унося с собой последние остатки прошлой жизни, оставляя только надежду. И вот во дворе больницы, уютной, закрытой со всех сторон рослыми крупными деревьями, послышался гул мотоциклов, машин.
Затопали гулко по коридорам маршевые сапоги, послышались резкие команды, автоматные очереди, крики, ругань. Я поспешил выйти на шум, внутренне приготовившись собственными глазами увидеть всё то, о чём рассказывали многочисленные беженцы. Открывшаяся варварская картина возмутила меня до глубины души, но чёрствости не было никакого дела до моих личных переживаний. Солдаты под командные выкрики офицеров выталкивали больных из палат в общий коридор, как выгоняют скот из загона, пинками, прикладами, без сочувствия к еле ходившим людям. Вслед им летели вещи, падавшие тут же на пол, их месили, поддавали, рвали. Всё переворачивалось «вверх дном». Творилась вакханалия безнравственности и безнаказанности. Всех, кто противился произволу, с грубой силой уводили вниз.
Ещё с детства я не выносил проявления любой формы насилия, считая, уже в более зрелом возрасте, это постыдным, противоречащим самой сути человеческой природы. А мой учитель, Платов Иван Сергеевич, окончательно помог мне сформировать мои нравственные ценности, придав им законченный вид. Они стали определять моё мировоззрение. Причём краеугольным камнем всего «здания» выступало человеколюбие. Я всегда старался следовать своим принципам, ибо видел в них ту нравственную основу, которая придаёт смысл моему существованию.
Поэтому протест против жестокого обращения с немощными, слабыми людьми был с моей стороны бурным, эмоциональным. Вылился он не только в словесной форме-попытке образумить солдат, что, конечно, ни к чему не привело, но действиями. Я преградил путь на следующий этаж больницы. Это подействовало! Здесь, то ли решимость и непреклонность всей моей фигуры в белом халате, сыграли решающую роль, то ли внезапное появление старшего офицера, стремительно подошедшего ко мне и вежливо попросившего следовать за ним, то ли всё вкупе, но погром остановился. Возникла пауза, тишина, в результате которой обескураженный персонал и ошалелые больные немного пришли в себя.
Мы прошли в пустующий кабинет. Офицер закрыл за нами дверь, поднял стул и попросил меня присесть, сам же он занял свободный, стоящий перед окном. Таким образом, я оказался в свете с головы до ног, как на допросе, только в мягкой форме.
– Извините, господин доктор, за наше вторжение – неожиданно вежливо начал свою речь мой собеседник – Я всего лишь выполняю приказ! Это здание должно быть освобождено под наших доблестных воинов, проливающих кровь за Великую Германию к 17-00. И мне не надо вам объяснять, что противиться в данном случае неуместно, бессмысленно, даже опасно. Кроме того, в мои обязанности входит также выявление среди ваших пациентов скрывающихся военнослужащих красной армии.
– Здесь их нет – попытался заверить я офицера.
– Возможно! Однако, я обязан проверить всё надлежащим образом. И ещё, меня уведомили о вашей персоне, поэтому прошу вас спокойно отнестись к моим полномочиям и не мешать мне. Ко мне вопросы есть, господин доктор?
– Простите, господин офицер…
– Шнайдер.
– Хорошо, господин Шнайдер, скажите, что означает «уведомили о моей персоне», как это позволите понимать?
– Пожалуйста! Распоряжение относительно вас лично дал полковник СС Отто фон Шварц. Также вы получите возможность организовать медицинский пункт. Для этого вам надлежит в ближайшее время явиться к бургомистру. Остальное меня не касается. Извините, у меня нет больше времени. До свидания, господин доктор.
Шнайдер по-военному встал, прошёл к двери и открыл её передо мной, приглашая выйти. Весь наш разговор проходил на немецком языке. Когда мы оказались в коридоре, все мои коллеги с недоумением смотрели на меня. Они не могли слышать ни одного слова из нашей беседы, но сам факт диалога с главврачом при закрытых дверях и услужливости обращения со стороны врага вызывало удивление, настороженность, подозрительность. Но сейчас их реакция меня нисколько не интересовала, главное – появилась возможность делать своё дело – помогать! Это было самым важным. «Долг превыше всего!» – как-то без пафоса всплыло это изречение.
***
Время шло… На оккупированной немцами территории были установлены новые порядки. Естественно, я их не одобрял. Но они, как лакмусовая бумажка, вскрывали истинную суть людей, оказавшихся в непривычных для себя условиях существования. В одних проявилась трусость, подлость, которые в мирное время не были заметны или хорошо маскировались, в других, в ком трудно было такое заподозрить – смелость и отвага. Но, вообще, несмотря на гнёт, русские люди стойко переносили все тяготы, выпавшие на их плечи. Отчего у меня на душе всегда неугасимо жила надежда на светлое будущее. Да и как могло быть иначе, если в мире «нового порядка», мглистого, липкого, безжизненного по своей насильственной природе, душившего человечность, горели ярким огнём дружба, взаимопомощь, любовь, поддержка ценой собственной жизни. Я гордился своим народом и как мог поддерживал тех, кто обращался ко мне за помощью.
Расчёт Безбородова оказался верным. Установившаяся власть препятствий мне не чинила, давая возможность вести врачебную практику. Уже в сентябре ко мне стали захаживать немецкие коллеги за консультациями по профессиональным вопросам. Merito fortunae2 одним из первых моих знакомых стал Вальтер Гроссман. Человек неординарный, с большими энциклопедическими знаниями. Его отличительной чертой был порядок во всём, требовательность и бескомпромиссность. Именно он, сам того не ведая, сыграл немаловажную роль в моей судьбе. Нашей с ним встрече способствовала неистребимая тяга к дискуссиям, конференциям, поиску оппонентов и сторонников своих научных воззрений.
Я как-то заглянул в аптеку, мне требовалось купить кое-какие лекарства, и там встретил Шнайдера, того самого офицера, который освобождал больницу под немецких раненых. Он стоял у кассы спиной. Расплатившись, повернулся со свёртком в руке к выходу и увидел меня.
– Здравствуйте, господин доктор. Рад видеть вас в полном здравии – сказано всё было довольно дружелюбно
– Добрый день, господин Шнайдер.
– О, вы запомнили мою фамилию!
– Вы были любезны в ту нашу встречу.
– Я всего лишь выполнял приказ. А теперь прошу извинить меня, я очень спешу. До свидания, господин доктор.
– До свидания.
Офицер быстро вышел и сел за руль машины, стоящей у входа. Она тронулась и вскоре остановилась. Из задней двери вышел сухой подтянутый человек в гражданской одежде и направился в аптеку. Я рассматривал полки с лекарствами, когда услышал свою фамилию.
– Доктор Шульц?
Я повернулся и увидел перед собой человека лет сорока пяти, в круглых очках, с проницательным умным взглядом.
– Вы профессор Фридрих Шульц? – уточнил свой вопрос неизвестный.
– Да, это я.
– Честно говоря, не ожидал вас увидеть здесь. Но, позвольте представиться, Вальтер Гроссман, начальник военного госпиталя. Не будете ли вы столь любезны навестить меня в этот четверг. Я буду свободен после семнадцати. К сожалению, сейчас очень занят – затем он достал блокнот и что-то в нём быстро написал, вырвал листок и протянул его мне – Вот, возьмите, по данному адресу вы найдёте меня в условленное время. Если у вас не получится, дайте знать, и мы перенесём нашу встречу. Извините, пора. Дела…
И Гроссман вышел быстрым шагом, направившись к ожидавшему его автомобилю.
Я стоял и держал в руках записку. Потом прочитал её, сложил и положил в карман пиджака.
– Вы выбрали что-нибудь, доктор Шульц? – услышал я голос аптекаря, вырвавшего меня из задумчивости.
– Да, вот список, пожалуйста, соберите всё по нему.
– Конечно, сию минуту.
В аптеку, до того пустую, вошли ещё несколько посетителей. Меня рассчитали. Выйдя на улицу, направился к своим пациентам. По дороге я размышлял о превратности судьбы. Появление Гроссмана было неожиданным и сулило неоспоримые выгоды, если правильно «разыграть карты». Поэтому отказываться от приглашения не стоило, следовало, наоборот, сделать всё возможное и навестить начальника военного госпиталя. Я так и поступил. Через два дня, придя по указанному адресу, застал Гроссмана дома. Тот был явно рад моему приходу, провёл меня в свой кабинет и предложил «на выбор» выпить.
– Коньяк, если можно – ответил я.
– Хороший выбор! Пожалуй, присоединюсь к вам – одобрил хозяин и стал наливать его из бутылки в бокалы из толстого прозрачного стекла на короткой ножке.
– Возьмите, господин Шульц – и с этими словами Гроссман протянул мне один из бокалов.
– Благодарю вас.
– Я верю в случай. Он часто вносит свежую струю, так сказать, новую кровь в нашу повседневность, и всё становится ярче. Вы согласны?
– Несомненно, вы правы.
– Взять, например, меня. Я здесь начал закисать, несмотря на загруженность в госпитале. В последнее время к нам с востока раненых отправляют уже эшелонами. И вот удача, обычная рутинная поездка принесла встречу с вами. Не зайди капитан в аптеку, не расскажи он мне о вас, всё могло сложиться иначе. Случайности, случайности. Они правят нашей жизнью.
– Вы философ, господин Гроссман.
– А вы, разве нет? – начальник госпиталя улыбался, – в нашей профессии без неё нельзя. На всё надо смотреть трезво и практично.
– Случай вы тоже ставите на службу практичности?
– Обязательно – и Гроссман рассмеялся, – с одной стороны, мне не хватает катастрофически врачей, но я не рассматриваю вас в качестве кандидата на работу в лазаретах, хотя от помощи бы не отказался. Меня интересует другое. Я знаком с вашими некоторыми трудами в области сердечно-сосудистых заболеваний. Мне они показались очень ценными. Дело в том, что я сейчас наблюдаю одну женщину. Она беременна, на двадцать третьей неделе. Я диагностировал у неё порок сердца. Это как раз ваша, уважаемый господин Шульц, научная сфера интересов.
– Продолжайте…
– Так вот…
Зазвонил телефон.
– Извините, я сейчас.
– Не беспокойтесь.
Гроссман вышел в соседнюю комнату. Я слышал, как он разговаривал: «Да, да! Высылайте машину. Буду готов. Без меня ничего не предпринимайте. Слышите меня? Ничего!»
Вернулся начальник госпиталя немного возбуждённым. Но быстро взял себя в руки.
– Извините, господин Шульц, меня срочно вызывают. Сейчас прибудет машина. Если нам по пути, я смогу отвезти вас домой.
– Не беспокойтесь. Я доеду до дома самостоятельно.
– У меня к вам будет одна просьба. Случай с моей пациенткой действительно сложный. Когда мне понадобится помощь, могу я рассчитывать на вас?
– Конечно, вы можете располагать мною.
– Благодарю вас.
Только Вальтер Гроссман успел одеться, как внизу посигналили. Мы оба вышли и на улице попрощались.
Моя консультация понадобилась скоро. На этой почве наши встречи стали носить регулярный характер. В каком-то роде я стал протеже начальника госпиталя. Круг моих знакомств стал расти намного быстрее. С некоторыми коллегами я сошёлся довольно близко. Они представляли собой старую добрую интеллигенцию, видевшие своё предназначение лечить людей и искренне не понимавших, и отвергавших и войну, и жестокую политику «огня и меча», политику устрашения в отношении мирного населения. Между собой тихо осуждали бессмысленные жертвы с обеих сторон и были убеждены в полной бесполезности принуждения к покорности через животный страх, даже, наоборот, утверждали, что именно такой способ ведёт к усилению борьбы и очередному витку бескомпромиссности. По поводу действий новой власти я особо не распространялся. Считая, что мне лучше держать язык за зубами. А вот на медицинские темы я мог говорить долго и свободно.