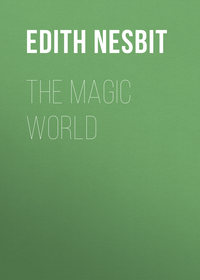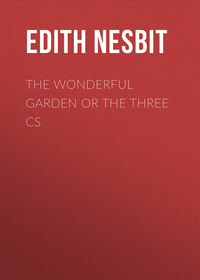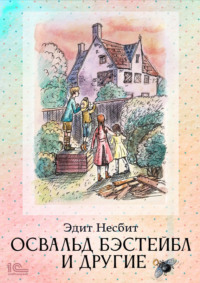Полная версия
«Искатели сокровищ» и другие истории семейства Бэстейбл
Леди сперва нахмурилась, потом рассмеялась.
– Вот, – говорит, – значит, кто свалился в горшки прошлой ночью. Мы-то подумали, это грабители, и ужасно перепугались. Ничего себе шишку ты заработал на бедной своей голове.
Мы ещё чуть-чуть с ней поболтали о прошлой ночи, а потом она мне объяснила про себя и сестру. Оказалось, они хотели скрыть ото всех, что остались дома, потому как… Тут она внезапно умолкла и залилась краской. И тогда я сказал:
– Мы думали, вы все в Скарборо. Это наша служанка Элиза узнала от вашей служанки. Почему же вам захотелось скрыть ото всех, что остались дома?
Молодая леди ещё сильней покраснела, а затем, засмеявшись, проговорила:
– Ах, да какая разница почему! Надеюсь, голова у тебя не очень болит. И спасибо за милую мужественную речь. Тебе-то уж точно стыдиться нечего.
И она поцеловала меня без малейшего возражения с моей стороны, а потом сказала:
– Давай, дорогуша, беги домой. Мне надо прямо сейчас открыть ставни и жалюзи. Хочу это сделать, пока не стало совсем темно. Пусть все увидят, что мы не в Скарборо, а дома.
Глава 4
Доброй охоты!
Четыре шиллинга, которые принесли нам поиски сокровища, было бы правильнее всего использовать для проверки идеи Дикки насчёт газетного обращения к леди и джентльменам, которые располагают свободным временем и не прочь зарабатывать два фунта в неделю. Однако у нас назрела необходимость срочно приобрести сразу несколько нужных вещей.
Доре требовались новые ножницы. На них она и собиралась пустить свои восемь пенсов, но Элис сказала:
– Это ты, Освальд, должен потратиться для неё. Сам ведь знаешь, что сломал кончики старых ножниц, когда выковыривал стеклянный шарик из медного напёрстка.
Чистейшая правда, пусть этот случай уже и стёрся из моей памяти. Только вот шарик в напёрсток запихнул не я, а Г. О. Поэтому я заметил:
– Г. О. виноват не меньше меня. Вот пусть и заплатит.
Не то чтобы Освальд пожалел денег на дурацкие ножницы, просто его натура всегда решительно восставала против малейшей несправедливости.
– Но он ещё такой маленький, – подал голос Дикки.
Ясное дело, Г. О. немедленно заявил, что никакой он не маленький. В итоге они едва не поссорились.
Тут Освальд, который всегда остро чувствует назревшую необходимость проявить всю широту и щедрость своей натуры, выдвинул предложение:
– Давайте-ка я заплачу шесть пенсов, а остальное доложит Г. О. Это научит его впредь быть аккуратным.
Г. О. согласился. Он ведь ничуть не вредный. (Впрочем, потом я узнал, что долю его внесла Элис.)
Кроме ножниц, нам всем требовались новые краски, а Ноэль не мыслил дальнейшего существования без карандаша и чистой амбарной книги ценой в полпенни, чтобы записывать новые стихи. Ну и всем нам очень трудно жить без яблок.
Так или иначе, деньги были потрачены, и мы пришли к общему выводу, что объявлению про два фунта в неделю придётся немножечко подождать.
– Очень надеюсь, – вздохнула Элис, – что у них не наберётся достаточно леди и джентльменов до того, как мы найдём деньги на образцы и инструкции.
Я, если честно, тоже слегка опасался упустить такой потрясающий шанс.
Но, заглядывая в газету, мы каждый день находили там объявление, а потому надеялись, что дело ещё выгорит.
На детективном поприще успеха мы не снискали, а тем временем наши денежные запасы почти исчерпались. Остались полпенни моих, два пенни у Ноэля, три у Дикки да несколько у девочек. Мы снова собрались на совет.
Дора пришивала пуговицы к воскресной одежде Г. О. Он их срезал, все до единой, приобретённым на свои деньги ножиком. Вы даже не представляете, сколько пуговиц оказалось на его лучшем костюмчике! Дора произвела подсчёт, и вышло, включая маленькие, на рукавах, которые не расстёгиваются, целых двадцать четыре.
Элис учила Пинчера служить, стоя на задних лапах, но безуспешно: он слишком умный и знает, когда вам нечего ему предложить. Остальные пекли в очаге картошку. Специально для этого развели огонь, хоть тепло было и без него. Картошка так получается очень вкусная, если срезать с неё горелые корки. Только сперва помойте хорошенько, не то основательно измажетесь.
– И как дальше действуем? – спросил Дикки. – Ты, Освальд, любишь призывать: «Давайте что-нибудь сделаем», но никогда не говоришь, что именно.
– Ну, если ответ на объявление пока вынужденно откладывается, может, попробуем кого-то спасти? – предложил Освальд.
Идея была его собственная, но он на ней не настаивал, хоть и мог бы, как второй по старшинству, потому что знал: навязывать свою волю окружающим невоспитанно и невежливо.
– А какой план был у Ноэля? – осведомилась Элис.
– Либо женитьба на принцессе, либо книга стихов, – сонно откликнулся Ноэль с дивана, на котором лежал и дрыгал ногами. – Только принцессу я буду искать сам. И один. Но конечно же, познакомлю вас с ней, когда мы уже поженимся.
– А хватит ли у тебя стихов на целую книгу? – поинтересовался Дикки.
Очень разумный и своевременный был, между прочим, вопрос, ибо стоило Ноэлю рассмотреть проблему под этим углом, как выяснилось: из кучи всего им написанного смысл мы смогли уловить всего в семи стихотворениях. Одно называлось «Крушение „Малабара“»[10]. Другое он написал, когда Элиза водила нас послушать проповедника, призывающего к духовному возрождению. Там все плакали, и отец сказал, что, видимо, дело тут в красноречии пастыря.
Вот Ноэль и написал:
О красноречие! Как суть твою понять?Как суть твою понять, когда рыдали?Все плакали. Внутри стояли.И с красными глазами убывали.«Вот это дар!» – отец тогда сказал.Правда, Ноэль сознался Элис, что первые полторы строчки позаимствовал из недописанной книги соученика, которую тот собирался закончить, когда найдёт на это время.
Другое стихотворение называлось «В память о мёртвом чёрном жуке, которого отравили».
Жук, я печальную картину наблюдаю,Как неподвижно на спине лежишь,И над тобой, бедняжкой, я рыдаю, —Такой блестящий, чёрный и молчишь!Элиза говорит, глупы мечты,Но всё же я хочу, чтоб ожил ты.Повод ему подала отрава для жуков. Очень действенная. Полегли от неё сотни, но оплакал Ноэль только одного. На остальных, говорит, его не хватило. А самое досадное, он не мог потом распознать, какого именно жука воспел в стихах, лишив Элис возможности похоронить насекомое под надгробием с эпитафией, хотя ей очень хотелось.
Когда стало ясно, что стихов на книгу не наберётся, Ноэль предложил:
– Подождём год или два. Уверен, за это время я много чего напишу. Мне, например, вот сегодня утром пришла идея стихов про муху, которая знает, что сгущённое молоко липкое.
– Но деньги-то нам нужны сейчас, – сказал Дикки. – А писать ты, конечно, пиши. Рано или поздно пригодится.
– Стихи ещё печатают в газетах, – подсказала Элис. – Лежать, Пинчер! Не бывать тебе умной собакой. Даже и не пытайся.
– А за них платят? – моментально оживился Дикки. Он готов поразмыслить о действительно важном, даже если это немножечко скучно.
– Не знаю. Но думаю, что никто не позволит даром печатать свои стихи. Я бы точно не позволила! – внесла свою лепту Дора.

Однако Ноэль ей возразил: лично он ничего не имел бы против. Пусть бы не заплатили, только бы напечатали. Тогда он увидит в газете свои стихи, а под ними собственное имя.
– Но попытаться-то мы ведь можем, – сказал Освальд, который всегда стоит за то, чтобы человек дерзал воплотить свои замыслы.
Ну, мы переписали на бумаге для рисования «Крушение „Малабара“» и шесть стихов. Точнее, Дора переписала. У неё почерк лучше, чем у всех нас, остальных. А Освальд нарисовал «Малабар» и танцующих на палубе моряков. Получилась шхуна с полной оснасткой. И канаты, и паруса, и всё прочее. Честь по чести, как описывал мне кузен, который служит на флоте.
Мы долго обдумывали, не написать ли письмо в газету и не отправить его вместе со стихами Ноэля по почте. Дора сочла это самым разумным. Однако Ноэль не согласился: он дол- жен сразу узнать, возьмут стихи или нет, ожидания он не вынесет. И тогда мы решили отвезти стихи в редакцию.
Я отправился вместе с Ноэлем, потому что старше, а он ещё не дорос до самостоятельных поездок в Лондон. Дикки компанию нам не составил. Объявил, что поэзия – лабуда, он рад, что ему не придётся выставлять себя дураком, но на самом-то деле у нас просто денег не хватило ему на билет. Г. О. не поехал по той же причине, но пошёл проводить нас на станцию и, когда поезд тронулся, помахал кепкой и крикнул: «Доброй охоты!»
В углу купе сидела леди в очках. Она писала карандашом на полях длинных узких полос бумаги, посередине которых был напечатан какой-то текст.
– Что это он вам такое кричал? – спросила она у нас, когда поезд тронулся.
– Доброй охоты! – ответил ей Освальд. – Это из «Книги джунглей».
– Крайне приятно такое слышать, – заметила леди. – Рада встрече с людьми, которые хорошо знают великолепную «Книгу джунглей». Ну и куда же вы направляетесь? В зоологический сад поискать Багиру?
Нам тоже было приятно встретить кого-то, кто хорошо знал «Книгу джунглей».
– Мы должны восстановить утраченное состояние дома Бэстейблов. Придумали много способов и собираемся испытать их все. Ноэль надеется на стихи. Полагаю, ведь всем великим поэтам за них платят?
Наша спутница рассмеялась. Очень весёлая леди. И поведала нам, что тоже не чужда поэзии, а длинные полоски бумаги – гранки с её новыми рассказами. Прежде чем книга обретёт окончательный облик стопки страниц в обложке, её печатают вот таким образом, чтобы автор мог писать на полях свои поправки и замечания. Пусть издатели увидят, какие они дураки: вместо хорошего текста сотворили какую-то чушь.
Тут мы рассказали ей, как пытались откопать клад, и поделились другими планами. А она попросила у Ноэля разрешения посмотреть его стихи, но он сказал, что ему этого не хотелось бы. И тогда она предложила:
– Слушай, давай-ка ты мне покажешь свои стихи, а потом я тебе – свои.
Тогда он согласился.
Весёлая леди прочитала стихи Ноэля и оценила их очень высоко. Изображение «Малабара» тоже произвело на неё весьма сильное впечатление. А потом она сказала:
– Я, как и ты, пишу серьёзные стихотворения. И есть среди них одно, про мальчика, которое, полагаю, должно оказаться вам близким.
Она нам его подарила, поэтому я могу поместить его здесь. Считаю, оно прекрасно доказывает, что встречаются в мире неглупые леди, не чета остальным. Мне оно понравилось больше стихов Ноэля, но я ему об этом не сказал. У него и без того был такой вид, будто он вот-вот заплачет. Правду скрывать, конечно, неправильно. Её всегда следует говорить, как бы она ни расстраивала людей. Просто мне не хотелось, чтобы он плакал в вагоне.
Вот стихи этой леди:
Пузатый красный солнца шарПриносит новый день мне в дар.А значит, уж пора вставатьИ начинать скорей играть.Ох, сколько планов у меня,Хватило бы сегодня дня.Жаль только, взрослым не понять,Во что мне следует играть.На месте их я б не кричалИли с опаской не ворчал: —Надеюсь, этот обормотОпять с ума нас не сведёт, —А догадался: сын, играя,Мужской характер закаляет.Вы в детстве сами неужелиВсегда тихонями сидели?И делали, что говорят, —Такой вот паинек отряд?Советуют – ах, не стерпеть! —Мне на полу юлу вертеть.Или, что уж совсем никчёмно,Заняться кубиками скромно…Им словно бы позволить жалкоМне жить насыщенно и ярко!С огнём вообще нельзя играть,Нельзя сестрёнку подсекать.Как в барабан, в поднос стучишь,И снова им не угодишь.Капкан устроишь на гостей —«Марш к себе в комнату, злодей!»И рыбу мне нельзя удить,Чтобы костюм не промочить.И фейерверк им не хорош,Хотя воды в нём ни на грош.Самим им явно невдомёк,Как в радости прожить денёк.Мои желания и нуждыИм всем, определённо, чужды.Просить поесть, когда хочу, —Об этом я вообще молчу. —Есть нужно, когда все едят, —Они в ответ мне говорят.Счастливыми их наблюдатьМогу, когда ложусь я спать.И слышу, говорит отец: —Сегодня шалостям конец.Что возмущает разум мой:Они невежливы со мной!Она прочитала нам и другие свои стихи. Много. Но я как-то их не запомнил. И разговаривала она с нами всё время. А когда мы уже почти добрались до Кеннон-стрит, она сказала:
– У меня тут есть два новых шиллинга. Как думаете, они помогут проложить дорогу к славе?
Ноэль сказал «большое спасибо» и уже хотел взять свой шиллинг, когда Освальд, который не забывает данных ему по какому-то поводу наставлений, быстро вмешался:
– Огромное вам спасибо, но отец наш считает, что мы не должны ничего брать у незнакомцев.
– Досадная закавыка, – покачала головой наша попутчица. Должен отметить, что разговаривала она не как настоящая леди, а почти как сорванец, который для смеху нарядился в платье и шляпку. – Очень досадная, – повторила она. – Но не кажется ли тебе, что мы с Ноэлем почти родня, раз оба сочиняем стихи? Ты, наверное, слышал о братстве поэтов? Чем мы не тётка с племянником или кто-то в этом роде, а?
Я терялся с ответом, а она продолжала:
– Вообще-то, ты молодец, что помнишь наставления отца. Но послушай: возьми эти шиллинги, и вот тебе моя визитная карточка. Дома расскажешь обо всём отцу. Если он будет недоволен, вернёшь мне мои шиллинги.
Ну и мы взяли монетки, а она пожала нам руки и говорит:
– До свидания. Доброй охоты!
Когда дома мы рассказали о ней отцу, он успокоил: всё в порядке. А потом посмотрел визитку и добавил, что нам оказали великую честь. Эта леди пишет стихи лучше любой другой из ныне живущих. Но мы-то никогда раньше о ней не слышали. И вообще, для поэта она оказалась слишком весёлой. А старине Киплингу честь и слава! Благодаря ему мы не только могли наслаждаться «Книгой джунглей», но и получили два шиллинга.
Глава 5
Поэт и редактор
Было здорово оказаться в Лондоне без взрослых. Мы справились, как попасть на Флит-стрит, где, по словам отца, находятся редакции всех газет. Нам объяснили: идите прямо по Ладгейт-Хилл. Хорошо, что мы не сразу туда отправились. Оказалось, идти следовало в другом направ- лении.
Когда на пути нам встретился собор Святого Павла, Ноэля так и потянуло внутрь, и мы увидели, где похоронен Гордон[11], то есть посмотрели на его надгробие. Как-то оно простовато, если вспомнить, что это был за человек.
Потом мы вышли на улицу и долго ещё шагали, пока не спросили у полицейского, далеко ли ещё до Флит-стрит. Он ответил, что лучше бы нам вернуться через Смитфилд назад. Мы так и сделали. Смитфилд-то теперь вполне мирное место, даже, пожалуй, какое-то скучноватое. Там ведь уже уйму лет никого не казнят и не сжигают на кострах.
Ноэль от долгой ходьбы устал. Он вообще у нас хилый. Полагаю, из-за того, что поэт. Пришлось время от времени восстанавливать его силы булочками, которые мы покупали в лавках, потратив на это часть денег от леди из поезда.
Из-за таких остановок мы добрались до Флит-стрит только к концу рабочего дня, когда на улицах уже зажгли газ и электричество и нам очень весело подмигивала разноцветными яркими лампочками реклама «Боврила»[12].
Мы вошли в офис «Дейли рекордер» и попросили встречи с редактором. Офис у них оказался большой. Очень яркий. Отделанный красным деревом и начищенной медью. И освещался он весь электрическими лампочками.
Нам сказали, что редактор принимает в другом здании, куда мы и направились по очень грязной улице. Внутри этого здания, очень скучного, в стеклянной выгородке сидел мужчина, словно бы выставленный на обозрение, как экспонат в музее. Он нам велел написать свои имена и сообщить о цели визита. И Освальд старательно вывел:
Освальд Бэстейбл,
Ноэль Бэстейбл.
По очень важному делу.
Потом мы сидели на ступеньке каменной лестницы и ждали. Там сильно сквозило, а человек из стеклянной будки таращился на нас так, будто бы это не он, а мы музейные экспонаты. Ждать пришлось долго. Наконец сверху спустился мальчик.
– Редактор принять вас не может. Изложите, пожалуйста, письменно, что вам надо, – сказал он нам и усмехнулся.
Мне захотелось врезать ему по башке, но Ноэль смиренно изрёк:
– Хорошо. Изложу, если дадите мне ручку, бумагу и конверт.
Мальчик ответил, что лучше послать бумагу по почте. Однако у Ноэля есть одно скверное качество: он малость упрям. И он твёрдо так произнёс:
– Нет уж, я изложу всё сейчас.
Тут и я его поддержал:
– Между прочим, почтовые марки последнее время сильно подорожали.
Мальчик широко улыбнулся. А человек из стеклянной будки снабдил нас листком бумаги и ручкой. Ноэль принялся излагать. Освальд пишет лучше, но Ноэль захотел сам. Трудился он очень долго, очень чернильно и кляксово.
Дорогой мистер редактор!
Я хочу, чтобы Вы напечатали мои стихи и заплатили за них. Между прочим, я дружен с миссис Лесли, которая тоже поэт.
Ваш преданный друг
Ноэль БэстейблОн облизал хорошенько клеевую полоску на конверте, чтобы мальчик, пока поднимается, не смог прочитать послание, а снаружи ещё написал: «Очень личное».
Зря старается, подумалось мне, однако через минуту ухмыляющийся мальчишка снова возник перед нами и уважительно произнёс:
– Редактор пригласил вас подняться.
И мы двинулись наверх. Миновали множество ступеней, коридоров, странного гула, непонятного буханья и необычного запаха. Мальчик, который стал теперь жутко вежливым, объяснил нам, что запах распространяет типографская краска, а бухают и гудят печатные машины.
После хитросплетения шумных коридоров мы оказались у двери, возле которой мальчик остановился, чтобы открыть её и пропустить нас внутрь.
Это была большая комната. На полу лежал сине-красный ковёр. В камине ревел огонь, словно в зимнюю стужу, хотя стоял лишь октябрь. Огромный письменный стол с множеством ящиков был завален бумагами, совсем как в кабинете отца.
За столом мы увидели джентльмена, светлоглазого и светловолосого. Слишком молодого для должности редактора, куда моложе нашего отца. Похоже, он сильно устал и выглядел таким сонным, будто поднялся в жуткую рань, однако лицо у него было доброе и нам понравилось.
Освальд решил, что они попали к умному человеку. А Освальд обычно умеет распознавать характер людей по их лицам.
– Итак, – начал редактор, – вы друзья миссис Лесли?
– Полагаю, что вправе считаться ими. Она ведь дала нам по шиллингу и пожелала доброй охоты, – ответил Ноэль.
– «Доброй охоты»? – внимательно оглядел нас редактор. – Ну а поэт из вас кто?
Теряюсь в догадках, какие вообще у него могли быть сомнения на сей счёт? Освальд ведь выглядит достаточно взрослым и мужественным для своих лет. Но не показывать же, что обиделся. И я просто ответил:
– Вот он. Видите моего брата Ноэля? Он поэт.
Ноэль побледнел. Иногда он до ужаса похож на испуганную девчонку. Редактор велел нам сесть, взял у Ноэля его стихи и углубился в чтение.
Ноэль делался всё бледней и бледней. Я уже испугался. Не хватало ещё, чтобы он сейчас грохнулся в обморок. Однажды именно так и случилось, когда я держал его руку под холодной водой, после того как случайно засадил в неё стамеской.
Ознакомившись с первым стихотворением (про жука), редактор вскочил из кресла и встал к нам спиной. Не очень-то вежливо, на мой взгляд, однако, по мнению Ноэля, он повёл себя точь-в-точь как герои книг, когда хотят скрыть охвативший их шквал эмоций.
В результате он прочитал все стихи, а потом сказал:
– Мне очень нравятся ваши опусы, юноша, и я предлагаю вам за них… Дайте-ка подумать, сколько мне заплатить…
– Сколько можете, и побольше, – прорезался голос у бледного Ноэля. – Дело в том, что мне нужно ужасно много. Мы ведь должны восстановить утраченное состояние дома Бэстейблов.
Редактор нацепил очки, пристально нас оглядел и снова устроился за столом.
– Превосходный замысел, – похвалил он. – Расскажи мне, как он у тебя зародился. Кстати, вы чай уже пили? А то я как раз послал за ним.
И он позвонил в колокольчик. Тут же явился давешний мальчишка с подносом, на котором стояли чайник, толстостенная чашка, блюдце и всё такое прочее, что полагается к чаю.
Редактор велел принести ещё один поднос нам. И мы стали пить чай с редактором «Дейли рекордера». Полагаю, Ноэль очень гордился собой, но это мне пришло в голову только потом. Редактор нас много о чём расспрашивал, и мы ему многое рассказали, но, конечно, я предпочёл умолчать о некоторых обстоятельствах, наведших нас на мысль, что состояние семьи требуется восстановить. Как-никак мы были с ним не настолько знакомы.
Спустя полчаса, когда мы собрались уходить, он объявил:
– Дорогой мой поэт, я напечатаю все твои стихи. А теперь ответь мне, сколько, по-твоему, они стоят?
– Не знаю, – честно сознался Ноэль. – Понимаете, я писал их не для продажи.
– А зачем же тогда? – задал новый вопрос редактор.

Ноэль сказал, что не представляет себе. Надо думать, ему просто хотелось.
– Искусство для искусства? – подхватил редактор, и у него сделался такой восхищённый вид, будто Ноэль сказал что-то ужасно умное. – Как думаешь, гинея[13] ответит твоим ожиданиям?
Мне приходилось, конечно, читать о людях, которые теряли от неожиданности дар речи, немели от сильных эмоций, каменели от потрясения, но я не представлял себе, до чего глупо они при этом выглядят, пока не увидел, как Ноэль с отвисшей челюстью таращится на редактора.
Брат мой сперва покраснел, потом побелел, затем весь зарделся так густо, будто на лице его, как на палитре, изо всех сил растирали алую краску, а после и вовсе побагровел. И поскольку он стал нем как рыба, в дело пришлось вступить Освальду:
– Смею думать, что да.
И тогда редактор вручил Ноэлю один соверен[14] плюс один шиллинг. Потом он пожал нам обоим руки, а Ноэля ещё хлопнул ободряюще по спине со словами:
– Ну, старина, вот и твоя первая гинея. Уверен, она будет не последней. Возвращайся домой, а лет через десять принеси мне ещё стихов. Только не раньше. Понял? Те, что ты дал сейчас, мне очень понравились, и я их принял, хотя наша газета стихов не печатает. Придётся опубликовать их в другой, где у меня есть знакомые.
– А что печатаете вы? – поинтересовался я. Отец читает «Дейли кроникл», и я ни малейшего представления не имел, какова из себя эта «Дейли рекордер». Выбрали-то мы её исключительно из-за шикарного офиса и часов с подсветкой снаружи.
– Новости. Скучные статьи. И всякую всячину про именитые персоны, – начал объяснять редактор. – Кстати, не знаком ли вам кто-нибудь именитый?
– А что такое «именитый»? – уточнил Ноэль.
– Ну королева. Принцы. Люди с титулами. А ещё – писатели, актёры, певцы. Словом, известные личности, которые делают что-нибудь умное и хорошее или, наоборот, нехорошее, неумное и злое.
– Среди моих знакомых нет никого злого или нехорошего, – начал Освальд, внутренне сожалея, что не водил знакомства с Диком Тёрпином или Клодом Дювалем, а значит, лишён возможности рассказать редактору что-нибудь занятное про них. – Но я знаю одного титулованного. Это лорд Тоттенхэм.
– Этот сумасшедший старый протекционист?[15] Откуда ты его знаешь?
– Ну, мы не то чтобы его знаем, – объяснил Освальд. – Просто он каждый день в три часа прогуливается по пустоши в Блэкхите. Шагает широко, что твой великан. В чёрном плаще, как у лорда Теннисона[16]. И этот плащ будто летит за ним, а он на ходу ведёт сам с собой беседы.
– И что же это за беседы? – Редактор снова сел за стол, вертя в руке синий карандаш.
– Мы только раз оказались достаточно близко, чтобы расслышать. «Проклятье страны, сэр! – сказал он тогда. – Разруха и запустение, сэр!» И припустил дальше, колошматя по кустам тростью, будто рубил головы лютых врагов.
– Колоритный момент, – обрадовался редактор. – Продолжай!
– Но я больше ничего не знаю. Если только вот что: каждый день он останавливается посреди пустоши, озирается по сторонам – нет ли кого вокруг? – и, если никого не увидит, снимает воротничок.
Тут редактор перебил Освальда (что, вообще-то, невежливо) вопросом:
– А ты, часом, не сочиняешь?
– Простите, не понял, – откликнулся Освальд.
– Я имею в виду, не выдумываешь?
Освальд, оскорблённо выпрямив спину, заверил, что он не лжец.
Редактор лишь рассмеялся и высказался в том плане, что сочинять и лгать не одно и то же, он просто подумал, не слишком ли разыгралось у Освальда воображение. Освальд счёл это достаточным извинением и продолжил:
– Однажды мы притаились среди кустов дрока и увидели, как он это делает. Один воротничок снял, другой, чистый, надел, а старый закинул в кусты. Мы потом подобрали воротничок, и он оказался совсем паршивым. Бумажным.
– Ну спасибо тебе, – похоже, остался доволен редактор. Он встал и засунул руку в карман. – Информация на пять шиллингов, и вот они тебе. Хотите, прежде чем соберётесь домой, пройтись по типографии?