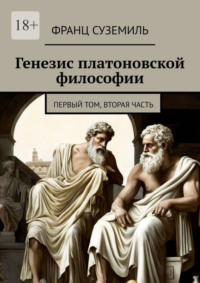Полная версия
Генезис платоновской философии. Второй том, Первая часть
Память отвечает только за непосредственное усвоение содержания восприятия; воспоминание превращает его с помощью сознания в настоящее психическое свойство и воспроизводит то, что было забыто. забытое.35 Первая сторона этой деятельности, однако, полностью совпадает с рефлексией (διανοια) в «Теэтете», которая подчиняет содержание восприятия категориям и тем самым оформляет его в концепцию (см. Thl. I. p. 190 f. cf. 197). Таким образом, подобно различию между памятью и воспоминанием, здесь, наоборот, но именно как следствие этого, мы сталкиваемся с более явным, чем там, сходством между памятью и рефлексией. А поскольку категории, таким образом, являются духовным содержанием, предшествующим всякому эмпирическому мышлению, то память, определяемая здесь, есть не что иное, как та мифическая память, связанная с предсуществованием (Menon, Phaedrus and Phaedo)36, которая таким образом, как уже в «Федоре», переходит из мифа в догму (Thl. I. p. 430 f.), так и здесь она теперь полностью переходит в контекст эмпирической жизни души, а категории – это остатки непосредственного знания, перенесенные из предсуществования, идеи в форме того интеллектуального представления, насколько оно сохранилось в душе.
Однако теперь возникает вопрос, не являются ли удовольствие и неудовольствие скорее идеями. Тогда оба способа выражения можно было бы подвести под безразличную формулу по их отношению к аффектам, ибо воображение также возникает вместе с восприятием, но только в том смысле, что оно само есть восприятие в совершенной форме.
Только с памятью вступает желание, инстинкт замещения того, что было поглощено, удовлетворения потребности, инстинкт самосохранения организма. Оно принадлежит исключительно душе, поскольку направлено на состояние, противоположное тому, в котором находится тело, и поэтому может возникнуть только тогда, когда удовлетворение телесной потребности хотя бы однажды уже было воспринято 37и душа помнит этот процесс. Одновременно с желанием, однако, возникает ожидание его удовлетворения или неудовлетворения.
Ожидание более точно определено в следующей странице 38 f. как воображение будущего события. Воображение же – и здесь о нем снова говорится в первую очередь, как будто не существует его высшей ступени, – возникает при встрече образа памяти с настоящим восприятием и является суждением о содержании последнего, будь то в вербализованных или невербализованных словах или в образах, свободно созданных художником души, т. е. воображением. Здесь также повторяются положения второго отдела второго раздела «Теэтета», подобно тому, как по крайней мере однажды уже там, p. 191. D., указывалось на визуализацию наших размышлений (εννοιαι) в восковой скрижали памяти. Но явного различия между непосредственными образами содержания восприятия в памяти и самоочевидными образами воображения, как здесь, все еще не было, поскольку это может произойти только при различии между памятью и самоочевидной памятью, и точно так же – логически – между воображением в образах воображения и концептуальным воображением в невербализованных словах.
Но все это более точное определение ожидания теперь уже составляет неотъемлемую часть третьего параграфа, а именно различение истинных и ложных эвстов, и мы уже этим укрепляемся в убеждении, что удовольствие и неудовольствие есть идея, но еще более тем, что это различие полностью сводится к различию между ложной и истинной идеей, и именно это противостоит утверждению, что удовольствие, основанное на ложных предпосылках, поэтому не менее приятно. Ибо даже ложное представление, хотя и ложное, является, следовательно, не менее реальным представлением, чем истинное, в связи с чем нам вспоминается полемика Евтидема, Кратила, Теэтета и софистов против ошибочного предположения, что ложное представление – это такое представление, объектом которого является абсолютное небытие, и что поэтому такая вещь вообще не может существовать (ср. Thl. I. p. 130. 153. 193. 294 ff.).38 Таким образом, различие между истинным и ложным удовольствием и неудовольствием явно восходит к различию между ложным и истинным воображением. Кстати, Протарх высказывает только что приведенное утверждение не как свое собственное, а понаслышке, p. 38. A., т. е. оно принадлежит Аристиппу.39 Таким образом, страх и надежда – это только два вида ожидания, а ошибочное ожидание прямо упоминается в первом члене этого параграфа, с. 36 C. – 41. B., как первый класс ложных удовольствий и неудовольствий. К удовольствию и неудовольствию от ожидания и удовольствию от настоящего наслаждения и лишения мы должны, следовательно, добавить третье – воспоминание, на которое Платон опять-таки намекает лишь косвенно, p. 35. E. f., и таким образом обозначить удовольствие и неудовольствие в целом как представление о приятном и неприятном в отношении всех трех времен, то есть как противоток поглощения и воспроизведения, насколько он входит в представление. И это полностью соответствует платоновской точке зрения, стремящейся растворить все практическое действие в теоретическом сознании. Но второй вид ложного удовольствия и неудовольствия, а именно заблуждение относительно истинной степени одного и того же, проистекающее из неправильного сравнения различных удовольствий и неудовольствий друг с другом, поскольку они всегда одновременно находятся в душе, согласно взаимной связи их различных факторов, с. 41. B. – 42. C., снова соответствует второй, более высокой ступени ложного представления в третьей части второго главного раздела «Теэтета», которая порождается размышлением о наших представлениях посредством αναμνησις и неправильным отношением их друг к другу. Именно из-за этой ошибки, как выражается Платон со свойственной ему смесью насмешки и признания, некие «люди, хорошо опытные в физике, не благородного, но слишком угрюмого характера, истинные враги Филеба и его дела, т. е. Антисфен,40 преувеличенно утверждал, что всякое удовольствие есть не что иное, как иллюзия и обман, и что истинно приятное, то есть желанное, заключается скорее в апатии, и когда, в противовес этому, другие «мудрецы1, то есть, очевидно, Аристипп41, пытались утверждать, что безболезненности вообще не существует из-за постоянного оттока и притока организма. Первое, однако, может, по крайней мере, использоваться как «мудрость провидца», т. е. как верная мысль о том, что на самом деле многие удовольствия ошибочны и потому бесполезны, p. 42. C. – 44. C. Но поскольку это сделано в последующем и этим осуществлен переход к различению хороших и плохих удовольствий, отсюда следует, что последние уже должны быть включены в истинные и ложные и могут быть только дальнейшей реализацией последних, так что аргумент, выдвинутый Протархом p. 41. 41. А., не содержит ли безнравственное удовольствие нечто гораздо худшее, чем заблуждение, не нужно прямо отвергать, поскольку это худшее само впадет в заблуждение, так как никто не предастся ему, если действительно признает его таковым.
Ибо ложное есть также и дурное, так должен был утверждать Платон, потому что для него добродетель совпадает со знанием, грех, следовательно, с заблуждением, ибо, как уже сказано, p. 39. E. f. благочестивый ум – это как раз тот, который желает и надеется только на то, что действительно хорошо и вечно, в котором нет ошибки и обмана, или, как Платон, вторя Евтифрону (см. Thl. I. p. 115), выражает это антропоморфически-мифически, потому что благочестивые как таковые также боголюбивы, а боги дают своим любимцам лучшее. Однако благодаря этой краткой аллюзии мы впервые узнаем, в какой мере и почему любовь Бога к нам непосредственно связана с благочестием, то есть с нашей любовью к нему, и включена в него, а именно в той мере, в какой добродетель есть более тесное единение сущности с самим изначальным благом. Не может быть и речи о какой-либо иной любви, кроме этой, которая весьма близка к любви Спинозы к интеллекту, так что и здесь платоновская точка зрения соприкасается с его, в ненужном Боге, поскольку всякая другая, согласно Симпозиуму, основана на нужде, и вышеупомянутый, до сих пор не решенный вопрос, в какой мере идеальное удовольствие может быть также приписано Богу, должен быть решен аналогичным образом: это будет не что иное, как ничем не омраченное блаженство, непосредственно связанное с его абсолютным совершенством – абсолютным знанием, как и у Аристотеля.
То, что сначала нужно было доказать в отношении желания, самоочевидно в отношении вожделения и неудовольствия, поскольку и то и другое – идеи, а именно, что даже в своем отношении к телесным привязанностям они все же принадлежат исключительно душе, так что это уже предполагается без лишних слов в p. 11. D. и далее в p. 55. B..42 Но само желание, согласно вышесказанному, также будет понятием, а именно особым видом неудовольствия, подобно тому как голод и жажда попеременно называются желанием и неудовольствием, p. 34. E. f. 45. B. Но мы не должны удивляться, что это еще не было прямо указано, ибо желание обычно смешивается с надеждой, то есть с удовольствием, а потому не является вожделением. Но только в следующем параграфе, p. 44. C-. – 50. D., мы будем говорить о похоти и неудовольствии, смешанных вместе, хотя второй класс ложных похотей уже был выведен из одновременного присутствия обоих в душе, что нельзя представить иначе, как путаницу, поскольку это отношение будет сразу же ясно объяснено.
Антистен исходит из предпосылки, что, поскольку. (сущность твердости наиболее очевидна в самом твердом, так и самое сильное и жестокое удовольствие, которое – также согласно Аристиппу – признано искать в области чувственных удовольствий, более всего заслуживает названия удовольствия. Из этого он заключил – и совершенно справедливо, учитывая взаимозависимость, преобладающую в этой области, – что это также и то, что предполагает самое сильное неудовольствие, равно как и приносит его с собой, то есть В соответствии с вышесказанным, речь идет не о естественном поглощении тела, которое движется в определенных пределах, а о чрезмерном распаде тела, согласно которому удовольствие лишь иллюзорно и скорее включает в себя соответствующее безнравственное и болезненное состояние души, так что, если желаемое действительно является освобождением от неудовольствия, его можно приобрести, лишь воздерживаясь от удовольствия. В этом и заключается вышеупомянутый парадокс, что существование без боли и удовольствия скорее является истинным удовольствием, независимо от того, выразил ли его в такой форме сам Антистен, что не так уж непохоже на его обычную манеру, или же Платон, чтобы подчеркнуть внутреннее противоречие этого утверждения, впервые придал ему эту парадоксальную форму. Его недостаток, однако, заключается в неверности первой посылки, которую Платон опять-таки не опровергает прямо, но молчаливо допускает, что она будет опровергнута последующим. Сам он согласен с Антисфеном лишь в том, что тоже считает большинство удовольствий, да и вообще все чисто телесные удовольствия, а также самые бурные и неумеренные чаще всего смешанными с неудовольствием и самыми болезненными и безнравственными. Нечистота и неумеренность, таким образом, хуже, чем ошибка, рассматриваемая отдельно от них. С другой стороны, он различает три вида этого смешения, когда преобладает либо удовольствие, либо неудовольствие, либо то и другое в равной степени, и, согласно другой точке зрения, когда это смешение чувств относится либо к одному только телу, поскольку оно может переносить в разных своих частях противоположные возбуждения одновременно, либо к противоположному поведению души и тела, как во всех вышеперечисленных случаях, когда тело испытывает недостаток, а душа надеется на его удовлетворение, либо, наконец, к одной только душе, как, например, высшее удовольствие в трагедии. Например, высшее наслаждение в трагедии – то, которое вызывает слезы, а в комедии, как и в жизни, из боли зависти рождается радость смеха над безобидными пороками ближнего.43
Вышеизложенные положения Горгия (см. Thl. I. p. 96.) о том, что удовольствие и неудовольствие возникают только при переходе противоположных состояний друг в друга и поэтому всегда возникают друг с другом, но что добро и зло исключают друг друга в одном направлении, теперь перенесены на умозрительную почву, но тем, что следует далее, они ограничены определенной областью, так как теперь в пятом параграфе, p. 50. E. – 53. C, доказывается также чистое удовольствие.
Ибо в вышеизложенном мы уже сразу перешли от телесных удовольствий к удовольствиям чисто духовным, в сфере которых, если где-либо, должно быть найдено чистое удовольствие, а это, очевидно, может быть не что иное, как само знание или, по крайней мере, то, что ведет непосредственно к знанию. В какой мере, однако, те же условия присутствуют для возникновения удовольствия, поскольку человеческая душа все еще принадлежит к становящемуся существованию, а человеческое знание, следовательно, всегда только становящееся и, таким образом, также подвержено тому же противотоку поглощения и воспроизводства, познания и забвения, как во время самого земного существования, так и в силу чередования земного и сверхъестественного существования, Платон мог бы легко объяснить своим читателям из «Федра», «Пира» (ср. (особенно p. 207. E. f.) и «Федота»), но и то, насколько это чередование здесь гораздо меньше, благодаря более тесной связи души с Идеями и, благодаря человеческой свободе, отнюдь не столь механически равной с обеих сторон, благодаря чему с самого начала в этой сфере становится возможным по крайней мере большее освобождение удовольствия от неудовольствия, ибо только более сильные привязанности доходят до сознания человека. Потребность в теле тем сильнее, что при его неудовлетворении само тело в конце концов умирает, тогда как разумная душа бессмертна и обеспечена неподъемным имуществом, понятийным мышлением в соответствии с категориями. Физический недостаток, таким образом, с самого начала навязывает себя сознанию, а все развитие познания может быть понято только как переход от бессознательного к сознанию.
На это Платон лишь вскользь намекает, p. 52. A. f., словами о том, что в отношении знания в душе изначально нет ничего, что можно было бы сравнить с голодом и жаждой, но он не намерен противопоставлять свои предыдущие рассуждения об Эросе, как будто в душе изначально не предполагается стремления к знанию. Напротив, само это стремление спит в бессознательном, поскольку, как мы знаем из прежних описаний, оно никогда не появляется в чистом виде, а скрывается в чувственном стремлении как его идеальная сторона и приходит к себе только после тяжелой и мучительной борьбы с ним, освобождаясь от него, но как только это происходит, оно уже перестает быть простым стремлением и скорее уже исполняется, становится настоящим знанием как таковым. И на полученной таким образом основе разум может затем во многих случаях по крайней мере продолжать работать долгое время, прежде чем в своей рефлексии (λογισμοι) он натолкнется на то, что многое из того, что он выработал, уже снова утрачено в результате забывания, именно потому, что забывание как таковое по самой своей природе (τα της φυσεως παθηματα) снова есть именно бегство от сознания; и только когда рефлексия осознает это, возникает боль, так что, по крайней мере, во многих случаях и в течение длительного времени мыслимо беспрепятственное душевное наслаждение.
В чувственном восприятии и воображении, следовательно, уже должна быть двойная сторона: одна, которая прижимает душу к телесным отношениям, и другая, которая уже начинает поднимать ее к чисто духовному и идеальному. Это приводит здесь более ясно, чем когда-либо прежде, к различию между низшими чувствами и высшими, глазом и ухом, между двумя классами которых запах стоит посередине. Высшим физическим проявлением идеи является чувственно прекрасное, и оно доступно только трем последним чувствам, но прежде всего уху и глазу. К этому непосредственно ведут примеры нечистого душевного вожделения, взятые из области искусства; в этих случаях, следовательно, только видимость красоты, а не реальная красота, трогает наш глаз и ухо; но даже от реальной красоты чувства должны сначала избавиться от непосредственного чувственного стимула, прежде чем можно будет ощутить чистое, незаинтересованное удовольствие (ср. прим.)44 от чувственно-прекрасного. 45чувственной красоты возникает, как мы знаем из «Федра» и «Пира», и если следующая ступень, которой достигает там высшая эротика, – это красота формы вообще, то здесь мы узнаем, что искать ее надо не в человеческом теле как таковом, а в том, что сначала придает ему красоту его пропорций, т. е. в самой форме человеческого тела. Т.е. в простой форме фигуры, в математических телах, и только они поэтому также полностью лишены жала низших чувственных стимулов; они, так сказать, висят посередине между чувственным и сверхчувственным.
Так и с цветами и тонами; прекраснее не самая благородная и гармоничная их смесь в природе, как в картинах и кусках глины, а самый чистый отдельный цвет и самый чистый отдельный тон сами по себе, потому что именно они делают возможной гармонию сочетания, потому что они являются самыми чистыми проявлениями видов, возможных в этой области, как, например, самый чистый белый – идеи белого. И именно потому, что нет такого резкого разграничения видовых отличий от запахов, – потому что нет совершенно несмешанных запахов, потому что эта область уже ускользает от резкого, понятийного разграничения, – удовольствие от них имеет менее божественный характер.46 Таким образом, однако, красота уже ведет нас непосредственно в область истины или самого знания, в геометрию, в физику, в музыкальную теорию интервалов и гармоний и тем самым в теорию чисел, и как в Симпозиуме любовь к красоте знания есть высшая ступень любви к красоте форм, так и здесь удовольствие от знания, которое заявлено как второе, есть лишь высшая ступень удовольствия от красоты, осуществление духом своей собственной деятельности, возвышение красоты до истины. Истинное наслаждение есть поэтому в высшем смысле осознание совершенства, достигаемого через знание, гармония, с которой оно проникает и в низшую жизнь души, и в этом смысле неотделимо от человеческого знания и, согласно незаметной и безболезненной потребности, доставляет нам заметное и приятное удовлетворение, свободное от неудовольствия.47
Далеко не факт, следовательно, что Платон этими положениями как-то противоречил бы своему прежнему описанию Эроса или не мог бы после них, как ранее в «Федре», описывать Эрос как чувство, смешанное из боли и удовольствия,48 напротив, это описание имеет через них, насколько это вообще возможно с платоновской точки зрения, и бессознательное может быть понято чисто научно как элемент сознания вообще, и полное отграничение простого инстинкта размножения от специфической области любви, которую Эриксимах и отчасти сам Сократ примешивали к Симпозиуму, стало возможным только теперь благодаря различению между бессознательными и сознательными привязанностями, а затем между низшими и высшими чувствами, поскольку то, что конкретно достойно любви, т.е. прекрасное, теперь может быть понято как нечто большее. Прекрасное теперь признается как нечто, относящееся только к последнему, для чего уже в «Федре» (стр. 250) сделан переход, но еще на мифическом языке. Точно так же пал последний барьер, стоявший на пути полного растворения практического в теоретическом сознании, а именно, в той мере, в какой бессознательные и чисто практические моменты, предшествовавшие ему в эмпирическом развитии, теперь также стали его элементами.
Теперь, если в случае высшего блага только это чистое удовольствие может еще повсюду подвергаться сомнению, то вывод, сделанный в третьем разделе, что удовольствие не есть благо, теперь, в силу более конкретного определения блага в четвертом и удовольствия в настоящем разделе, возводится в область метафизики в шестом параграфе того же раздела, p. 53. C. – 56. C., с его включением. Удовольствие теперь предстает не как ктТтгов, а, как уже определили некоторые «остроумные» (χομψοι) люди, как становление (γενεσις). Согласно с. 43. А. (см. выше), этими людьми может быть только Аристипп,49 и ему таким образом показывают, насколько он сам опроверг свое утверждение, что удовольствие есть высшее благо. Ведь как всякая материя (υλη) имеет становление, так и всякое становление имеет бытие (ουσια) в качестве своей цели, но благо не служит никакой другой цели, а является абсолютной целью всего остального, следовательно, высшим, истинным бытием как таковым. Это, однако, уже дополняет положения четвертого раздела о совпадении идеи блага с идеей vovg так, как мы этого требовали, в том смысле, что теперь она оказывается также одинаково связанной с идеей бытия; περας и αιτια поэтому сливаются здесь в ουσια и что там как общий субстрат απειρον, то здесь как конкретная субстанция υλη. Материя, таким образом, возникает заново как противоположность бытию, как небытие, как у Протагора, которое, однако, косвенно также имеет свою цель, т. е. свою αιτια, в идее блага, как у Парменида (см. Thl. I. p. 342. 349.). Но если в Боге есть идея становления, то от нее неотделимо и интеллектуальное удовольствие, идея удовольствия, – и приведенное выше высказывание Платона не может помешать нам предположить это50. Если, однако, Платон уже не был полностью удовлетворен решением вопросов, поднятых в «Федр», не стоит удивляться тому, что он не останавливается здесь на этих вопросах более подробно.
Если мы подробнее рассмотрим, каким образом Аристипп следовал за Гераклитом, то, поскольку мы можем предположить сам факт этой связи, о которой нам никто не говорит, исходя из вышесказанного, она все же может быть достаточно ясно распознана из высказываний более поздних авторов, так что они дополняют платоновские. Ибо он придерживался своеобразной середины между первоначальной гераклитовской доктриной и ее протагоровской трансформацией, в которой безошибочно прослеживается влияние сократизма. Если Гераклит в своем вечном становлении имел в виду только объекты, то он вместе с Протагором объявил все наше восприятие и знание о них чисто субъективным и индивидуальным, но, придерживаясь этого гораздо более последовательно, чем сам Протагор, и в той мере, в какой он был еще гораздо более субъективен, он все же нашел в самой субъективности по крайней мере одну объективную и универсально достоверную вещь. Ибо если Протагор из того, что существует только одна субъективная истина, заключал, что и реальность предметов также только субъективна, то Аристипп, именно ради первого, считал необоснованным всякий вывод о предметах и, следовательно, даже этот вывод, то есть оставлял совершенно неясным, обладают ли они каким-либо качеством сами по себе, будь то бытие или становление, или только для нас. Если мед кажется нам сладким на вкус, то это ничего не говорит о природе меда, а только о природе сладкого вкуса, не о природе предмета, от которого исходит впечатление, а только о природе самого впечатления,51 ибо то, что кажется сладким одному человеку, может показаться горьким другому – более того, возможно, тому же человеку в другое время,52 и только о том, не расширил ли Аристипп субъективность впечатлений еще больше, так что, например, сам сладкий вкус может показаться горьким другому человеку.53 Например, можно спорить о том, является ли сам сладкий вкус иным для другого человека, а значит, не существует ли вообще общей для людей сладости как привязанности. Ибо хотя сообщение Секста Эмпирика 731), по-видимому, оправдывает первое предположение, все же непонятно, как возможна предполагаемая Аристиппом общность имен, до которой опустились сократические понятия, как и вообще древние сократики, поскольку это предполагает, что сами ощущения обозначаются ими. Напротив, более несомненно, что та же субъективность должна быть распространена на воздействие этих способностей на организм различных индивидов: сладкий вкус может быть приятен одному и неприятен другому; самые противоположные впечатления могут производить один и тот же эффект (ср. p. 12. D. и прим. 684.), но само ощущение приятного и неприятного опять-таки одинаково у всех, и каждое существо с самого рождения стремится к первому и бежит от второго (см. p. 22. B.) 54Итак, если Протагор, соответственно, разорвал гераклитовскую антитезу становления на две части, разделив ее на субъект и объект, но тем самым ослабил ее до простого движения к становлению, то Аристипп, напротив, завоевал расположение субъекта и объекта, рассматривая только аффекты, Оставив объектом познания только аффекты субъекта, Аристипп, по крайней мере, для них, восстановил полный контркурс гераклитовского становления, и в этом отношении можно снова сказать, что он образует антитезу Гераклиту, а Протагор – центр между ними.
Но субъективность его точки зрения не позволяла ему описывать поглощение как таковое как неудовольствие, а размножение как удовольствие, ибо таким образом и то и другое возникло бы из одного и того же источника во всех людях, и поэтому мы очень естественно слышим от него, что он тоже довольствовался ослабленным понятием движения и различал удовольствие и неудовольствие только по их степени, первое как мягкое (λεια), второе как бурное (τραχεια) движение.55 Если это кажется противоречащим утверждению Платона, согласно которому он описывал удовольствие не только как χινησις, но и как γενεσις, то первое все равно ведет обратно ко второму и является лишь его особым видом.