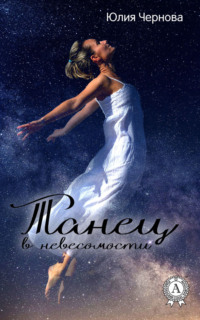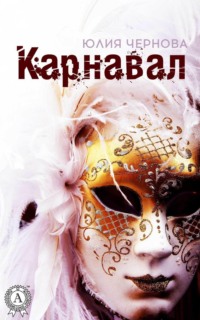Полная версия
Пятый легион Жаворонка
– Я дважды была замужем, – отвечала Виния с некоторым раздражением. – Один раз меня выдал отец, ибо так было принято: я вошла в возраст невесты. Другой раз поторопилась сама – из страха одиночества… Почему бы мне не выйти замуж по любви? В виде исключения? – и тут же, перебив себя, она воскликнула. – Дядя, умоляю, посмотри, дома ли Панторпа, и запрети ее выпускать. Боюсь… неважно, потом объясню… иди.
– Можешь не объяснять. Иду, но при условии, что вернувшись, застану тебя спящей.
Анций вышел. Рабыня подала Винии кувшин с водой. Умывшись, Виния повалилась на ложе, прикрыла глаза рукой. Честно попыталась уснуть, но не смогла. Она задыхалась, подушка жгла, донимали мысли – о Парисе и Панторпе.
Услышала шаги Анция, она отвела ладонь от глаз.
– Привратник спит крепчайшим сном, и будить его я не стал, – начал Анций и тут же вскинул руку в предупреждающем жесте, ибо Виния рванулась с кровати. – Лежи, лежи. Панторпа дома, и стонами своими переполошила уже всех. Кажется, только кухонные рабы не сбежались, остальные толпятся вокруг ее ложа. Сейчас ее отпаивают водой… Впрочем, водой ли? – усомнился Анций. – В твоем доме и фалернское могли позаимствовать… Затем ей начнут растирать руки и ноги: видел я, как обихаживают слезливых девиц. Так что до утра она не вырвется.
Винии был неприятен насмешливый тон Анция, и она поспешила вернуться к прежней теме.
– Я дважды была замужем, и оба раза – без любви.
– Ну, если в первом случае ты можешь попрекать отца, то во втором – винить некого, сама выбирала.
– Верно, – вздохнула Виния. – После гибели отца я за кого угодно готова была замуж выйти, лишь бы не оставаться одной по ночам. Что и доказала…
– Да уж! – Анций до сих пор содрогался, вспоминая второго мужа Винии. – Разборчивой невестой тебя никто бы не назвал.
– Согласись, как только страх темноты прошел, настал конец и моему замужеству.
– Надеюсь, префект любит тебя, – сказал Анций тоном, ясно показывающим, что он не питает ни малейшей надежды.
– А вот завтра увидим, – смеясь, заявила Виния. – Прежде на скачках Луций всегда ставил на «зеленых», а ради меня поклялся изменить своим пристрастиям. Так что мы держим пари за «синих». Скажешь, это ли не жертва во имя любви? Кто бы отважился на такое?
Анций безнадежно махнул рукой. В его глазах зажглась искра подозрения.
– Держите пари, говоришь?
– То есть, он держит, – торопливо поправилась Виния.
– Не лукавь, племянница. Я, может, стар, да не так глух. Ты сказала: «Мы держим».
Виния смущенно разглаживала складки покрывала.
– Я хочу знать, сколько ты поставила, – отчеканил Анций.
– Совсем немного, дядя, я не могу рисковать… И вовсе не рассчитываю подобным способом поправить свои дела.
– И все-таки – сколько? – допытывался Анций.
– Меньше, чем я трачу в день на содержание этого дома и рабов…
– И все-таки?
Виния закрыла глаза и назвала сумму.
– Я не понимаю, – прозвучал голос Анция. – Если ты столько тратишь ежедневно, то как еще не просишь подаяния у Капенских ворот?
Виния не стала спорить.
– А сколько поставил префект Фуск?
– Много больше. Он богат.
– Это он-то богат? – усмехнулся Анций. – Добрая половина Рима разбогатеет, когда он долги раздаст.
– Неважно.
– Конечно, – охотно согласился Анций. – Теперь, когда он префект преторианцев, это просто не может иметь значения.
– Я не то хотела сказать…
– Оставь, племянница. Твоя преданность бескорыстна, охотно верю.
Они помолчали.
– Но я не могла отказаться от пари, – принялась оправдываться Виния. – А на меньшую сумму и спорить неловко…
– С кем ты билась об заклад?
– С Гаем.
Табурет под Анцием заскрипел.
– Час от часу не легче. Римский претор! Я полагал, он достаточно взрослый, чтобы не поддаться дурному влиянию.
– Я должна была поддержать Меппа! – горячо воскликнула Виния. – Он клянется, что его никто не сумеет обойти. Мол, у него лучшая упряжка во всей империи. Я и сама так думаю. И вдруг он узнал бы, что я отказалась держать пари!
– Так Мепп бывает здесь?
– Каждое утро является меня приветствовать, как и положено доброму клиенту.
– В этом доме собирается все римское отребье, – заметил Анций. – Только гладиаторов не хватает для полного счета.
Виния прихлопнула рот ладошкой. На днях кто-то упрашивал ее пригласить бестиария Карпофора. Ах, да, Септимия, молодая жена дряхлого мужа. Ну, ни за что! Скорее она пригласит тигра или ягуара, из тех, что безжалостно убивает доблестный Карпофор.
– Мепп – отпущенник моего отца, – напомнила Виния.
«Ручаюсь, – говорил Тит Виний, покачивая огненной головой, – этот мальчишка возьмет все призы: и пальмовые ветви, и венки, и золото, если, конечно, прежде не свернет себе шею».
Снова воцарилось молчание. Наконец, Анций поднялся.
– Уже середина ночи. Я своей болтовней не даю тебе спать – тоже целитель нашелся.
Виния проводила дядю до порога, а затем на цыпочках вошла в комнату Панторпы.
– Она спит, госпожа, – послышался из темноты голос Намии, рабыни-эфиопки. – Благородный Анций велел дать ей вина с сонной травой. Она спит.
– Вот как? – Виния улыбнулась. – Хорошо.
Корнелий Фуск снял с ее плеч одну заботу, дядя Анций – другую. Виния легла и, несмотря на лихорадку, сумела уснуть.
* * *Десять лет в легионах – шаг легок и тверд, подбитые гвоздями подошвы звонко стучат по мостовой. На левой руке – золотое запястье – почетное отличие за участие в Британской войне. На груди, под панцирем – длинный белый шрам. Да, Марк знает, что такое мечи варваров. Повидал он их горные убежища, повидал боевые колесницы: начинал службу не в столице, среди портиков и таверн – в знаменитом Четырнадцатом легионе, под командованием таких военачальников, как Юлий Фронтин и Юлий Агрикола. Был ранен, был награжден, дослужился до центуриона второй когорты, был замечен, переведен в преторианскую гвардию, и здесь получал повышения.
Десять лет службы за плечами. С восемнадцати лет в легионах. Алый султан на шлеме, привычная тяжесть доспехов.
Марк положил руку на меч: впереди, в проулке смутно шевелилась какая-то темная масса. Парис жил на Авентине. Не успел, или не хотел перебраться в богатый квартал. Марк усмехнулся, представив, как смотрелись на узких улочках Авентина роскошные носилки Домиции, если и впрямь Августа подарила актера вниманием. Или ей приходилось тунику рабыни надевать?
Марк помотал головой. Нет ему дела ни до Августы, ни до городских сплетен. Но если на мгновение позволить себе забыться… И вообразить некую знатную девушку в платье рабыни, спешащую на свидание с преторианцем…
Меч с легким свистом вылетел из ножен. Темная груда распалась на отдельные фигуры, послышался звон черепков, разбитый кувшин покатился под ноги Марку, расплескивая содержимое. В воздухе растекся кислый запах дешевого лигурийского вина. Темные фигуры забились в какие-то невидимые щели. Многолетний опыт подсказывал обитателям трущоб, что стук солдатских сапог да звон меча ничего доброго не сулят.
В левой руке Марк держал факел. Свет пробегал по стенам домов, наглухо запертым дверям и ставням лавок. Порой в щели пробивался ответный лучик, доносились звуки перебранки, а то и шум потасовки, детский плач. Громко хлопали двери таверн. Завсегдатаи удалялись нетвердой походкой, поддерживаемые женщинами в алых и лиловых одеяниях, иногда такими же пьяными, как они сами. Марк все время слышал шаги: то стремительные, то крадущиеся; но и встречные, и невольные попутчики одинаково избегали попадать в пятно света.
Марк кивком спрашивал у Париса дорогу, актер указывал – также безмолвно. Возможно, стоило удивиться: почему великий Парис, гордость Рима, избрал обиталищем Авентин. В память о тех днях, когда оборванным мальчишкой бегал купить хлеба на асс в ближайшую таверну? Когда Нерон казнил его отца, вдова с двумя детьми укрылась в самом бедном и грязном квартале города. Сестра Париса умерла… Марк слышал, как судачили об этом на Форуме.
Марк несколько раз бывал в театре – сопровождал императора. Видел Париса в «Агамемноне» и в «Алкесте». Стыдно признаться, но он, Марк, воин, отслуживший десять лет, центурион, которому поручена была охрана священной особы императора, начисто забыл о службе и долге, едва началось представление. Марк помнил, как он, придирчиво окинув взглядом цепочку солдат, мельком, без любопытства взглянул на сцену. И все. Очнулся он, только когда занавес, поднятый из особой щели в полу, скрыл актеров, когда грянули аплодисменты. Он влажными пальцами сжимал рукоять меча, все тело затекло, похоже, за время представления он ни разу не пошевелился, с ноги на ногу не переступил. Если бы рядом с ним заговорщики набросились на императора – не заметил бы. Такого стыда он не переживал с первого своего боя, когда от растерянности едва не зарубил кого-то из своих. Но тогда он был юнцом. А теперь… Непростительно.
Марк искоса взглянул на Париса. Верно, актеру было бы лестно услышать эту историю. Парис, в свою очередь, быстро посмотрел на него. Марку в его взгляде почудился вопрос, что ли.
Догадаться Марк не успел. Со стороны Большого цирка появился отряд городской стражи. Лицо Марка начала заливать краска, губы презрительно сжались. Он смотрел прямо перед собой, в упор не замечая встречных. Между преторианцами и городской стражей существовала давняя вражда.
Парис замедлил шаг. Марк требовательно мотнул головой, но актер и не думал подчиниться. Он смотрел на приближавшихся как бы в нерешительности. Марку пришлось остановиться.
Городские стражи прошли совсем близко. Командовавший ими трибун грубо оттолкнул Париса в сторону. Марк стиснул зубы – затевать ссору не имело смысла. В неравной схватке доверенного ему актера могли всерьез искалечить. Марк хорошо запомнил стеклянные глаза и перебитый нос трибуна. Когда-нибудь он вновь встретится с этим человеком. Но ярость еще не остыла, и Марк резко сказал Парису:
– Идем.
Актер, смотревший вслед солдатам, повернулся. Лицо его было неподвижно.
– Ты можешь убить меня теперь, если хочешь. Здесь достаточно темно и пустынно.
Марк открыл рот. От удивления он просто прирос к мостовой.
Парис неожиданно рассмеялся.
– Урок мне, – сказал он. – Вот как надо отыгрывать изумление.
Он снова засмеялся и покачал головой. Марк все не мог опомниться.
– Префект Фуск и впрямь печется о моей безопасности? – чуть насмешливо спросил Парис. – Что он приказал тебе?
– Ты же слышал. Проводить тебя до дома.
– И все?
– Да.
– Ну, идем, – Парис, посмеиваясь, направился дальше.
Марк следовал за ним, мучительно пытаясь осознать случившееся. Наконец, ему удалось выстроить цепочку: Парис – Августа Домиция – император – префект Фуск. Если император и впрямь гневается на актера, приказ должен будет выполнить префект Фуск. Марк сказал:
– Отправься я с иным поручением, Виния Руфина не была бы так спокойна.
– Не переживай, тебе еще представится случай отличиться, – сказал Парис, и сам почувствовал, что шутка вышла неудачной.
В молчании они отправились дальше. Свет факела так же озарял стены домов, закрытые ставнями окна. Шаг Марка оставался так же легок и стремителен, но… Мысли его не были ни светлы, ни легки.
Не зря шептались болтуны на Форуме. Августа Домиция заметила актера. Заметила и отметила. Император не простит оскорбления. Дерзкий актер обречен. Обречен… И знает это! Недаром оглянулся на солдат – защиты искал. Своего провожатого боялся. Был уверен: префект Фуск уже получил приказ, центуриона послал исполнить.
Марк невольно замедлил шаги. Так и будет. Домициан повелит префекту Фуску, префект Фуск скомандует преторианцам… Кому именно? Ему, Марку? Скверно стало на сердце. Очень скверно. В Британии он против врагов меч обнажал, против варваров. Против кого поднимет меч в Риме? Редкую доблесть проявит – беззащитного актера сразит?
Этим вечером они с Парисом возлежали за одним столом, разделяли угощение. Даже одну виноградную гроздь потянули в разные стороны! Марк вспомнил, как подал Панторпе очищенного рака, а та замешкалась взять – засмотрелась на Париса.
Внезапно ему представилось Панторпа, бьющаяся на земле подле убитого актера. Марк даже головой тряхнул, отгоняя наваждение, так ясно увидел, как волосы девушки полощутся в пыли, а под ногти ей забивается грязь и черная запекшаяся кровь.
Марк скосил глаза на Париса. Тот шел, беспечно помахивая рукой. Бормотал что-то. Что? Слова новой роли? Значит, уже не боялся. Понял – в эту ночь умирать не придется. А может, вовсе не придется умирать?
Недаром префект Фуск твердил про великодушные Афины и залитый кровью Рим. Предупреждал актера, хотел уберечь от беды. Марк чуть не хлопнул себя по лбу. «Вот растяпа! Полководцы не зовут солдат за пиршественный стол. А тебя нынче удостоили подобной чести. За какие заслуги? Тебе доверили охранять актера. Вряд ли завтра прикажут его убить. Подумай, чего от тебя ждут!»
Марку казалось, он это понял. Понял и другое: «Тому, кто ослушается императора, не сносить головы».
– Мы пришли.
Парис остановился возле многоэтажной инсулы. Запрокинул голову, как делал всегда, подходя к дому. Поискал глазами оконце на пятом этаже. Когда-то он ютился в крохотной комнатушке под самой крышей. В жару терял сознание от удушья, да и в холод задыхался от чада маленькой жаровни с углями. В те дни хозяин не помнил его имени, а хозяйка требовала большей платы и грозилась выгнать из дома.
Сейчас Парис занимал пять комнат внизу, пять лучших комнат. Хозяин всегда приветствовал его первым, а хозяйка присылала разные угощения. Парис был вежлив с обоими, и они думали, что он забыл прежние дни.
Но он помнил. Помнил не потому, что голодал и задыхался. Именно в те дни он встретил своего первого учителя – Филиппа, грека из Македонии. Когда-то Филипп блистал в Афинах, но внезапно лишился голоса. Ему не удалось собрать труппу, и Филипп отправился странствовать по городам. Нанимался в чужие труппы, обучал новичков азам актерского мастерства. Впрочем, он редко находил учеников и жил впроголодь.
Маленький Парис познакомился с этим человеком, благодаря скупости хозяйки. В тот день на хозяйской кухне жарились пирожки с печенкой, и по всему дому растекался аромат, от которого захватывало дыхание и кружилась голова. За один такой пирожок Парис готов был отдать полжизни, но надеяться на угощение не приходилось. Он знал, что если осмелится заглянуть в кухню, услышит:
– Ступай прочь, голодранец.
А может, и тяжелой хозяйской длани отведает. Поэтому Парис стремглав слетел с пятого этажа. Буквально скатился по лестнице, стараясь не дышать и торопясь как можно скорее оказаться на улице.
Выскочив за дверь, он едва не сбил с ног седого человека, закутанного в потрепанный шерстяной плащ. Палило солнце, но старик дрожмя дрожал и потирал руки, словно в стужу.
– Как безумный вихрь, он бежит отсюда,Мчится, словно Кор, уносящий тучи,– заметил старик, покачнувшись.
– Мчится, как звезда, что порывом ветраСметена с небес и в полете светлыйСлед оставляет,– выпалил Парис в ответ.
На него в упор глянули черные глаза, и Парис подумал, что встречный не стар, совсем не стар. Конечно, он сед, но разве не седеют прежде срока?
– Откуда ты знаешь эти строки, мальчик?
Парис не мог объяснить. Слова сами вспыхнули в памяти. Может, он затвердил их в ту пору, когда отец, вышагивая по комнате, вполголоса повторял речи героя и подыскивал жесты, подходящие словам. Может, помнил с тех дней, когда мать, успокаивая плачущую Левкою, напевала ей вместо колыбельной стихи.
Старик опустился на ступеньки.
– Прочти-ка еще, что знаешь.
И Парис прочел. Стихи и отрывки, целые пьесы и отдельные строки. Солнце пересекло небо и скрылось за холмом, а Парис все читал, забыв про сосущую пустоту в желудке. Старик же сидел, закутавшись в плащ, опершись локтями о колени и опустив подбородок на сжатые кулаки.
Когда же Парис замолчал – не оттого, что больше ничего не мог припомнить, просто язык перестал ворочаться, уже не старик, а человек во цвете лет, но рано поседевший, поднялся на ноги, расправил плечи, уронив к ногам потрепанный плащ, и громыхнул на всю улицу:
– Я буду тебя учить, мальчик!
…С тех пор прошло много лет, но каждый раз, как Парис брался за новую роль, в его ушах раздавался хрипловатый надтреснутый голос, твердивший:
– Не спеши, ты не в бою. Смотри на нее, мечтай о ней. Тогда слова потекут широко и плавно, а не грянут боевым кличем… Не мямли, ты не скупец, через силу зовущий гостей на пир, ты полководец перед боем! Подумай, во имя чего идешь на смерть!
Вспоминая голос учителя, Парис вспоминал и себя, босоногого юнца со впалыми щеками и вечно разбитыми коленками. Тогда, именно тогда, он открыл и почувствовал в себе великую силу: превращаться в других людей – трусов или героев, говорить их словами, совершать их деяния, слышать их сердце в своей груди.
В память тех дней, того счастья, он и поднимал голову к маленькому оконцу под крышей.
Взглянув на окна своего нынешнего жилья – жилья, в котором горел свет и суетились слуги, Парис задумался о том, сколь шатко его нынешнее благополучие. Что ждет впереди? Домициан разъярен. Домиция…
Стоило подумать о Домиции, как вспоминался душный закат над городом. В ту пору горячий ветер дул с юга, дул много дней подряд, доводя до изнеможения. В такие дни горло пересыхало, губы лопались, а вместо голоса вырывался хрип. Актеры давали представление в доме сенатора Домиция Тулла. Раб едва успевал подавать им сухие туники. Из-под масок капал пот. Актеры дышали со свистом. Хотелось сорвать маски, глотнуть ледяной воды, упасть ничком на ложе. Шершавый язык царапал небо, а пить было нельзя – голос сядет, жажда разгорится нестерпимо. Зрителям тоже было жарко, душно, муторно. Они вяло двигались, сонно смотрели, медленно думали.
– Легче растрогать рыб на сковородке, – сетовали актеры, возвращаясь с подмостков и слыша жидкие хлопки распаренных ладоней.
В сгустившемся воздухе слова вязли мухами в меде. Оцепенение охватывало и актеров, и зрителей. Спектакль не шел. То ли к концу дня исчерпались силы, то ли жара стала непреодолимой, но жесты героев не были наполнены чувством, а их речи – смыслом. Актеры спешили произнести текст, лишь бы скорее избавиться – и от слов, и от героев, и от зрителей.
Равнодушие актеров передалось зрителям, равнодушие зрителей – актерам. Чем громче зевали зрители, тем хуже играли актеры.
Парис видел, что спектакль гибнет, но не знал, что делать. И в эту минуту отчаяния и паники, он ощутил взгляд.
Сенатор Домиций Тулл, его домочадцы и гости занимали кресла, расставленные прямо во внутреннем дворе. Из дверей и окон, выходивших в перистиль, глазели рабы и вольноотпущенники. Только одно окно было задернуто легкой занавесью. Именно оттуда на актеров был устремлен взгляд, который Парис ощутил, как удар бича. Так охотник смотрит на дичь, так воин перед боем смотрит на приближающихся врагов.
Именно этот взгляд пробудил гордость Париса. Гордость Париса-Аякса, великого полководца, сразившего многих доблестных воинов, но прогневавшего богов и по их воле обратившего свой меч против овец.
Теперь духота не мешала актеру, нет. Из такого же душного тумана выбирался Аякс. Медленно, постепенно рассеивался дурман. Медленно осознавал Аякс, что напрасно воображал себя победителем. Он побежденный.
Парис не сомневался: каждому человеку случалось испытать подобное. Мнить себя на вершине и вдруг низвергнуться в пропасть. Каждому доводилось спрашивать себя: как это пережить? Аякс пережить не мог. Он умирал, умирал под трепетные вздохи зрителей. Парис уверился: ему удалось коснуться сердец.
Актеры снискали настоящие аплодисменты. Гости не спешили расходиться. Лишь произнеся множество похвальных фраз, отправились в триклиний – пировать и обсуждать игру актеров, текст пьесы и собственные чувства.
Актеров отослали, вознаградив. Только Париса хозяин просил обождать. Парис догадывался – зачем. Когда внутренний двор опустел, слегка качнулась занавесь на окне. Парис ждал. Через несколько мгновений во двор вышла женщина.
Парис не был готов к встрече с Августой, но быстро опомнился. Эта женщина имела славу особы, легко потакавшей своим прихотям. Ее внимание могло только польстить актеру. Он привык к восторженным взглядам и нежным речам жен сенаторов и теперь с легкой улыбкой ожидал признаний от жены императора.
– Рабам нужна плеть, – сказала она негромко. – От тебя я ждала большего.
Парис почувствовал, как в сердце просыпаются гнев и ярость Аякса.
– Ждала, что я брошусь на настоящий меч – ради твоей забавы?
Желтоватые глаза ее смотрели не мигая. Этот взгляд напоминал о том, как лучезарный Аполлон снял с сатира Марсия кожу – за дерзость и скверную игру.
– Ты дерзок, – сказала Домиция Лонгина. Не упрекала, не ободряла. Просто утверждала. Мгновением позже спросила: – Почему ты молчишь?
– Боюсь укрепить тебя в этом мнении.
Взгляд ее по-прежнему был острее лезвия меча.
– Плохо сыграть ты не боялся.
– Я не знал, что опечалю твой взор, – огрызнулся актер.
– И не знал, что опозоришь свое ремесло?
Полные губы ее изогнула презрительная усмешка. Домиция понимала, что права, и что это ему прекрасно известно. С ней спорил не актер, спорил мужчина, уязвленный в своей гордости. Она смотрела на него – великолепная в своем царственном неодобрении, величаво-невозмутимая. Гнев Париса ранил ее не сильнее, чем пенные брызги фонтанов ранят мраморные изваяния.
Парис чувствовал, что, оправдываясь, становится смешон, и рассердился еще больше. Сейчас мнение всего Рима тревожило его меньше, нежели мнение этой гордой и властной женщины. Собрав все силы, он заставил себя успокоиться и рассмеялся, признавая поражение.
– Случается и воину промахнуться.
– За это он платит жизнью, – приговорила безжалостная Домиция Лонгина и направилась прочь.
Она не просто уходила – величественно удалялась, как удаляется победитель от распростертого на земле врага. Он воскликнул вслед, забыв, что обращается к Августе, желая доказать, что еще не побежден:
– Будь у всех зрителей твой взгляд…
Она остановилась и только слегка повернула голову.
– Что же тогда?
Он хотел сказать: «Тогда из воображаемых ран потекла бы настоящая кровь». Но вместо этого вспомнил, что она, именно она, одним своим присутствием спасла спектакль, и сказал:
– Твой взгляд придал мне силы.
Тотчас подумал, что она вновь уронит презрительное: «Рабам нужна плеть». А еще подумал, что ничья брань не жгла больнее. И еще – как сладко удостоиться ее похвалы.
Она бросила через плечо:
– Хочешь играть для меня?
– Да, – ответил он, глядя на ее белую и округлую щеку, на столь же белый и округлый локоть, с умыслом выставленный из-под покрывала.
В тот миг Парис ясно осознал, почему Домициан отнял эту женщину у ее первого мужа. Это была нелегкая победа – даже для Цезаря. Верно, не раз ему приходилось, забыв о царственном величии, падать на колени и умолять.
«Домициан предложил ей порфиру. А что может предложить актер?»
Она повернулась и наградила Париса насмешливым взглядом, показав, что прочла его мысли. «Хорошо, – подумал он, вспыхнув яростью, – римляне склоняются перед порфирой владыки, склоняются со страхом. Но они склоняются и перед талантом актера, склоняются с любовью. Склонится и эта гордая римлянка».
Домиция снова усмехнулась и пошла прочь. Парису хотелось, чтобы она еще раз оглянулась, но она ушла, не оглядываясь. Он сказал себе в утешение: «Чем труднее битва, тем слаще победа».
Он добился от нее похвал. Добился и клятв. Добился слов, которых – Парис не сомневался – от нее не слышал никто, даже император.
Гнев Домициана понятен. И все же… Все же Парис был уверен: императору, конечно, ненавистен Парис-человек, затронувший сердце и чувства Августы. Но сильнее ненавистен – Парис-актер, пробудивший души и разум зрителей.
Значит, грозный приговор не отменен, а только отложен.
Парис с силой втянул холодный ночной воздух. Успеет ли он сыграть «Антигону»? Только бы успеть!
– Мы пришли, – повторил Парис, видя, что центурион не уходит.
– Войди в дом, – ответил Марк.
– Тогда ты доложишь, что поручение исполнено? – улыбнулся Парис.
Марк не ответил на улыбку. Лицо актера тоже стало суровым.
– Благодарю, – коротко сказал он и перешагнул порог.
* * *Ранним утром Виния Руфина, приняв лекарство Зенобия, посмотрела на себя в зеркало, потянулась за румянами, безнадежно махнула рукой, облачилась в голубой шелк – лица нет, так хоть волосы оттенить – и вышла к гостю, спозаранку явившемуся ее приветствовать.
Гость был невысок, жилист, загорел до черноты и одет в ярко-синюю короткую тунику.
– Мепп! – воскликнула Виния. – А я-то думала, кто пренебрег гонками колесниц: обычно все, опережая друг друга, торопятся занять места в цирке.