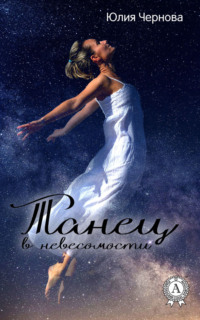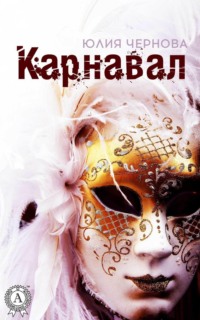Полная версия
Пятый легион Жаворонка
Вскоре она вернулась к ожидавшему ее префекту – освеженная, в белом платье из египетского льна. Платье, безусловно, шло ей, и все же столь скромный наряд на Палатине сочли бы смешным. А вот ожерелье, лежавшее на ее плечах, казалось достойно самой Августы. Крупные изумруды, нефрит, отшлифованный до тонкости цветочного лепестка, густо-синие сапфиры и золотистые топазы соединялись между собой несколькими рядами золотой проволоки, переплетенной самым замысловатым образом. Застегивалось ожерелье золотыми крючочками, сделанными в виде соколиных голов. Спереди крепилась лазуритовая подвеска: священный жук-скарабей. Весь Рим говорил об этом ожерелье и о том, как оно попало к Винии.
– Если желаешь, покажу тебе дом, – предложила Виния.
Фуск желал. Они вернулись в атрий, и тут старик Гермес сообщил, что госпожу спрашивают какие-то люди.
– Для гостей рано, – удивилась Виния. – Что ж, проводи их сюда.
В атрий бодрым шагом вошел центурион Марк Веттий. Приветствовал Фуска, затем Винию.
– Префект, я привел лекаря.
Из-за спины центуриона появился маленький человечек, смуглый, лысый, с роскошной курчавой бородой, спускавшейся до пояса. За ним – черноволосый подросток, несший ящик с лекарствами.
– Ты намерен в моем доме распоряжаться, как у себя в лагере? – Виния возмущенно обернулась к Фуску.
Лекарь шагнул вперед.
– Не надо злиться, прекрасная госпожа, – произнес он густым, бархатным голосом. – От этого только портится цвет лица и появляются морщины.
– Великая мудрость, – подхватил префект.
Виния метнула на него уничтожающий взгляд.
– От моих снадобий еще никому не становилось хуже, – заявил лекарь, жестом подзывая раба с ящичком.
– Трудно поверить, – Виния источала яд. – По-моему, Марциал метко сказал:
«Был костоправом Диавл, а нынче могильщиком стал он:Начал за теми ходить, сам он кого уходил».[2]Лекарь не обиделся.
– О, госпожа, я пользовал Цезаря Веспасиана…
– И он умер здоровым, – перебила Виния. – А цезаря Тита тоже ты лечил?
– К Цезарю Титу меня не допустили, – ответил лекарь, переглянувшись с Корнелием Фуском: о смерти Тита ходили странные слухи. – Соблаговоли, госпожа, дать мне руку. Биение пульса может многое сказать опытному целителю.
Виния, смирившись, подала руку.
– Что ж, оракул, каков приговор?
Целитель прикоснулся смуглыми пальцами к ее запястью. Слушал долго, сосредоточенно. Фуск напряженно ждал слов лекаря. Наконец, Зенобий выпустил руку Винии.
– Пока это только простуда.
– Но если не принять мер, обернется тяжкой болезнью, – подхватила Виния.
Лекарь улыбнулся в бороду.
– Как ты мудра, госпожа. Изволь принять это… и вот это…
Он тщательно отмерил порошки.
– Нет, нет. Запивать не вином, только водой.
Виния послушно проглотила лекарство и вопросительно посмотрела на лекаря.
– Я оставлю порцию на вечер, – заявил бородатый целитель. – Утром зайду тебя проведать.
– Утром скачки! – вскипела Виния.
Целитель рассмеялся.
– Твой дух, госпожа, одолеет любую немощь. Я зайду днем.
– Ты и впрямь хороший лекарь, – рассмеялась уже и Виния.
– Я твой должник, – обратился префект Фуск к Зенобию тоном, сулившим щедрую награду.
Довольный целитель ушел. Центурион Марк вопросительно посмотрел на префекта, ожидая позволения удалиться. В глазах Фуска тенью прошла какая-то мысль.
– Хорошо, Марк, что ты здесь, – медленно проговорил Фуск, взглядом прося Винию пригласить центуриона.
– Будь моим гостем, – радушно улыбнулась Виния, с любопытством оглядев преторианца, на которого до той поры не обращала внимания. «Типичный римлянин – сухощавый, темноволосый, кареглазый. В каждой черточке лица – решимость пополам с упрямством».
Центурион заметно смутился, не зная, как ответить на неожиданное приглашение. Решив принять, как приказ, коротко кивнул.
– Гермес! – крикнула Виния в глубину коридора. – Позови Панторпу.
Спустя несколько мгновений в атрии появилась девушка лет шестнадцати в простой черной тунике, с широким серебряным браслетом на левом запястье, рослая и, судя по виду, очень решительная. Черные, широко поставленные глаза взирали на мир с нескрываемым любопытством.
– Панторпа, позаботься о госте, – Виния кивнула на центуриона. – Развлеки его. Можешь что-нибудь прочесть…
В черных глазах девушки отразилось удовольствие. Поклонившись, она предложила центуриону следовать за ней и направилась вперед, указывая дорогу. Марк охотно повиновался, предпочитая хоть на время исчезнуть с глаз префекта.
Фуск повернулся к Винии.
– Прости, навязал тебе гостя, – сказал он.
Виния фыркнула.
– Соль на раны Гермеса. Верно, улиток покупал по счету – на каждого.
– Прекрасная, я не люблю улиток.
– Ценю твое самопожертвование. Однако обед готовился именно для тебя, так что попробуй хоть чего-нибудь не съесть, – заключила Виния угрожающе.
Фуск засмеялся.
– Эта Панторпа – рабыня или вольноотпущенница? Держится очень уверенно.
– Рабыня, – Виния забеспокоилась. – Тебя не оскорбит ее присутствие за столом?
– Ну, если уж императору Нерону не претило соседство Акты… – отозвался Фуск.
Виния благодарно улыбнулась.
– Я бы давно освободила Панторпу, однако хочу, чтобы она стала не просто вольноотпущенницей, а получила римское гражданство. Но ты же знаешь, как это трудно.
– Сколько ей лет?
– Шестнадцать. Панторпа родилась в тот год, когда убили моего отца. Она очень похожа на свою маму – по счастью, только внешне; ее дурного нрава не унаследовала. Энону никто не назвал бы женщиной чистой и доброй. Впрочем, за прошедшие годы она могла измениться к лучшему… Я отпустила ее почти сразу после родов. Раньше не хотела – боялась, станет плохо заботиться о ребенке… Недавно повстречала – в раззолоченных носилках. К моему величайшему изумлению, Энона соизволила меня узнать и даже приветствовала коротким кивком.
Фуск предположил, что черноглазая Панторпа – сводная сестра Винии, дочь ее отца от одной из наложниц.
– Панторпа боготворит Париса, – весело продолжала Виния. – Он обещал взять ее в труппу. Панторпа уже мечтает о ролях Медеи и Федры… – Виния на мгновение замолчала, потом спросила. – Зачем тебе понадобился этот центурион?
– Пока не знаю, моя Виния. Всякое может случиться, а он человек надежный.
Не задавая более вопросов, Виния повела гостя осматривать дом: обширную библиотеку, просторный хозяйский кабинет-таблин, большой триклиний и комнату над ним, предназначенную для трапез в узком семейном кругу, огромные термы… Они миновали ряд крохотных, пустых комнат, вероятно, бывших спален. Гулко отдавалось эхо шагов. Дом казался нежилым. Кругом тишина. Мебели мало. Росписи на стенах кое-где облупились. В мозаиках – выщерблины. Между мраморными плитами пола – трещины.
– Если бы ты видел прежнее великолепие! – воскликнула Виния. – Вот здесь – статуя Эрота из слоновой кости, стрела с золотым наконечником, казалось, нацелена тебе прямо в сердце. Маленькие серебряные дельфины и тритоны у фонтанов. Столы и ложа из ливанского кедра, черного дерева, коринфской бронзы…
– Жалеешь о потерянном?
– Нет, – с силой сказала Виния. – Отец принял смерть из-за этих богатств, так мне ли жалеть о них? Моя утрата страшнее.
Фуск чуть сжал ее руку.
Они сидели на мраморной скамье в перистиле. Неумолчно стрекотали цикады, им подпевал фонтан. На фоне белых стен черными силуэтами темнели кипарисы. Перистильный дворик зарос травой, белые лилии, высаженные у фонтана, наполняли все вокруг дурманным ароматом. Старая дуплистая олива угрожающе накренилась. Лохматая собака, дремавшая в углублении меж корней, заскулила во сне.
– Циклоп! – ласково окликнула Виния.
Пес поднял голову, сонно приоткрыв единственный глаз, дружелюбно забил хвостом, и тут же снова уронил голову на лапы.
Темнело. Сквозь густые полоски лиловато-серых облаков пробивался последний солнечный луч. Со стороны кухни долетали голоса, тянуло запахом жаркого. Две кошки под окном требовательно выпрашивали подачку. На галерее замелькали факелы: слуги относили кушанья в пиршественный зал – экус.
– Сейчас появятся гости, – спохватилась Виния.
Они поднялись и направились в триклиний, к Панторпе и оставленному на ее попечении центуриону.
Сразу стало ясно, что Панторпа – девушка добросовестная и всерьез отнеслась к возложенному на нее поручению. Гостю скучать не пришлось. В тот миг, когда Виния и Фуск показались в дверях, Панторпа стояла в центре комнаты, на том самом месте, где должен был располагаться стол, и, заламывая руки, читала монолог Октавии. Стол же, заполненный блюдами с виноградом, грушами, персиками, орехами был отодвинут в сторону, гостю до всего этого великолепия даже дотронуться не пришлось. Панторпа усиленно потчевала его бессмертным творением человеческого гения. Судя по вытянутому лицу центуриона – переваривал с трудом. Правда, как истинный воин, терпел без стонов и жалоб. Разве что взгляд его нет-нет да и обращался к недоступному столику.
– О, Фортуна моя, не сравнится ничьяЗлая доля с тобой…– восклицала Панторпа неестественно-низким голосом, воздевая руки к потолку.
Гость, кажется, вполне разделял ее обиду на богов.
Виния уже открыла рот, чтобы прервать Панторпу, но та, увидев вошедших, воодушевилась и перешла к причитаниям. И тут над ее головой загремел голос:
– Панторпа, уймись!
Девушка испуганно оглянулась. У окна, выходившего на галерею, стоял человек и яростно грозил ей кулаком. Панторпа испуганно втянула голову в плечи. Спустя мгновение новый гость появился на пороге. В комнате сразу стало тесно. Гость был на голову выше всех присутствующих, темные глаза его смеялись, в голосе громыхал гнев.
– Панторпа! Если хочешь исторгнуть у зрителей слезы, никогда не плачь сама, – его густой сочный голос заполнил комнату. – Можешь рыдать от слабости, растерянности, страха, наконец, от радости. Но в минуты величайшего горя – нет, нет, и нет. Зрители ждут от тебя именно слез. «Ну, понятно,» – говорят они, сочувствуя героине и слегка зевая. Нет, если хочешь потрясти тех, кто на тебя смотрит – забудь о слезах.
Тут Панторпа разревелась по-настоящему и выбежала из комнаты.
– Парис! – воскликнула Виния Руфина. – Ты слишком суров, – и, тоном ниже: – как я рада тебя видеть.
Только сейчас она осознала, в какой тревоге пребывала весь вечер. Тайный страх изматывал, высасывал силы. Теперь можно успокоиться. «Все будет хорошо, Фуск предостережет Париса. Актер спасен. И префект не нарушит приказа. Нечего опасаться императорского гнева».
– Как я рада видеть тебя, Парис, – повторила она так тихо, что актер не расслышал.
– Девчонка ленива, – говорил он. – Память у нее превосходная. «Октавию» запомнила со второго чтения. Голос сильный. Есть и главное: она верит в то, что делает. Но лень необоримая. Думает, можно сыграть сразу, по наитию. Труд, труд, тяжелый труд.
«Ни старанье без божьего дара, ни дарованье без школы хорошей – плодов не приносят».Фуск, прищурившись, наблюдал за гостем Винии Руфины. Впервые он видел великого актера так близко. Парис, сын актера Париса, казненного Нероном. По одним слухам, император расправился с актером из зависти, по другим – за сочувствие к христианам. Якобы Парис отказался начать представление, должное окончиться казнями.
По общему мнению, сын превзошел отца. Да, Фуск первым готов был признать: Парис – великолепен. Сейчас он с блеском играл хозяина труппы, раскрывающего непосвященным секреты своего мастерства.
– Жест должен быть скуп – тогда зритель обратит на него внимание. Что проку молотить руками по воздуху, словно ветряная мельница. Утомлять взгляды и только.
Тут Парис поднял руку, точно Юпитер, собирающийся метнуть молнию, но вместо этого быстро прижал ладонь к губам, как человек, который слишком заболтался. Развернулся всем корпусом к префекту Фуску, словно напоминая: вот кому должно быть отдано предпочтение.
Корнелий Фуск слегка коснулся ладонью ладони, изображая аплодисменты. Нимало не сомневался: Парис заметил его в первое же мгновение, но столь блестяще разыграл неведение, что и сейчас сумел остаться в центре внимания.
– Приветствую тебя, префект, – сказал Парис.
– Ты знаешь меня?
– Как не знать: ты – правая рука императора. Для меня большая честь оказаться за одним столом с тобой, – в тоне Париса ясно чувствовалось, как охотно он уклонился бы от этой чести.
– Что ж, Парис, можешь гордиться, тебя знаю не только я, но и сам Цезарь. Знает и помнит.
Виния Руфина быстро переводила взгляд с одного на другого. В темных глазах Париса промелькнула тревога. Спустя мгновение, он улыбался.
Виния повернулась к центуриону.
– Марк, – сказала она с бесцеремонностью хорошенькой женщины. – Не откажись исполнить просьбу.
Марк хотел ответить в том духе, что готов служить прекрасной хозяйке, но он и прежде не был красноречив, а ныне присутствие начальника и вовсе сковывало язык. Поэтому ограничился кивком.
– Пожалуйста, поищи во дворе Панторпу. Она, верно, на скамейке под оливами, это ее любимое место. Позови, иначе проплачет весь обед.
Марк повиновался.
Уже совсем стемнело. Лунный свет посеребрил листья олив, серебряными нитями протянулись струи фонтанов. Марк направился к мраморной скамье.
– Панторпа!
Никто не ответил, но через некоторое время послышался громкий всхлип. Марк пригляделся: Панторпа сидела на земле, прислонившись спиной к стволу оливы и обхватив руками колени. Одноглазый пес тыкался мордой ей в плечо, утешая.
– Пойдем. Обед готов.
Панторпа яростно замотала головой, показывая, что она не только обедать не пойдет, но вообще никому никогда не покажется на глаза, так и будет сидеть, пока не умрет голодной смертью.
– Зря убежала, – сказал Марк, присаживаясь на корточки рядом с ней. – Парис тебя очень хвалил.
– Неправда, – Панторпа вскинула голову.
– Правда. Говорит, у нее и голос, и память отличные.
Панторпа затаила дыхание, и Марк счел необходимым прибавить кое-что от себя.
– Говорит, боги ее щедро одарили. Второй такой в Риме не сыщешь.
Панторпа отерла рукой мокрое лицо.
– Так и сказал?
– Слово в слово. Знаешь, когда я начинал служить, у меня был командир похожий. Ох, как он нас распекал – до хрипа. И лоза по нашим спинам гуляла чаще, чем у других. Но когда с чужими разговаривал, послушать – так у него лучшая центурия во всем легионе, и новобранцы ему самые крепкие достались, и службу охотно несут, не в пример остальным. Это, знаешь, нрав такой: в глаза – бранить, за глаза – хвалить. А по мне, все лучше, чем наоборот.
Панторпа еще раз всхлипнула, но уже тише.
– Гермес устриц обещал подать, – сказала она подозрительно безразличным тоном.
– А мне понравилось, как ты читала, – заявил Марк. – Так и видел эту бедную… – тут он запнулся, потому что забыл имя героини. Панторпа прочла так много, что Марк запутался: о Медее, Федре или о ком-то еще шла речь? – эту бедную женщину… Мороз по коже.
Панторпа не сводила с него глаз.
– Знаешь, твой Парис судит слишком строго. На него не угодишь…
Договорить Марк не успел – Панторпа взвилась с места.
– Парис строго судит? Много ты понимаешь! Парис… он… он… Он велик, он добр, он возится с такой бездарью, как я, а ты, да как ты…
И она побежала к дому. Марк шел следом, посмеиваясь. В маленьком триклинии царило оживление. Прибыли новые гости. Гай Элий стоял в стороне, небрежно опершись ладонью о стол, и с улыбкой посматривал на сестру. Гай Элий находил, что Виния Руфина увлекается театром и актерами больше, нежели это приличествует порядочной женщине. И все же для человека, выросшего в доме Тита Виния и видевшего в юности все непотребства Нерона, это был столь малый и столь простительный грех…
Виния беседовала с мужчиной лет сорока, желтовато-смуглым, худощавым, с язвительной складкой тонких губ. Он держал в руках свиток, протягивал хозяйке, но в то же время отдергивал, не давая взять.
– Да, госпожа, переписчики вчера окончили работу. Можно посылать в лавку… Согласись, славный почерк, – он развернул свиток, издали показывая Винии.
– А содержание каково! – подхватила Виния, смеясь, зная, что как бы она ни была щедра на похвалы да угощение, подарка ждать нечего. – Завтра же пошлю купить.
– Да, мне удалась эта книга, – скромно заметил гость. – Послушай, как хороши эти строки… Или нет, вот эти… Нет, вот замечательный стих…
– Трудно выбрать лучшее, когда ищешь в собственной книге, – любезно заметил Гай Элий.
– Что поделать, среди нынешних поэтов нет равных Марциалу, – совершенно серьезно заметил Марциал.
– И по скромности тоже, – не унимался Гай Элий.
Марк возвел глаза к потолку. После представления Панторпы еще и стихи – это было уже слишком.
– Гермес подает мне знаки, что угощение готово! – воскликнула Виния.
Потрясенный Гермес обернулся к ней: уж о чем не собирался напоминать гостям, так это о трапезе.
Тут Марциал, наконец, выбрал достойнейшее произведение.
– Вот он, тот, кого вновь и вновь читаешь, —Марциал, по всему известный светуЭпиграммами в книжках остроумных:Славой той, какой, ревностный читатель,Наделил ты живого и в сознанье,Даже мертвый поэт владеет редко.Виния зааплодировала. Фуск широко улыбнулся, и на мгновение к нему обратились все взгляды. «Это же надо, прожить больше сорока лет и сохранить такую улыбку,» – поразился Марциал.
– Прекрасные стихи, – заметил префект и, поощряемый кивками Винии, прибавил несколько любезностей.
– Когда хвалишь себя, слова приходят сами, – не удержался Гай Элий.
– Не скажи, – прошептала Панторпа, – любой эпитет кажется недостаточным.
Марциал со сдержанным достоинством принял похвалы. По его мнению, гости могли бы и больше внимания уделить великому творению, а не рваться сразу к столу. Однако, решив быть к ним снисходительным, Марциал проследовал вместе со всеми в экус.
В серебряных курильницах дымились ароматные палочки алоэ. Белыми шерстяными покрывалами были укрыты простые деревянные ложа. Фуск с приятным удивлением обнаружил, что ему отведено почетное место – он уже ожидал увидеть выше себя Париса или Марциала. Место хозяина занял Гай Элий, Виния уселась у него в ногах. Введенный Нероном (точнее Поппеей) обычай возлежать и женщинам за пиршественным столом в этом доме не прижился. Панторпа села в ногах у Париса: судя по ее зардевшемуся лицу, она почитала это великой честью и не поменялась бы местами даже с хозяйкой. Приготовилась с обожанием взирать на актера весь вечер.
Двое рабов внесли накрытый стол. Рабыня-эфиопка, та, что помогала Винии в бане, украсила головы пирующих венками из роз.
Фуск из уважения к хозяйке попробовал каждое блюдо, нашел вкус – превосходным, а повара – непревзойденным. Панторпа оторвала восхищенный взгляд от Париса и с не меньшим восторгом (о, ветреность женщины!) обратилась к устрицам. Марциал ел с видом человека, мечтающего насытиться раз и на всю жизнь, и с заметным сожалением окидывал взглядом куски, какие уже не мог проглотить. При этом он не забывал похваливать хозяйку, в основном, жестами и мимикой, так как рот у него был постоянно занят. Центуриону Марку поначалу кусок в горло не шел. Лишь убедившись, что префект вовсе не обращает на него внимания, он дал себе волю. В лагере такого не отведаешь. Черноглазая Панторпа о нем заботилась, подпихивая то одно, то другое блюдо.
Виния почти ничего не ела, только пила маленькими глотками вино, разбавленное водой. На лицо ее снова легла тень усталости, губы почернели. Фуск нахмурился. «Неужели никто не видит, как она больна?» Посмотрел на гостей. Марциал одной рукой ощипывал виноградную гроздь, другой торопливо царапал что-то на вынутых из-за пояса восковых табличках. Марк перешучивался с Панторпой, очищая для нее раков. Парис…
Парис, облокотившись на брошенный в изголовье валик, расспрашивал Винию о предстоящих гонках колесниц. Она, смеясь, рассказывала что-то о гнедой кобыле, трех вороных и колеснице с бронзовой пантерой. Вряд ли актера волновали достоинства четверки и возможная победа «синих», но Винию это забавляло. И он слушал ее, радовался ее радости, переживал с нею каждый крутой поворот, который предстояло пройти квадриге. Временами он поднимал глаза, коротко взглядывал на префекта, словно спрашивая о чем-то, и продолжал беседу.
Когда восторги Винии чуть поутихли, актер обратился к Панторпе и предложил разыграть с ним на пару сцену из «Привидения» Плавта. Тут Панторпа едва сознание не потеряла от волнения и попыталась было отказаться.
– Не лишай гостей такого удовольствия, у тебя чудесно получается, – заметил Парис, и Панторпа, залившись краской, на негнущихся ногах вышла вперед.
Марциал, нахмурившись, отложил таблички. По его мнению, если уж чьи вдохновенные строки и должны были здесь звучать, так это его собственные. Марк со вздохом отодвинул блюдо с едой.
Парис выбрал для исполнения сцену, где влюбленный юноша приходит к своей подружке и случайно слышит разговор между ней и служанкой: девушка желает хранить верность возлюбленному, а рабыня уговаривает ее соблазниться подарками богатых поклонников.
Панторпа подавала реплики и за госпожу, и за служанку, а Парис, в роли влюбленного, исходил то яростью, то нежностью, смотря по тому, чьи речи слышал.
С первых же слов стало ясно, что сколь ни бездарно проявила себя Панторпа в трагедии, в комедии ей не найти равных. Ее служанка говорила на сто голосов: и попрекала, и улещала, переходила от соловьиного пения к львиному рыку, кудахтала встревоженной наседкой, казалось, устоять перед ее натиском было невозможно. Но трогательно-беспомощная героиня устояла. Она не обращала внимания на эти атаки, занятая делом необыкновенной важности: украшала себя к приходу возлюбленного. Требовала то белил, то румян, и служанка подавала – с неизменными уверениями, мол, ни за что не даст, госпожа и без того хороша.
Сцена все набирала и набирала темп, чем больше блеска являл Парис, тем вдохновеннее играла Панторпа – словно зеркало отражало солнечные лучи.
Актеры сохраняли полнейшую серьезность, зато зрители, не исключая язвительного Марциала и строгого Гая Элия, не могли удержаться от смеха. Парис то умилялся, то негодовал. Нежный лепет сменялся яростными угрозами, угрозы оборачивались любовными признаниями. Одно состояние так стремительно переходило в другое, что и хозяйка, и гости хохотали до слез. Вдобавок, актеры сумели сделать самое трудное: они сыграли любовь. Зрители готовы были поклясться, что забавные и трогательные герои всю жизнь проживут душа в душу. Сцена кончилась под гром аплодисментов. Парис учтиво наклонил голову. Панторпа взглянула на него и ответила на похвалы столь же величаво, вызвав новый взрыв смеха и рукоплесканий.
Возвращаясь на свое место, актер вновь коротко взглянул на префекта. И опять Фуск не разгадал этого взгляда.
Гай Элий, беспечно улыбнувшись, сказал:
– Если бы в обязанности претора входило устраивать такие и только такие зрелища, мне было бы трудно расстаться с должностью.
Виния Руфина, одновременно удивленная и торжествующая, воскликнула:
– О, Гай, это высшая похвала.
– На днях я посмотрел представление, устроенное Латином, – продолжал Гай Элий.
– Латин! – произнес Парис непередаваемым тоном.
– Сознаюсь, зрелища безвкуснее не доводилось видеть со времен Нерона. Давали «Геркулеса на Эте».
– Латин в роли Геркулеса?! – ужаснулась Виния. – Этот маленький, чернявый, кривляющийся сатир!
– Это еще можно было бы стерпеть, – перебил Элий. – Даже Тимелу можно было вынести в роли Деяниры.
– Конечно, – ввернула сестра, – могла ли супруга Латина остаться в тени?
– Так мало этого, им вздумалось воочию показать героя, всходящего на костер. Долго жгли чучело, да еще шевелили палками, чтобы больше было похоже на агонию умирающего. Зрелище тошнотворное. А запах… Вонь, клянусь, достигла верхних рядов амфитеатра. Пришлось провести остаток дня в бане – и волосы и одежда пропитались гарью.
Парис вздохнул.
– Еще сто лет назад сказал Гораций:
«Тем не менее, ты не все выноси на подмостки,Многое из виду скрой и речистым доверь очевидцам.Пусть малюток-детей не при всех убивает Медея.Пусть нечестивый Атрей человечьего мяса не варит»…– Латин не читал Горация. Или пренебрег… Думает, изобрел что-то новое. Увы, и в добродетелях, и в пороках мы только повторяемся… И сто лет назад, и, наверное, тысячу, люди думали о том же. Потому многие строки звучат так современно.
– Например, – подхватил Парис: -
«Корысть заползает, как ржавчина в души:Можно ли ждать, чтобы в душах такихСлагалися песни»…– А это, – заметил Гай Элий: -
«Чего не портит пагубный бег времени?Ведь хуже дедов наши родители,Мы хуже их, а наши будутДети и внуки еще порочнее».– Надеюсь, наших детей такая участь минует, – засмеялась бездетная Виния.