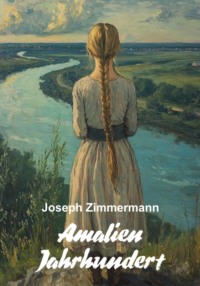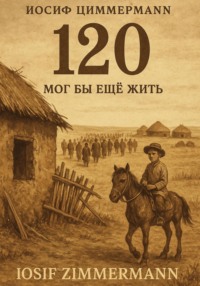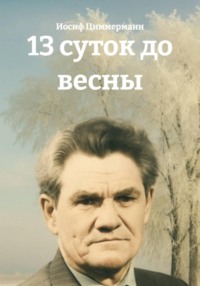Полная версия
Прошлого груз
Громко охая, женщина выпрямилась, прижимая продрогшие пальцы обеих рук к выпуклому круглому животу.
Приемный сын Нохчо стал своего рода счастливым талисманом, личным аистом для их семьи. Долгие бездетные годы остались позади. Дамежан впервые забеременела.
Она подарит Мырзашу семерых детей: трех сыновей и четырех дочерей. Вместе с приемным Нохчо восемь голосистых ангелов, кажется, навсегда заполнили и осчастливили своим щебетом их однокомнатную мазанку на краю аула Восток.
Совсем не детская история
В небольшом ауле Восток не было своей школы. Управление совхоза могло себе позволить содержать здесь лишь малочисленные ясли и детский сад. На все про все одна нянечка да повариха. Детей школьного возраста возили за двадцать километров в интернат при Аккемирской средней школе. Там школьники из трех самых отдаленных отделений совхоза «Пролетарский» жили и учились с воскресенья до пятницы…
Сырые дрова и мелкий пыльный уголь явно не собирались разгораться. Густой и едкий черный дым из всех щелей мазаной печки больше шел в помещение, чем в дымоход.
– Тяги совсем нет, – сетовала пожилая уборщица, пытаясь растопить печь. – А я ведь еще прошлой весной предупреждала руководство. Так нет же, поленились, не почистили трубу. Тут все, к черту, сажей забито.
В сердцах выругавшись матом, маленького роста женщина настежь распахнула двери. Макушка ее головы едва превышала уровень замочной скважины. В сильно потертом коричневом шерстяном, низко, под мышками, повязанном платке, длинном черном платье и в валенках с галошами – она чем-то напоминала монашку.
На дворе было темным-темно и шел снег.
– Баб Марфа, закрой, – разноголосым хором с визгом потребовали два десятка детских голосов. – Ты нас вконец заморозишь.
– А вам что больше нравится: замерзнуть или угореть? – невозмутимо произнесла уборщица, но все же закрыла деревянную дверь.
В большой комнате девичьей спальни пришкольного интерната было очень холодно. Можно было видеть, как пар изо рта идет.
– И что теперь? – спросила пятиклассница Айша, вытирая слезящиеся от дыма глаза. Ее кровать стояла крайней у входа. – Я-то еще потерплю, а вот моя сестренка Ботакоз точно задубеет. На ней же одна кожа.
– И чему вас только на уроках учат, – проворчала баба Марфа. – Ложитесь по двое в кровать. Согреете друг друга. Я вот вас вдобавок двумя одеялами укрою.
– А я буду в пальто спать, – выкрикнула одна из старшеклассниц, чья кровать стояла возле окна.
– И то верно, – похвалила ее уборщица и выключила свет. Покидая помещение, баба Марфа всем пожелала: – Спокойной ночи, сороки неугомонные. Сладких снов.
Под двумя одеялами, согревая друг к друга, девочки быстро уснули…
Ботакоз не поняла, от чего она вдруг проснулась. То ли от злобного лая собаки, то ли от ужасного скрипа двери, то ли от ворвавшегося в спальню холодного порыва ветра.
В комнате снова зажегся свет. На пороге стояли два мужчины. Один из них все еще держался рукой за выключатель. Ботакоз их узнала. Днем они оба в школьном дворе распиливали шпалы на дрова. Тогда не прекращаясь шел дождь вперемешку со снегом. Не только дрова, но и работяги промокли насквозь. Девочке было их очень жаль. Она даже порывалась отдать им свой платок. Но, к счастью, пришла беременная почтальонша Валька и принесла им солдатские плащ-палатки.
На крыльцо школы вышла баба Марфа, на ходу прикуривая папиросу.
– Тот, что постарше и покрупней, – новый в Аккемире. По кличке Третьяк, – своим хриплым голосом пояснила пожилая уборщица собравшимся под навесом детям. – Год назад на заработки сюда приехал. Уже успел одну из наших обрюхатить.
– А второй? – спросила Ботакоз. Она не поняла, да ей и сразу не понравилось русское слово «обрюхатить».
– Из нашенских. На днях из армии вернулся. Салага еще, но требует, чтобы его по фамилии называли. Понимаете ли – Князев. Да хрен он в пальто, а не князь.
Несмотря на то, что мужчины появились в спальне среди ночи, никто из девочек интерната, кажется, даже не испугался.
– Им, наверное, тоже холодно и спать негде, – шепнула Ботакоз сестре на ухо.
– Наверное, баб Марфа их прислала, печку починить, – так же тихо ответила Айша.
Мужчины молча и долго осматривались. Ботакоз показалось, что они кого-то выискивали.
– Слушайте сюда, сучки, – громко нарушил молчание тот, что постарше, снимая с себя овечий тулуп.– Будете орать, перережем всех как баранов.
Только сейчас Ботакоз заметила в руке у Третьяка огромный нож. Девочка от страха инстинктивно еще ближе прижалась к сестре.
– Так что помалкивайте. Мы возьмем, что нам надо, и уйдем.
– И вам будет приятно, – ухмыльнулся тот, что помоложе, надежно привязывая огромную собаку к ручке дверей.
«Она же злющая, искусает каждого, кто попытается войти в спальню», – испуганно подумала Ботакоз.
Привязав псину, Князев выключил свет.
– Твои слева, мои справа, – распорядился в темноте Третьяк и, как тяжелый мешок с картошкой, завалился на крайнюю кровать, где лежали две сестры. От него сильно несло водкой.
– Пшла вон, – Третьяк грубо столкнул Ботакоз на пол.
Падая с кровати, девочка больно ударилась головой. Под затылком вмиг стало мокро и тепло. Но это была не вода. Она чувствовала, как ее волосы липнут к голове от чего-то вязкого.
Холод ледяного пола вмиг пронзил все ее детское тельце. Но Ботакоз осталась лежать как прикованная, боясь даже пошевелиться. Она слышала, как в кровати шла борьба. Ее сестра сопротивлялась. Третьяк матерился и пытался закрыть рот Айше, которая звала на помощь.
Через некоторое время борьба прекратилась.. С их стороны слышалось шумное, прерывистое дыхание мужчины, какие-то томные, звериные звуки его голоса, и этот неприятный монотонный скрип ржавых пружин кровати.
На соседней кровати происходило то же самое. Раздавалось тяжелое сопение того, кого прозвали Князем, и тихое рыдание ее подружки Надиши. Она была из Жарыка. Пару месяцев назад, когда их впервые посадили за переднюю парту первого класса, они поклялись быть неразлучными подругами.
И вот, Надишу насиловали, а Ботакоз не могла даже слова промолвить. Она закрыла глаза и очень-очень захотела забыться.
«Пусть это будет лишь сон, – в мыслях обращалась девочка к Всевышнему. – Утром мы все проснемся, а бабаев и близко не было. Старшеклассницы первыми побегут драться за место возле умывальника. Опять будет вкусно пахнуть мятой от зубного порошка. А потом будет сладкий чай и манная каша на завтрак».
Огромная ладонь схватила Ботакоз за распущенные волосы и потянула наверх. Третьяк очень грубо подмял девочку под себя. Детские ладони инстинктивно и лихорадочно ощупывали матрас, в надежде наткнуться на спасительную руку старшей сестры. Но Айши в кровати не было. Ужас охватил Ботакоз. В тот же момент она почувствовала невыносимую боль. Ей показалось, что Третьяк воткнул ей в живот свой огромный нож. В этот момент семилетняя хрупкая девочка надолго потеряла сознание.
Она уже не могла видеть суету у входной двери. Не реагировала на звон разбитых окон. Не слышала криков и выстрелов, когда школьный сторож, ветеран двух войн дед Дерновой, из своего трофейного маузера пристрелил овчарку.
Очнулась Ботакоз в белоснежной палате. Рядом с ее кроватью сидела плачущая мама. Она все время гладила дочку поверх повязки на голове. Девочка не могла это видеть, но чувствовала, как мамино обручальное кольцо то и дело цеплялось за края натянутых там бинтов.
Сестра Айша лежала на соседней кровати. У нее был гипс на предплечье и тоже перебинтована голова.
Кроме них, в палате находились еще пять девочек. Никто из них не лежал. Каждая сидела на своей кровати, прижавшись к стенке или железной спинке. И все молчали, тупо уставившись глазами в белые покрывала больничных одеял.
Ботакоз почувствовала, что у нее невольно накатили слезы. Она знала этих неугомонных школьниц, которым, кажется, никогда не хватало времени, чтобы наговориться. Все учителя жаловались на то, что девочки постоянно и беспрерывно болтают во время уроков. Практически на каждой школьной линейке эту пятерку выводили из строя, отчитывали и даже грозили выгнать из школы. Никогда и ничто не помогало. А тут – гробовая тишина…
А потом был суд. Похоже, что все жители четырех отделений совхоза собрались на центральной усадьбе в поселковом клубе, который находился вблизи железнодорожного вокзала. Никогда до этого, да и после тоже, стены длинной саманной постройки не видели такого столпотворения.
Не всем желающим удалось попасть внутрь. Еще сотня людей толпилась вокруг клуба. Некоторые из них пытались своим горячим дыханием растопить толстый слой ледяных узоров, которыми декабрьский мороз успел разрисовать не утепленные на зиму окна. Большинство же зевак следило за происходящим через нараспашку открытые двери главного входа и запасного выхода.
Еще до начала заседания суда не только разъяренные родители пострадавших девочек, но и все остальные сельчане потребовали у охранников выдать им Князева и Третьяка на растерзание. Мужская половина призывала к мести. Женщины тоже были беспощадны в своих высказываниях. Над головами раздавались возгласы:
– Яйца им поотрывать!
– Живьем спалить этих кобелей.
– Кастрировать!
– На кол их посадить!
– Пулю жаль на них потратить. Четвертовать!
– Глаза им бесстыжие выколоть да руки отрубить.
Из всех девочек интерната в зале присутствовали лишь пострадавшие. Их по очереди вызывали на трибуну, и они должны были рассказывать и отвечать на вопросы о том, что произошло в ту ночь. Когда-то назвали и имя Ботакоз. Девочка обеими руками вцепилась в свою мать. Она не кричала и не плакала. Ей было одновременно ужасно страшно и стыдно. Когда Ботакоз увидела тянущиеся к ней мужские руки милиционера – девочка потеряла сознание.
Батыр-ана
Дамежан тоже была на суде. К счастью, в ту ночь, когда Третьяк и Князев надругались над малолетними школьницами, никто из ее дочерей телесно не пострадал. Но все ее четверо девочек воочию пережили случившееся. Для матери стало очевидным, что оставлять детей в интернате небезопасно. Надо было срочно переезжать из отделения Восток в Аккемир. Там ребятня могла бы учиться в десятилетней средней школе и при этом жить и ночевать дома, под постоянным и зорким материнским присмотром.
К тому времени в молодые сорок четыре года Дамежан уже овдовела. Мырзаш умер в расцвете лет. Сказались его фронтовые ранения.
Никогда до этого, да и после, Дамежан не обивала казенные пороги. Но тут пришлось просить совхоз о помощи при переезде. Одинокой матери-героине выделили на главной усадьбе новопостроенный трехкомнатный силикатный с шиферной крышей дом.
Более пятнадцати лет подряд Дамежан слыла победительницей соцсоревнования на стрижке совхозных овец. В этом деле ей равных не было. И не потому, что женщине нравилось стричь овец или хотелось славы и почета. Нет. Просто сезонная работа была сдельной. Платили не по дням или часам. Сколько овец обстригла – столько и получи! А одинокой матери нужны были деньги. На этот заработок ей приходилось содержать всю семью: заплатить за электричество и газ; купить дрова и уголь; одеть и обуть восьмерых детей; приобрести для них школьные книги и письменные принадлежности.
Накормить семью было отдельной нелегкой темой. Дамежан одна умудрялась обрабатывать самые большие в поселке собственные огороды и содержать больше всех домашнего скота. Поистине геркулесова задача! И все во благо многочисленных детей. Народ заслуженно величал ее Батыр-ана.
Жили-были, не тужили. Славили компартию. Громко рапортовали об успехах и о полных закромах Родины. Но в восьмидесятых вместо светлого и счастливого коммунизма страну угораздило свалиться в застой. Не помогла и горбачевская перестройка. В считаные месяцы, буквально на глазах аккемирчан, развалился совхоз «Пролетарский». Все меньше работали, а чаще простаивали трактора и комбайны. Кончились запчасти. А вскоре и здание ремонтных мастерских развалилось. Все реже по вечерам светились окна в домах поселка Аккемир. На час-другой, и то нерегулярно, подавали электричество. Опустели полки поселкового магазина. Даже хлеб завозили из района теперь не каждый день. Перестали «крутить» фильмы в Доме культуры. Слабо и с перебоями отапливались школа, тот же ДК и даже детский сад. Вырубили на дрова совхозные яблоневые сады. Остались лишь низкие пеньки от стройных и высоких когда-то тополей, некогда украшавших улицу Советская. Сожгли в печах крашеные заборы палисадников. На вес золота стал кизяк – высушенный навоз. Оголенными ребрами торчали каркасы многочисленных бывших свиных и молочно-товарных ферм. Не пощадили перемены ни общественную баню, ни двухэтажное здание конторы совхоза. Разнесли их по кирпичику.
Работать стало негде. Если раньше после окончания школы лишь часть выпускников сбегала из поселка в город, то теперь сельчане стали уезжать целыми семьями.
Земли и технику совхоза «Пролетарский» поделили между теми, кто остался, методом пресловутых ваучеров.
На все полученные ваучеры Дамежан с детьми приобрели несколько гектаров пашни вблизи отделения Восток. Знакомые и родные им земли. Посеяли там пшеницу. Все лето неустанно вносили удобрение и боролись с сорняками. Урожай обещал быть отменным.
Близилась пора зерноуборки. Из многочисленных совхозных комбайнов перестройку пережили лишь два. И то благодаря таланту и самоотверженности их новых хозяев.
Уже в предпенсионном возрасте однорукий Эрвин по крохам собрал и отремонтировал одну из последних моделей советского машиностроения – зеленую «Ниву».
У молодого Рыбака – так на селе прозвали Федора, переведя его немецкую фамилию, – на ходу был более старый, красного цвета комбайн.
Оба механизатора жили по соседству с Дамежан. Пожилая женщина решила договориться со старшим из них. Она была уверена, что Эрвин намного опытнее и сможет убрать урожай с минимальными потерями.
Выходные в сельской местности дело относительное. Летом их практически не бывает. И лишь в середине августа, на старте хлебоуборочной страды, механизаторы могут себе позволить отдохнуть пару дней. Отдых у сельских жителей тоже понятие относительное.
Была суббота. Эрвин с обнаженным торсом возился на задворках дома возле своего комбайна.
– Сәлем, амансындар ма? – издалека поприветствовала на казахском Дамежан и остановилась. В ожидании, опустив глаза, не спеша рассматривала угол своего платка.
Мужчина услышал и понял намек. Он поспешил надеть рубаху и выкрикнул:
– Здравствуй, Батыр-ана.
Дамежан подошла.
– Сосед, мне нужна твоя помощь. Урожай пшеницы надо собрать.
– Нет проблем. Думаешь, ради чего я тут все лето с этим степным кораблем возился?
– Вот только наше поле далеко, на Востоке.
– И туда доедем.
– Сколько?
– Мои расценки всем известны. Тебе, по-соседски, будет скидка.
– Рахмет көрші, – на своем поблагодарила соседа Дамежан. – Я и без скидки соглашусь. Туда ведь добираться далеко. Тебе тоже надо что заработать.
– Прям с твоего поля, Батыр-ана, в понедельник и откроем сезон хлебоуборки, – заверил ее и протянул в знак заключения договора свою единственную левую руку пожилой Эрвин. – А как мне найти твою пшеницу? Кто-нибудь из ваших там будет?
– Не бойся, не ошибешься. Там только наше, одно-единственное поле. Кроме нас ведь на Востоке никто больше не сеял. Слишком далеко от цивилизации.
На том и порешили. Дамежан ушла восвояси, а Эрвин поспешил в дом.
– Заживем теперь, мать, – с порога радостно пробасил хозяин дома. – Сезон обещает быть прибыльным.
– Дай-то бог! – ответила ему супруга. – А то все ваучеры и сбережения в твой дирижабль вбухали. Прогорит дело – зимой лапу сосать придется.
– Не ссы, Каролин, – самоуверенно успокаивал муж, по-барски усевшись за шатким обеденным столом. – Считай, на всю округу лишь два комбайна: мой да салаги Федьки. Конкуренции нам нуль без палочки.
– Не говори гоп… – явно на середине предложения прервалась Каролина, подозрительно поглядывая в окно летней кухни. Спустя минуту чуть ли не шепотом испуганно продолжила: – Пока не перепрыгнешь. Гляди. К нам непрошеные гости пожаловали.
Эрвин приподнялся и, отодвинув край тюлевой занавески, тоже посмотрел в окошко. От удивления присвистнул.
Посреди их двора стоял мальчик. Не старше десяти лет. Что же могло в нем так напугать хозяев дома, которые буквально пулей вылетели наружу и сейчас молча переминались с ноги на ногу у порога.
Мальчик был младшим из банды братьев Исиных. Молодчикам, видимо, доставляло удовольствие не просто грабить односельчан, но при этом еще и унижать их. Именно поэтому они отправляли к избранным жертвам маленького и худенького почти что еще ребенка. Взрослые мужчины поселка должны были ему беспрекословно подчиняться. Тех сельчан, кто все же осмелился противоречить пацану, братья Исины избивали за «издевательство» над ребенком.
– Эй, ты, однорукий, – писклявым голосом обратился мальчонок к пожилому Эрвину и, стараясь подражать взрослым, сплюнул на землю. – Чтоб завтра был со своим комбайном на Востоке. Нам там пшеницу надо скосить.
В этот момент гнев и обида окрасили лицо хозяина дома в кроваво-красный цвет. Казалось, что все мускулы мужского тела сейчас вспучились, до предела натянув кожу. Вены на шее и висках вздулись. Но Эрвин промолчал. Того требовала Каролина, то и дело скрытно одергивая за руку супруга.
– Короче, ты меня понял, – уверенно и нагло произнес тот же писклявый голос, и мальчуган не преминул опять сплюнуть. – Чтоб как штык завтра там был.
***Этой ночью Эрвин не мог заснуть. Хотел, пытался, но не получалось. Жуткие мысли постоянно лезли в голову. Мужчина поминутно ворочался с боку на бок.
В конце концов не выдержал, вскочил и выбежал во двор. Круторогий месяц освещал ему путь.
Эрвин, крадучись, часто озираясь, приблизился к своему любимцу. В лунном свете его зеленый комбайн блестел как громадный изумруд.
Быстро оглядевшись по сторонам и убедившись, что вокруг никого нет, Эрвин достал из кармана складной нож.
– Будут мне еще тут всякие сопляки указывать, – его губы мелко дрожали. – Не на того напоролись. Командуйте другими и в другом месте.
Однорукий зубами открыл единственное длинное лезвие самодельного ножа и с яростью глубоко воткнул его острие в шину переднего колеса. Резиновая камера тут же, со свистом, стала испускать воздух. Эрвин вытащил нож и метнулся к заднему колесу. Все повторилось.
Вот уже которую минуту, более и более впадая в ажиотаж, пожилой мужчина как безумец кружился вокруг комбайна, протыкая и пытаясь вспороть шины всех четырех колес.
Когда-то он остановился и сквозь слезы, с пеной на губах злорадно произнес:
– Так не доставайся же ты никому! Я тебя собрал – я тебя и зничтожу.
Затем, тем же ножом он стал резать ремни. Как же дорого они ему обошлись! За приводной ремень отдал двадцать кур. Годовалым теленком пришлось заплатить за клиновый, приводной и вариаторный ремни. Весь труд пошел насмарку. Все расходы коту под хвост.
– Накосьте выкусьте! – не выпуская из единственной руки складной нож, Эрвин умудрился скрутить фигу в направлении центра поселка.
Напоследок мужчина стал засыпать песок в заполненный до краев топливный бак. С каждой жменей горючее выливалось через горловину. Комбайн буквально истекал соляркой.
К утру Эрвин свершил задуманное. Успокоился и почему-то даже повеселел. Вернувшись в спальню их дома, с порога выкрикнул:
– Мать, собирайся. Мы сваливаем в Германию.
– Тс-с! – цыкнула на него Каролина, протирая спросонья глаза. – Молчи, попридержи язык за зубами. Соседи могут услышать. Ты в своем уме? Ты же еще вчера клялся, что твоя нога не ступит на немецкую землю.
– Weib – баба, – не смей перечить мужу. – Сказал собирайся – значит, надо. Баста! Давай, быстро! Бери документы да самое необходимое.
– А как же скотина, огород? Урожай не собран. А самое главное – хлебоуборка. Как же твой комбайн? Ведь ты больше года над ним, как дитем малым, трясся. Сколько денег на технику угробил.
– Комбайн в хлам! Металлолом. Я его собрал, я его и сгубил. Поломал и испортил все, что можно было. А хозяйство? Так уже сегодня все это у нас Исины отберут. Так что бежать нам надо. У детей в городе перекантуемся.
Каролина понимающе кивнула и стала спешно собирать чемоданы.
– Вот дети у нас молодцы. Как в воду глядели. За спиной у настырного отца нам заграничные паспорта оформили…
***Утро понедельника изначально оказалось тревожным. Еще в окно своей спальни Дамежан заметила, как низкие белые тучи сплошь затянули небо.
– Как же это некстати во время жатвы, – сидя на кровати, хозяйка дома умоляюще подняла руки к потолку. – Пожалуйста, будь милостив к нам!
Подоив корову и выгнав в стадо коз и овец, Дамежан задержалась возле калитки своего двора. Высоко задрав голову, она рассматривала небо, невольно крутясь как юла вокруг своей оси. Светлые облака сейчас напоминали пенистые морские волны, которые наяву казашка никогда еще не видела. Разве что только по телевизору. Своей темной бездной они даже на экране обычно вызывали в женской душе страх и трепет. В небесных же волнах было меньше угрозы. Сквозь облака просвечивалась воздушная высь и необозримое пространство. Это успокаивает и даже воодушевляет.
В какой-то момент Дамежан опустила голову, и ее взгляд случайно наткнулся на подворье соседей. Комбайн Эрвина стоял на том же месте, что и в субботу днем.
– Да как же так! – громко вскрикнула Дамежан. Плотнее завязывая было спавший на плечи платок, она решительно направилась к смежному дому. – Обещал ведь. Свою единственную руку протянул в знак согласия. Эрвин, выходи, разбираться будем!
Во дворе соседа было пусто. Ни одной живой души. Двери сарая закрыты. Оттуда раздавалось недовольное визжание, видимо, некормленых свиней и многократное кукареканье петухов. Рядом с сараем, под навесом, мычала недоеная корова.
– Вы что там, все пьяные? Все еще дрыхнете? – возмущалась пожилая казашка, подходя к высокому крыльцу.
– Үйде кім бар? – окликнула она, спрашивая, есть ли кто дома.
В ответ тишина. Лишь сейчас Дамежан заметила, что на дверях висел огромный ржавый замок.
– Что-то здесь не так, – задумчиво произнесла она и поспешила на противоположную сторону улицы.
– Үйде кiм бар? – постучалась Дамежан подобранной на дороге палкой в калитку дома семьи Фишер.
– Доброе утро, Батыр-ана, – раздался в ответ заспанный голос хозяйки дома.
– Люба, позови Федьку. У меня к твоему сыну дело есть.
– Так его нет. Еще вчера на Восток уехал. Потихоньку, на комбайне, своим ходом. Кому-то там сегодня пшеницу косить надо.
От испуга Дамежан даже ойкнула. День начался с сюрпризов и явно не по ее плану…
***Напротив села Ақкемер на крутом изгибе реки, вдоль обрывистого известнякового берега с одной стороны и пологого песчаного с другой, на сотни метров тянется полоса мелководья. Прибрежье здесь абсолютно голое: ни деревца, ни кустика, ни камышинки и ни одной тростинки. На этом участке Илека из года в год весеннее половодье устраивает страшные и опасные водовороты. В пучине темно-бурых вод и ледяных глыб перемалывается все и вся. Не самый подходящий уголок для многолетних растений. Бурные вихри паводков смывают и уносят с собой плодородную почву. На пологой стороне не растет даже трава. Широкий песчаный пляж.
Максимум по колено глубиной ровное дно мелководья усыпано хрустящим, желтым, похожим на зерна пшеницы песком и мелким гравием. Течение практически отсутствует, хотя неподалеку отсюда на дне реки бьют многочисленные родники. В тихой зеркальной глади воды отражается голубое небо, придавая ее поверхности бирюзовый цвет.
Летом на перекате охотно резвится сельская ребятня. Для них должно быть настоящим блаженством – среди жары нырять и плавать в освежительной своей прохладой воде. Подобно подрастающим гусятам и утятам, наверняка забывая о времени и о пространстве, малышня плескается на речке с утра и до позднего вечера. И только лишь чувство голода на закате дня в состоянии разогнать их по домам.
Вооружившись обрывками тюлевых занавесок, а то и просто используя свои платьица да рубашонки, детвора на отмели часто охотится за пескарями.
Поблескивая своей чешуей, стайки мелких рыбешек юрко снуют вокруг и внутри наполовину занесенной песком огромной ржавой трубы. Неестественный для общей природной идиллии кусок металла является свидетелем неудачной попытки соорудить тут переправу. Очередной паводок снес и размыл высокую глиняную дамбу, погнул и развернул наискось по течению проточную трубу плотины.
Насколько помнят старожилы, здесь всегда находился речной брод. Пешком, на подводах, а позже уже и на тракторах да грузовиках сельчане в этом месте переправлялись на другую сторону Илека, в направлении населенных пунктов Восток, Левоневское и Шевченко.