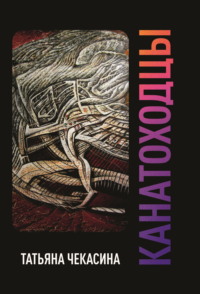Полная версия
Убийственный урок
– Тебе бы только о ней! – реагирует Валька Ершова.
– На отдыхе я. Должен радоваться!
– Я вам говорю, друзья-товарищи, огонь не там, где в прошлый раз. Дым в палатку. – Нудит Мотов.
– Это ты палатку не там ставишь, Мотя, – возражает добряк Маркушев.
– Я верно ставлю, а вы, друзья-товарищи, развели высоко.
– Мотя, ты ослеп? Костёр в яме! – орёт хлопотливый Ершов.
– Он костровой, – информирует Надежду Маркушев, – а Мотов любит линию гнуть.
– Только бабу свою ему не перегнуть! – хохот Ершова.
– Он теперь руководитель, – и Маркушев хихикает, в улыбке нехватка зубов, – ведёт к победам коллектив. Не наш, наш мы ему не дадим возглавить! – Обводит руками лес, и он – «наш коллектив».
Мужики – за палатку. Вернулись. Их жёны стелют клеёнку.
– Чё вы раньше времени! – орёт Мотова: – Никакого терпения! Нет, чтоб у стола нормально, – тайно халкают!
– Мы на лоне, Люда, – говорит робко Мотов.
– На лоне, не на лоне, а культура в массах должна быть. Я девок в цехе окультуриваю, опять лекцию им прострочила. Какой вы даёте пример?
– Да некого тут окультуривать! – наивно выкрикнул Ершов.
– Все мы тут с усами, – уверенно заявляет Маркушев.
– Прямо! – выдаёт им Мотова. – А Щепёткина? Мы её должны на путь… Ты, Надя, ещё не встала. У тебя может быть и обратный ход. Ты и грубость иногда. Намедни меня обозвала этой… Тебе – не кривой тропинкой вилять, а напрямки на благо нашего предприятия!
Обидная речуга! И Клавдии Ивановны нет! Но вот и она с ведром воды:
– Людмила Кирилловна, ну ты даёшь, от озера отлетает, да, вроде, говорить так немодно.
– Людка, как на коммунистическом митинге! – хвалит Валюха.
– От тюрьмы и от сумы… – Мотов глядит на жену с восхищённой опаской.
Щепёткина, как немая столбом у огня.
– Надя, отойди маленько, – оттолкнула её, светясь добротой, Клавдия Ивановна, и они с Мотовой крепят над костром ведро с водой, на дне картошка, лук, купленная рыба.
Наверное, и обижаться глупо? Как ей велят, села на бревно, оголённое, без коры; в нём туннели, проеденные червями, и людей они так, когда те умрут.
Клавдия Ивановна по-матерински:
– Надюша, нарежь хлеб.
Да-да! Это она готова…
Тётки на коленях перед расстеленной на земле клеёнкой, на которой много еды. Жратвы вообще полно. Щепёткина отъелась после колонии и опять равнодушна к еде, как обычно.
– Ешь, – велит Клавдия Ивановна.
Едят… Пьют за Первомай, за трудовые успехи.
– За грузоподъёмность! – Крановщик Ершов пьёт торжественно, горд нелёгким трудом.
Пьют и за Мотова (на автостанции бригадир, недавно был дальнобойщиком).
За Маркушева и за его токарный станок.
Электричка невидимая, но будто рядом. Ура! Ура!
– Девки, нам не дело за них опрокидывать! Наш цех, как говорили, в передовиках! Даём продукцию на уровне мировой: не хуже корейцев, лучше китайцев. – Клавдия Ивановна за плечи обняла с одной стороны Мотову, с другой – Щепёткину. – Люда – закройщик опытный, Ершова Валентина – машинистка-скоростница, а Надежда наша, она… молодец. Пуговицы шир-пыр… А ну-ка, ответьте, мужики, на какое изделие идёт пришыв с запошивом? – юморит Клавдия Ивановна.
– Вот кто ас! Клава! Без Клавы мы – без работы мы! Кто наш цех ведёт? Вот кто! – У Мотовой пятна по лицу цвета малины. – Вот кто! – С доброй грубостью тычет пальцем Маркушевой в грудь. – А то бы на мели к маю. За Клавдию! Материя – наш хлеб. Правильная материя! Нет материи, сколько не матерись, не пошьёшь!
– Ой, Люда, хватит, я уж плачу, Людочка…
– Не ты ли, Мотова, говорила: материя мраковатая? – хохотнула Валюха. – Но за Клаву выпью, хоть и тошнит. Но за Клаву! Глядите все! Я за Клавушку за нашу! Эх, плясать охота! Э-эх!
– Айда к воде, девки! – У Мотовой и шея малиновая.
– Айда!
Валюха топает, горланит:
– «Ой, снег-снежок, белая метелица, напилась, нажралась, и самой не верится!»
Мелкий дождик.
Наде велели караулить костёр. Натянув на голову капюшон куртки, думает: счастливы эти люди или претворяются? Всегда или только когда выпьют? И где оно, счастье: в работе или в семейной жизни? Может быть, в учёбе? Только не тут. Мозги кипят, вот-вот лавой хлынут из глаз, из ушей. Математика – уравнения всегда с неизвестными. Литература – Раскольников, который убил (ему бы вышку, хотя теперь отменили). Или тот же Толстой…
И как определить, какие великие, а какие – нет? Например, Пивнухин тоже писатель, но, явно, невеликий, роман о пьянке с улётом. Она, например, плачет над давней картиной «Калина красная», там и песня. Лицо – в куртку, поёт. Дождь сеет, прибивая пыль. Она ждёт открытия от этого леса, от костра, от Первомая. Лес зеленеет, земля пахнет, набираясь сил, дышит.
Клавдия Ивановна и её муж понимают: человек оступился, но он… Вряд ли убийца, который людей топором, будет другим, но нормальный выпрямится. Как ветка из-под снега. Мама-то ей говорила: «Не тронь чужое!» А Толька: «Нелицензионный товар, будет навар!» Добавил бы: «и срок будет».
От озера вопят. И вот меж деревьев мелькают. Ершова тащат. Валюха ревёт.
– Да не вой ты! – Лицо у Клавдии Ивановны белое.
– Искусственное давай! – И Мотова не малиновая.
Кладут к огню. Он мокрый. Синий. Не дышит.
– Раз, два, раз, два! – Мотова его руки крутит, они как плети. – Да не вой ты, Валюха!
Маркушев у берёзы. А Мотов помогает жене, давит на грудь Ершову. Изо рта Ершова хлюпает вода.
– Оживает! Ещё качай! – выкрикивает Мотова.
Ершов отфыркался. Лёг на бок на доске, как на кровати, двинув локтем спасительницу Мотову.
– Пусть дрыхнет, холера, – говорит Валюха.
Другие от волнения перебивают друг друга: он хотел в лодке, что у берега, но она дырявая, тонет. С трудом Мотов и Маркушев его вытянули.
Он спит, а они, как о покойнике: ценный грузоподъёмщик, горд трудом.
– Он нормальный мужик, – уверяет Мотов.
– Он у нас заводила. Но бывает. С кем не бывает? – торопливо Маркушев.
– Да, он трудовой и в семье тихий, – Валюха оправляет на муже наброшенную куртку. – Купили мы огород, ломить надо, дураков работа, ох, как любит, а он вспахал, и ни капли! Ни капли, бабоньки! Так, чуточку да и говорит, мол, лягу…
С Ершова – на других. Как живут. Квартиры, мебель, ковры, книг дополна, правда, читать некогда, выкладываются на производстве, но люди они культурные, ходят в кино.
Сумерки, а они говорят. Для Щепёткиной.
– Да прекратите вы! – обрывает Мотова, и лица – к ней. Она – лидер, она скажет. – И Ершов, и Маркушев, и мой Мотов – гордость, опора. Рабочий класс. Он во все века при всех режимах! Мы, Надя, не толкаем ворованный товар. Ни копейки не крадём. Вон Клава с пятнадцати годков на фабрике, от которой ныне, к сожалению, один цех. И вся она в труде. А Валюха… Минус три декрета – остальные труд. О себе могу… Я окончила техникум, младше тебя была. Пролетарии мы. И ныне наш праздник!
– Счастье в труде? – Молвит тихо Щепёткина.
– И в труде, – кивает Мотов. – Иногда в дальнем рейсе с напарником один, да один. Бывает кого-нибудь подбросим.
– Ой, да заткнись, понятно, кого ты там подбрасывал! – Отмахнулась Мотова. – Я Надьке говорю: не о том она!
– Знать хочу.
– Знать хочет!
– Молодая она, – у Клавдии Ивановны любопытный взгляд.
– А я думаю: счастье в детях. Если б мой не пил, я бы больше имела детей, я люблю их! Когда маленькие, они такие миленькие! – Валюха сжимает руки у груди нежно, как младенца.
– Да, видимо, в детях, – неуверенно кивает Щепёткина.
Ранние звёзды. Дождя нет, небо глядит доверчиво.
– А ты, Надя, что, вот так и крутишь в голове? – Клавдия Ивановна неспроста взяла её в их семейную компанию!
– Молодёжь, она умная, а как работать, пусть, кто поглупей! – Вдруг в спину говорит Маркушев. – И на завод не идут. Не хотят у станка! А девки какие!
– Девки у дорог! – подхватывает Мотов.
– …хотят денег неправильным путём! – отрубает Мотова, глядя прямо на Щепёткину, и та клонит голову, как от удара.
– Да, да! – Клавдия Ивановна проницательная, и теперь неприятная (даже неприятней Мотовой), в голове видит мысли. – Не работа у тебя на уме, тайное! – как из-за начальственного стола, над которым портрет митрополита.
– Работу я люблю, пуговицы эти, а чё! – по-лагерному врёт Надька.
– Она уже! Даю вам честное коммунистическое!
Дядьки оба не врубились. Но Клавдия своему на ухо, Мотова – своему; и те глядят на Щепёткину, кивая головами: Мотов – длинной, Маркушев – круглой.
– Надя, мы тебе добра хотим! – елейно Клавдия Ивановна.
– Ой, беда, беда! – причитает Валюха.
– У каждого свой маршрут, – говорит Мотов.
– Не ладно так! – недовольна диалогом Клавдия Ивановна. – Мы тебе жениха найдём, и будете, как мы с Ильёй Никитовичем. Детки пойдут. У нас большие. Квартира, как конфеточка, где надо – в кафеле, где надо – лаком блестит, лоджия с цветами… Нормально?
– Ну, да, – неуверенно говорит Надя.
– Любо-дорого, – прямо сказку сказывает Маркушева, – ноги в ковёр, а в телевизоре коммунистическая демонстрация, крестный ход… Песню передадут складную. Вот эта хотя бы: «Довольна я моей судьбою!» Ну-ка, бабы, подпевай!
И заводят… Надя не подпевает, как-то стыдно с чужого голоса и о чужом счастье. Умолкли, лица победные.
– Дальше что?
– Что дальше?
– Ну, вот ноги в ковёр… А потом? Умрём. Черви… А родились для чего?
– Да не надо так! – глядит как на больную Клавдия Ивановна, – живи, трудись, учись, детей рожай. Не хочешь ковёр – не надо, не хочешь цветов – не сажай! Но не иди к тем, которые с дурманом! Эту секту при советской власти хотели убрать, не вышло. Верка Пименова в молитвах с пяти лет, как явился отец из лагеря. Давай-ка, Надюха, в церковь! Это «тренд», как говорят.
– Ой, спать охота, – зевает громко Валюха, – пойду в палатку.
И другие, оставив у костра Ершова с храпом и Щепёткину с думами.
Ночь. Электричка во тьме гремит, будто огромная собака на цепи.
Главного сектанта, отца Веры, и молодые зовут братом: «брат», да «брат». Он в одной камере (мелкий разбой) был с верующим, и уверовал. «И просветил сидящих во тьме и тени смертной». Мнение о церкви: «театр». В первый день Клавдия Ивановна предупредила: «Тебе, девке с кривоватинкой, не след с Пименовой-трясуньей».
Как-то выходят они вдвоём с Верой из цеха:
– Тяжело мне. В документах я – мошенница.
– Перед богом все равны. Молись.
– Но как, если не верю!
– И об этом. И ниспошлёт.
В другой раз она догоняет Веру во дворе.
– Молишься?
– Молюсь. Но ответа нет.
– Будет. Приходи к нам.
Там никто не трясётся. Читают, сидя рядами в бедной, но недавно отремонтированной комнате: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь малым». Поют, убедительно благодарят Бога. Некоторые плачут. Щепёткина клонит голову. И у неё слёзы на крупном юном лице. «Благодать отворится невзначай», – информация от Пименовой.
«Господи, дай мне веру!»
Рассвет… Наверное, отворилась, так как впервые уверена: Бог тут. На бумажном пакете угольком: «В город я, обнимаю, ваша Надежда».
Уходит тихо, чтоб не расплескать дарованного. Ей жалко и Клавдию Ивановну, и Мотову, и Ершова. Всех! Весь мир. И говорит она миру и людям: «Желаю вам добра, а добро – это вера».
Внучка Октябрины
История своей мечты
Дождливым августовским вечером в глуховатой деревне Кашке умирала молодая учительница Надя Кузнецова.
Было мытьё полов в классах и в коридоре. Школа одноэтажная, окна высокие, новое крыльцо. Ключ, выданный в райцентре, подошёл, замок отомкнулся. И в низу живота, будто отомкнулось.
Отправив школьную уборщицу домой, воду добывала из колодца (удобней для уборки брать в озере: есть выход к воде). Видеть никого не могла. А до этого, приехав утром на автобусе (маршрут: от районного центра до Кашки), два километра волокла тяжеленные чемоданы. Какая-то тётка предлагает помощь, но ответ отрицательный.
В продуктовой лавке с ней говорят мамы детей, которых она будет учить, но, купив необходимое, в ответ буркает «добрый день» и – на выход. Теперь одна в комнате, отведённой для неё.
Если выкарабкается, уедет. Она ведь незамужняя. Правильнее умереть.
Но умирают от этого или нет, она не имеет информации. Весь день кровь. И, в конце концов, будто комок, и крови нет. Легко, но муторно. Лёгкость коварная. Надя неопытная в таких делах.
В бреду клянёт бабушку Октябрину Игнатьевну, будто находясь не в какой-то незнакомой деревне Кашке, а в городе, в доме, где выросла. У дома гремят трамваи. Окна квартиры не на трамвайную линию, но треньканье и удары колёс о рельсы – любимая мелодия, которая ей чудится в этой глуши. Не выйти ли во двор, образованный пятиэтажками, не глянуть ли на церковь? Видение: военный дворец (бойницы окон, броня, шпиль-пушка) оживает, направляя дуло прямо в окна церкви.
Не время Наде Кузнецовой в этот день быть Надеждой Ивановной. Ей бы опять – просто внучкой Октябрины Игнатьевны. Так её зовут в их доме. А маму Надину – дочкой Октябрины. Мама ослепла давно. Надин отец её бросил, не оформив брак. Он не был ей мужем, но детали появления маленькой Нади имеют табу, наложенным бабушкой. И нет данных об этом «Иване», об его родстве. Наверняка, он не Иван, а Павел или Пётр.
В начале той двадцатилетней дистанции Октябрина Игнатьевна уверяет: с младенцем Надей ощутила себя молодой мамой, ну, и прожила немало лет за себя и за дочь. Она кипит энергией. Одолеет и ещё одну судьбу, за внучку… Но внучка теперь от неё далеко, в деревне Кашке! Эта идея придаёт Наде энергии: вдруг да не умрёт!
У Октябрины Игнатьевны лицо открытое, седые непокорные кудри. Во дворе, да и в микрорайоне у неё репутация главы семьи, как она говорит, «полной взаимопонимания и доверия», её дочь – «труженица», внучка – отличница.
Много лет она работала в отделе кадров на военном заводе. Оттуда навык собирать о людях информацию, будто определяя, имеет право жить тот или иной в их доме, в их подъезде, будто дом – оборонное предприятие, а подъезд – цех, куда берут, тщательно проверив, и она бы некоторых уволила немедленно.
Например, отец большого семейства с третьего этажа регулярно пьян; девица с пятого – что ни день с другим поклонником; напротив орёт музыка, дверь рядом – от них тараканы.
Вот она в центре двора с продуктовой тележкой. В миску отливает молока. Прибегают кошки. Накормив этих питомцев, открывает пакет с едой для собак. Зимой она обходит и кормушки для птиц. Цель – положительный пример для всех в доме.
На прогулке Октябрина Игнатьевна и её слепая дочь громко декламируют:
– Ты опять перевыполнила норму?
– Да, мама. Звуковая газета на фабрике говорит обо мне: «Наиболее умелые пальцы и наиболее ловкие руки», – хихикает.
– Кроме тебя, им хвалить некого!
– Меня, мама, ценят!
– Труженица!
Те, кто мимо идут, иногда удивлённо оглядывают их, улавливая выверенные реплики. У кого-то восхищение: любые трудности преодолеют, какие молодцы!
Они идут мимо парикмахерской, в которой никогда не бывают. Мимо церкви, в которую – ни ногой. Мимо военного дворца (с виду – танк, пушка направлена в небо, будто для обороны от врагов, которых нет). И когда попадается знакомый, его приветствует Октябрина Игнатьевна, а когда он или она проходит мимо, дочка спрашивает:
– Мама, это кто? Я не узнала голос.
– Парень из третьего подъезда, культурный, порядочный, идеальный для Наденьки.
Надина мать кивает. Их планы, их надежды – с Надеждой. Сбылись: крепкая, диплом, одета…
Теперь, умирая, она подводит итог: инициатива бабушки была неверной, а для неё, для Нади, смертельно опасной.
Проведя день в педучилище, она дома, в квартире, недавно выбеленной и выкрашенной. Октябрина Игнатьевна – и это известно в доме (кое-кто пытался её нанять), – легко делает гигиенические ремонты, не говоря об уборках. «Пол должен быть, как стол» – её девиз.
Октябрина Игнатьевна то и дело обходит квартиры, напоминая, что окуркам не место на полу, а бутылкам – на лестнице; а ноги надо вытирать о коврик, ею купленный на деньги, собранные с квартир. От страха её давно выбрали старшей по дому. Работники ЖЭКа впадают в панику, только завидев в конторе Надину бабушку, благодаря которой отремонтирована дверь в подъезд.
Придя из педучилища, Надя поедает котлеты с гарниром или голубцы, или тефтели. Как правило, и пирожки… Или пончики. Винегрет или салат. Компот или кисель. Сок из яблок или моркови. Бабушка готовит, как в давнюю пору, будто работая в блоке питания детского учреждения. Отобедав на кухне, Надя идёт в комнату, убранную Октябриной Игнатьевной так, что её иначе как «светёлкой» не назвать. У бабушки и вырвалось:
«…в этой, как её, – в… светёлке!» И они хохочут. Бабушка и Надя – громко, слепая женщина – боязливо.
Надя любуется (первый этаж) маками, астрами и другими цветами за колючей проволокой, которая никому не даёт тронуть хотя бы один цветок, но более того, манера Октябрины Игнатьевны громко клеймить неправильное поведение.
Надя открывает тетради и книги…
Октябрина Игнатьевна вкатывает «максимку», топает на кухню:
– Тёртую морковь ела?
– Где?
– В холодильнике на третьей полке. Принести?
– Не-си…
Тарелка на столе. Наденька съедает.
Училище с красным дипломом. Октябрина Игнатьевна, заработав неплохую пенсию, экономит на одежде для себя и для Надиной мамы: никаких им обновок, – переделанное и перешитое.
Любимый завод подкидывает работу на дому, наградив пишущей машинкой с электроприводом. Октябрина копирует какие-то бумаги (что в них – военная тайна). Копирки отдаёт с оригиналами. Эта работа наполняет её важностью, наполняя энергией для других дел. Она вяжет, штопает и шьёт, говоря длинные речи о мире, о войне, о добре, о зле, о нравственности и безнравственности…
Те, кто знают Октябрину Игнатьевну, удивлены её энергией. Но они не знают и трети того, что успевает за день Надина бабушка! У неё, как она говорит, орбита, на которой крутится.
И у Надиной мамы орбита. По договорённости с руководством картонажной фабрики, которую они трое называют картонажкой, слепая женщина склеивает детали картонок, привозимых ей на дом. И на фабрике работает, подменяя работниц. Она не болеет. Отработав две смены, едва поев дома, падает на кровать в общей комнате за шкафом, как мёртвая. Но утром опять идёт на картонажку. Октябрина Игнатьевна на пути в магазины доводит её до перехода слепых.
К Надиному совершеннолетию гардероб: костюмы, платья, немало юбок, которые Октябрина Игнатьевна изготавливает с виртуозностью пошивочного предприятия, да и кофты вяжет, как агрегат… Куртки, плащи, пальто и шубки куплены… Золото: цепочки, кольца… Даже – не новое пианино. Навыки дали в училище на уроках музыки. И Октябрина Игнатьевна с радостью наблюдает, как полные, уверенные Надины пальцы выбивают мелодию на клавиатуре!
Ей не надо было ехать на работу в какую-то деревню Кашку. Школа, в которую её берут, неподалёку от дома.
А правильнее ей держаться в километре от школы… На практике Надя Кузнецова делает вывод: она ненавидит детей. Они ей неприятны, как щенята соседской колли. Надя обратилась в эту квартиру, в эту «антисанитарию» (так называет Октябрина Игнатьевна), от её имени уменьшить ор магнитофона, и видит у порога коробку, а в ней … шевеление.
Дети (а это первоклассники и второклассники) немытыми руками трогают идеальные рукава молодой учительницы-практикантки Надежды Ивановны. И это – город, культурная школа! А в деревне? Нервы на пределе, о простейшем вещает с трудом. Вибрируя на низких нотах, как крикнет: «А ну, молчать!», дети каменеют до конца урока.
Вот и теперь, умирая, думает о них вполне бодро. День-другой, – и они затопают, зашлёпают, натаскают с озера песка, перемажут отмытые ею парты и прицепленные портьеры, выданные в районном отделе образования.
Тирады – плата за домашний рай. Бывало, Октябрина Игнатьевна говорит, не умолкая, но поглядывая в модный журнал с инструкцией для вязания очередной кофты для Нади. Ораторские данные не для малогабаритной квартирки, а для порталов цехов, шири площадей, для гула великих строек… Они с мамой вставляют подходящие реплики. Надя, имея вид внимательной слушательницы, думает о молодом преподавателе, в которого тайно влюблена некоторое время.
А в городе, в квартире говорят о ней.
Бабушка в кресле (для неё узкое), вытянув венозные ноги:
– На передний край! Там водопровода нет! Моё воспитание!
– Да, мама. Ты герой!
Слепая на краю парадного дивана, ночью на нём отдыхает Октябрина, а днём – фрагмент их гостиной, выгороженной в проходной большой комнате (стол добротный, стулья вокруг, пианино). Её слепой дочери на её кроватку бы за шкаф, но её идеальная мама, перед которой она так провинилась, уступив когда-то какому-то Ивану или Петру, или Павлу, говорит и говорит. После отъезда Наденьки в деревню «оратории» с краткими перерывами вторые сутки…
– Не могла идти лёгким путём!
– Не могла, – кивает Надина мать. – А телефона там нет?
– Какой телефон! Глушь!
Какое-то время они прислушиваются, Октябрина ещё и глядя прямо на телефонный аппарат.
Слепая говорит:
– Жених, наверное, в обиде.
– Какие женихи! Разве женихи у Наденьки на уме!
Недавно она нахваливала парня из третьего подъезда, его мама – интеллигентная тихоня.
– Другого ей надо! Выше, крупней… Как твой отец…
– Папа со мной, немаленькой, на руках мог танцевать! – улыбка Надиной матери.
То, что до её слепоты, она помнит и рада, когда именно к этому времени обращается Октябрина Игнатьевна.
– Наденька позвонит. Вот-вот! Если б не провели телефон, я бы телефонную станцию разгромила, до министра бы дошла!
– Да, ты ге-рой! – довольное хихиканье.
– Темнеет…
– Травой пахнет. Так пахнет вечером.
У Нади Кузнецовой нигде не болит, правда, будто ныряет в воду, но выныривает, когда думает о бабушке.
Она и свела с Володей… Он у них пьёт чай, Октябрина Игнатьевна говорит за них. Потом Володя уходит в соседний подъезд. Он покупает билеты в театры. Идут. Октябрина в единственном, как она называет, «жемчужном» выходном платье. Как-то и маму берут в оперу, там не надо смотреть. «Фауст», Маргарита… В ту ночь слепая рыдает, и вердикт: водить её в театр вредно.
И вот учёба к финалу. Перед госэкзаменами консультации.
В аудитории рядом с Надей зевает Аня:
– Как надоело!
Надя ни с кем в группе не общается, а тем более, с этой Аней. Та бывалая дама. У неё ребёнок. Она глядит из другого мира холодными глазами, но любит «оторваться». «Ух, вчера мы кутили, оторвались!» Надя никогда не «кутит», не понимает, что такое «отрываться». Её отношения с однокурсницами деловые: даёт списывать конспекты лекций. В ответ, то одна, то другая приглашают на каток, на дискотеку, в кино. Но времени нет: контрольные, доклады, зачёты…
Аня объявляет:
– Госы госами, а весна весной», хочу в «кабак».
Впереди вечер никакой. Опять Володя… Будет хвалить свою работу инженера-теплотехника. Будет хвалить Надю: ещё три года назад, когда они с матерью переехали в этот дом, заметил, но благодаря Октябрине Игнатьевне… Они пойдут в кино или на концерт, в театр… Там он будет брать её за руку, и она оттолкнёт его руку с такой энергией, что он напугается. Дома намёк, какова цена (не так и велика) платья в «Гименее»…И говорит отличница Кузнецова: и она не против в «кабак».
Аня лукаво поглядела (Надя не накрашена, одета добротно, но скромно) и откровение: её наверняка заждались «ребята». У неё уговор с какой-то Элкой, но та не смогла. И Надя будет вместо Элки.
А ехать им к дому Нади, точнее, к военному дворцу (архитектура – танк, пушка которого запроектирована глядящей в небо).
У неё связано с этим дворцом приятное. Во-первых, новогодние ёлки. А недавно – вечера танцев. Ребята-курсанты танцуют с девушками. Оркестр. У туалетов дежурят: преподавательница педагогического училища и офицер танко-артиллерийского. В буфете безалкогольное. Она возвращается довольной, невнятно мечтая когда-нибудь стать женой офицера. У других романы, одна у ворот (рядом на постаменте натуральный танк) умоляет часовых передать то-то и то-то курсанту такому-то, но те только улыбаются. Надя Кузнецова не думает о кавалерах. Была кратко влюблена в математика, уволенного, но так и не догадавшегося, что Кузнецова считала его «лучшим педагогом».
– Говорят, из дворца тайный ход к штабу округа? – надо же о чём-то говорить с Аней.
– Васька нам покажет, для него тайное давно стало явным.
Никакого подземного хода, а ресторан, неизвестный Наде, как и другие «кабаки», как говорит Аля. У одного столика два офицера. Она-то предполагала, что «Васька» – братик не молодой Ани. А та вдруг:
– Мальчики, это моя коллега Надя!
Какие «мальчики»! Оба куда старше Володи, недавно окончившего институт (в армии не был). У Васьки (немолод, лет тридцать пять) в лице что-то забавное, кошачье.