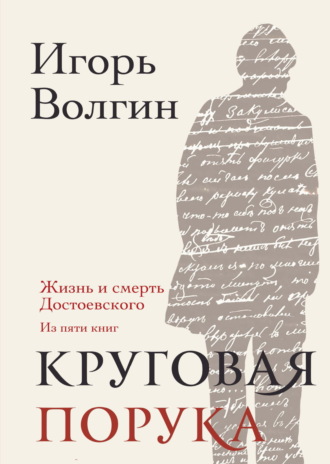
Полная версия
Круговая порука. Жизнь и смерть Достоевского (из пяти книг)
И тут в стройный порядок рассказа, как всегда, мешая колоду, врывается Пушкин.
Иван Григорьевич Сенявин (1801–1851) – двоюродный брат «полумилорда, полукупца» М. С. Воронцова, под бдительным призором которого знаменитый изгнанник отбывал одесскую ссылку. 1 апреля 1824 г. Пушкин писал брату Льву: «Письмо это доставит тебе Синявин, адъютант графа Воронцова, славнейший малый, мой приятель…»
Бессмертие гну Сенявину сим обеспечено; пока, правда, нет никаких намёков на «гжу».
Но вот в 1829 г. полковник Сенявин женится и вскоре выходит в отставку. Его избранница – Александра Васильевна Оггер (или Гоггер) – дочь бывшего голландского посланника в России Иоанна-Вильгельма (Василья Даниловича тож) Гоггера. Последний в 1810 г., не перенеся, очевидно, захвата любимой отчизны войсками Бонапарта, принял русское подданство и сделался губернатором Курляндским.
Женитьба «славнейшего малого», которому его давний одесский приятель посылает на новый, 1830 г. свою визитную карточку, отмечена и обсуждена в пушкинском круге. «Они устроили свой дом на Аглицкой набережной, – пишет А. О. Смирнова-Россет. – Она (Сенявина. – И. В.) сказала, что принимает запросто у себя утром. Тогда спускали занавески и делался таинственный полусвет» [43].
Когда наконец Александра Васильевна выступает из этого «таинственного полусвета», первое, в чём мы немедленно убеждаемся, что онато уж точно красавица.
В 1846 г., достигнув бальзаковского возраста (она старше Достоевского лет, наверно, на десять), Александра Васильевна не утратила былого блеска и обаяния.
…И моргнул курносым носомПеред русой красотой……Для вящего удобства растаскивая вечность «по эпохам», мы забываем порой, что она, собственно, неделима и что время медленно перетекает во время. Знакомые тени встречают нас на пороге грядущих времён! Защитники натуральной школы проливают вполне натуральную слезу – и вот уж «Бедная Лиза» машет слабеющей рукой вослед почти одноимённому роману… Пушкинские красавицы внезапно являются людям совсем иной поры – и ослепляют их, и восхищают, и повергают в смятение…
Мы искали портрет Сенявиной, но – не нашли.
Итак, Александра Васильевна: более некому. К тому же выясняется, что она имеет некоторое касательство к русской литературе.
«Я получил приглашение от Сенявиной на завтрашний вечер, – пишет Ю. Ф. Самарин К. С. Аксакову. – Загоскин и Вельтман будут читать. Любопытно послушать».
Письмо это – от одного литератора к другому (с упоминанием ещё двух писательских имен) – написано в 1843 г., в Москве, где муж Сенявиной исполнял должность гражданского губернатора. Дом Ивана Григорьевича был «одним из центров московского общества», а губернаторша (вот, наконец, разъяснение мелькнувшего выше намёка!) отличалась – что отчасти нам уже не в новинку – «красотою и любознательностью» [44].
Любознательность Сенявиной простиралась настолько, что она даже посещала лекции Т. Н. Грановского в Московском университете. Впрочем, последнее было модно. «…Вероятно, – пишет И. С. Аксаков родным, – лекции Грановского скоро потеряют первобытный характер, ибо где светское общество, там всегда пустота, возбуждающая насмешку. Особенно эти дамы!.. Сенявина записывает!»[45]
Сам Грановский, однако, не выказывал признаков недовольства. «Лекции дали мне много новых знакомств, – пишет он Н. X. Кетчеру 14 декабря 1843 г., – между прочим, я познакомился с Сенявиной. Она мне понравилась: умная и живая женщина, с которою легко говорить» [46].
Достоевскому с Сенявиной «говорить» было трудно.
Пока гражданский губернатор Москвы тщетно пытался искоренить во вверенном ему городе взятки, его супруга занималась делом более исполнимым. Она собирает вокруг себя избранных литературных друзей и вообще, если верить тогдашней прессе, выступает покровительницей «всех отличных дарований» [47]. Когда в 1844 г. Иван Григорьевич получил новое назначение (на пост товарища министра внутренних дел) и семья засобиралась в Петербург, московское литературное общество положило подарить на память своей ценительнице и меценатке «великолепный альбом с видами Москвы», украсив оный стихами и прозою.
Николай Михайлович Языков, некогда тонкий лирик, а ныне обличитель безродных космополитов, вписал в альбом гражданской губернаторше свои гражданские стихи. Они были выдержаны в выражениях не вполне парламентских. Так, Пётр Яковлевич Чаадаев аттестовался в них как «плешивый идол строптивых баб и модных жён» (не имелась ли в последнем случае в виду счастливая обладательница альбома?), а любимый Москвою Грановский был поименован оракулом юных неучей и – что значительно хуже – сподвижником «всех западных гнилых надежд» [48].
«Подобная проделка была совершенно непозволительна, – замечает Б. Н. Чичерин. – …Когда же этот пасквиль рукою автора был внесён в альбом великосветской дамы, занимающей видное общественное положение… то неприличие достигало уже высшего своего предела» [49].
Короче, Сенявина пала едва ли не первой жертвой великой национальной распри – идейной схватки западников и славянофилов, распри, которую Достоевский много позже назовёт недоумением ума, а не сердца. Как и на всякой войне, женщины терпят безвинно…
Надо признать, что появление Александры Васильевны у Виельгорских совершенно уместно. Где ещё в Петербурге женщина света могла удовлетворить свои литературные интересы, не рискуя при этом добрым именем и репутацией?
Установив личность «г-жи Сенявиной», попытаемся теперь воссоздать всю картину.
Где, собственно, происходит дело?
Граф Владимир Александрович Соллогуб со своей 25летней женой, Софьей Михайловной, жительствует в доме тестя, графа Михаила Юрьевича Виельгорского, женатого, в свою очередь, на Луизе Карловне, урождённой герцогине Бирон. Строго говоря, у каждого члена семьи собственная жизнь и собственные приёмы. Луиза Карловна собирает у себя исключительно аристократический круг; граф Михаил Юрьевич – светско-артистическимузыкальный; граф Владимир Александрович – светско-литературный. Последние два круга – взаимопроницаемы.
Разумеется, Достоевский был в гостях у Соллогубов.
Гоголь говаривал, что графиня Софья Михайловна (кстати, это именно она выдрала для него из альманаха «Бедных людей») – ангел кротости. Что же могло вывести её из себя и вызвать столь неадекватную, «неангельскую» реакцию? Уж не уронил ли ненароком Белинский злополучную рюмку на новое платье хозяйки: он, если вспомнить погубленные панталоны Жуковского, был мастером по этой части.
(В 1880 г. в гостях у издателя «Русского вестника» М. Н. Каткова (чей московский дом – своего рода политический высший свет) Достоевский опрокинул чашку чая и при этом, как с горестью сообщает он Анне Григорьевне, «весь замочился». Добро что чай не был пролит на брюки Каткова и дело, таким образом, не получило литературной огласки.)
Реплика Софьи Михайловны («они не только неловки и дики, но и неумны») могла уязвить смертельно.
Положим, о «дикости» Белинского Софья Михайловна могла быть осведомлена и заранее. Для неё, очевидно, не являлось секретом злополучное приключение у князя Одоевского. Хозяйке дома, ей подобало окружить необычного гостя особой заботой и сквозь пальцы смотреть на его светские промахи. Графиня не снизошла до этой демократической роли.
Положим; но почему же ещё «и неумны»? Не была ли довершена физическая неловкость Белинского неуместностью его суждений? (Нельзя всё-таки забывать, что ты не у себя дома, где позволительно нести Бог весть что!) В салонах беседуют степенно, не горячась. И да послужат хрустальные осколки немым укором тому, кто дерзнул нарушить этот закон!
Итак, фраза («они не только…» и т. д.) была произнесена. С кем, однако, делилась графиня своими любопытными наблюдениями? Уж не перед её ли собеседницей один из гостей пал, как остроумно замечено в «Послании», «чухонскою звездой»?
И ещё вопрос. Каким образом Достоевский мог подслушать этот доверительный разговор? Ведь не орала же Софья Михайловна на всю залу!
Дочь графа Виельгорского и жена графа Соллогуба слишком хорошо воспитана, чтобы позволить себе такую промашку. Фраза, скорее всего, была произнесена вполголоса, с улыбкой и – по-французски. Белинский не понимал этого языка. Софья Михайловна могла полагать, что французским не владеет и никто из «диких и неумных» его сотоварищей.
Относительно переводчика «Евгении Гранде» графиня заблуждалась.
Стоит ли толковать о предчувствиях? Сенявина, в конце концов, не только красавица, но и жена товарища министра – одного из высших чиновников того самого ведомства, которое вплотную займётся Достоевским годика через три. Как тут не зашататься от страха? Однако эти мистические предположения завели бы нас слишком далеко.
Возможно, существовала ещё причина – на сей раз сугубо прозаического свойства.
Достоевский не любил вина.
Особенно дурно действовало на него шампанское.
Незнакомое и высокомерное общество, выпитое вино, неловкость, совершённая глубоко уважаемым им человеком, и обида за него после случайно услышанной фразы, ослепительная «аристократическая» красота Сенявиной, наконец, – всего этого вполне достаточно, чтобы повести к злополучной развязке. Сознание, как помним, защищается от сильных чувств при помощи обморока…
Впрочем, ему (сознанию) ничего иного не остаётся, ибо оно (сознание), как известно любому школьнику, определяется бытием. Кажется, автор «Двойника» нарушил это капитальное установление. Художественный вымысел оказался у него первичным. И судьба немедленно подвергла его взысканию, избрав своим орудием женщину…
Вспомним «петербургскую поэму».
Решительным пунктом в помешательстве господина Голядкина становится его беззаконное вторжение на бал в день рождения несравненной Клары Олсуфьевны. При этом герой совершает ряд непростительных ошибок: «Наткнулся мимоходом на какого-то советника, отдавив ему ногу, кстати, уже наступил на платье одной почтенной старушки и немного порвал его, толкнул человека с подносом, толкнул и ещё кой-кого…» Кульминация сцены – отчаянная попытка героя заставить виновницу торжества пройтись с ним в новомодной польке. Господина Голядкина оттаскивают и с позором изгоняют из начальственного дома. На обратном пути от Берендеевых впервые является герою его двойник.
Разумеется, Сенявина – не Клара Олсуфьевна, да и Достоевский у Соллогуба – гость желанный и званый. И всё же на этом празднике жизни он тоже чужой. Поэтика «Двойника» накладывается на поэтику действительности, и ущемлённое своей вторичностью бытие как бы мстит непрошеному провидцу…
…Но надо ли так пристально вглядываться в одине-динственный день (даже вечер!) из жизни героя?
Отрочество и юность Достоевского – это цепь судьбоносных мгновений. Встреча с мужиком Мареем, смерть девочки из Мариинской больницы, часы ночного дебюта, обморок у Виельгорских и, наконец, Семёновский плац – все эти однократные (и неравнозначные) события будут востребованы неоднократно. Они потрясут душу и отложатся в ней навсегда.
«Я, брат, пустился в высший свет, – лихо сообщает герой 1 февраля 1846 г., – и месяца через три лично расскажу тебе все мои похождения». О последних больше не будет упомянуто ни разу.
Но слово не воробей. Стыдливо потупясь, биографы вынуждены признать, что автор «Бедных людей» на некоторое (недолгое, к счастью) время поддался искушениям и соблазнам красивой жизни. Даже строгие к фактам комментаторы Полного (академического) собрания сочинений говорят о его визитах к Соллогубу – во множественном числе.
О В. А. Соллогубе Достоевский впервые упоминает в письме к брату от 16 ноября 1845 г. По его словам, граф якобы усиленно допрашивает Краевского, где ему достать автора ещё не опубликованных «Бедных людей».
Владимир Александрович Соллогуб был восемью годами старше Достоевского. Светский человек, он писал неплохую прозу и слыл модным беллетристом. (Государь, по словам Пушкина, «литератор не весьма твёрдый», даже путал его с Гоголем.) Автор «Тарантаса» принадлежал к кругу Жуковского, Вяземского, Ал. Тургенева – к той самой «литературной аристократии», на которой всё ещё лежал отблеск пушкинской славы. И сам Соллогуб, и его тесть – царедворец, композитор и меценат в одном лице – граф Михаил Юрьевич Виельгорский, оба они – приятели Пушкина: это дорогого стоило.
Интерес Соллогуба к Достоевскому – не просто любопытство большого света. Это как бы знак внимания большой литературы.
Такое внимание льстит и настораживает одновременно.
В письме Достоевского, лично ещё не знакомого с графом, сквозят нотки явного недоброжелательства. Он именует Соллогуба «аристократишкой» (зачёркнуто: «мерзавец»), который «становится на ходули и думает, что уничтожит меня величием своей ласки».
«Аристократишка» – это не только форма социальной самозащиты. Это ещё и точка зрения круга, лишённого родовых преимуществ, но свято чтущего своё духовное первородство.
Так и не сумев познакомиться с Достоевским осенью 1845-го, Соллогуб знакомится с его «Бедными людьми» в конце января 1846-го. Придя от романа в восторг, граф неожиданно посещает дебютанта. Описав в своих воспоминаниях скромную обстановку, в какой он застал молодого писателя, Соллогуб добавляет, что тот был чрезвычайно сконфужен его посещением и особенно – его похвалами. Граф объясняет это природной застенчивостью хозяина. Он, разумеется, прав. Но, может быть, Достоевский вспомнил ещё свои нелестные эпистолярные отзывы – и ему сделалось совестно?
Граф настоятельно приглашает коллегу посетить его запросто. Достоевский конфузится и благодарит.
«Соллогуб, мой приятель», – небрежно роняет он в письме к брату: оно, судя по всему, написано либо в самый день визита, либо буквально назавтра.
1 февраля 1846 г. (дата написания письма) Достоевский в высший свет ещё не «пустился». Он лишь зван в этот чарующий мир. Но нетерпеливый герой, как всегда, опережает события.
Есть документ, который, возможно, связан с визитом Достоевского к Соллогубу. Это записка Белинского к автору «Двойника» – единственное дошедшее до нас письменное свидетельство их отношений.
Белинский слегка интригует адресата. Он зовёт его в дом, куда должен проводить приглашённого человек, доставивший эту записку. Очевидно, Достоевский в доме том ранее не бывал, хотя с хозяином скорее всего знаком. «Вы увидите всё наших, а хозяина не дичитесь, он рад вас увидеть у себя».
Очень похоже, что Белинский писал свою записку, находясь в гостях у Соллогуба, который, как помним, однажды уже приглашал адресата. В пользу такого предположения говорит «иерархический подтекст». Вряд ли Достоевский мог дичиться когото из «наших»: для такого визита не требовалось особенных уговоров [50].
Сочинитель записки явно успокаивает Достоевского, уверяя его, что там, куда он зван, в основном будут свои. Такое заверение могло относиться исключительно к «чужому» дому (где «наши», как брезгливо заметит графиня Софья Михайловна, – это «они»). По сути, приглашённый ставится в положение почти безвыходное. Ибо очень трудно отказать сразу двоим (Белинскому и хозяину дома), тем более что передатчик записки имеет, очевидно, инструкции лично доставить адресата[51].
Новейшие исследователи датируют записку Белинского ноябрём – первой половиной января 1846 г. [52]
Хотелось бы уточнить датировку.
Как мы знаем, Соллогуб посещает Достоевского, очевидно, в самом конце января (не позже 1 февраля) 1846 г. Достоевский тогда уклонился от приглашения. Записка Белинского (если она писана действительно у Виельгорских) должна была возыметь своё действие. Во-первых, в данном конкретном случае повторный отказ выглядел бы просто невежливым. A во‑вторых, присутствие у Соллогуба «наших» являлось серьёзной моральной поддержкой для самого стеснительного из них.
1 февраля – сразу же после визита Соллогуба! – заявлено о намерении поразить высший свет (хотя, повторяем, глагол «пустился» может быть истолкован как констатация действий уже совершённых). В следующем письме к брату, от 1 апреля, тема эта не возникает. Автор письма сообщает о реакции публики на «Двойника», о литературных новостях, о здоровье. «Идей бездна и пишу беспрерывно», – говорит он.
Нет, не так ведут себя удачники, литературные везунчики, кумиры толпы! Замирая от нетерпения, поспешают они в гостиные и будуары («Сказала: “Будь смел” – не вылазил из спален. Сказала: “Будь первым” – я стал гениален…» – в этой мировой формуле следовало бы, пожалуй, поменять последовательность событий), – поспешают, дабы насладиться заслуженной славой или по меньшей мере убедиться в отсутствии таковой. «Пишу беспрерывно» – это удел непризнанных гениев: заслуженным талантам можно и отдохнуть…
«Я, брат, пустился в высший свет…» Полно; при всём уважении к автору мы позволим себе ему не поверить.
Ибо если февраль и март прошли в каждодневных трудах, следовательно, воинственные намерения остались только в проекте. Это, собственно, подтверждает и сам искуситель – хозяин салона, граф Соллогуб (никакой другой территории для «похождений» не просматривается). Он говорит, что «только месяца два спустя» после его приглашения автор «Бедных людей» появился наконец в его «зверинце».
Сам Достоевский не упоминает об этом визите.
Следующее письмо его к брату – от 26 апреля – представляет разительный контраст с предыдущими. В нём нет и тени былой хлестаковщины; ни малейших следов дебютной эйфории. Между 1 и 26 апреля должно было случиться нечто чрезвычайное. Достоевского поражает болезнь, и длится она, по-видимому, не менее двухтрёх недель.
Следовательно, визит к Соллогубу мог состояться в первых числах апреля. То есть как раз спустя те два месяца, о которых толкует граф.
«Лечение же моё должно быть и физическое и нравственное», – замечает Достоевский. Обморок у Виельгорских выглядит как первый приступ тяжёлой апрельской болезни. Да и сама болезнь могла быть спровоцирована волнением, пережитым «перед сонмищем князей».
Доктор Яновский, пользовавший больного, хорошо запомнит рассказ своего пациента. Не тогда ли было поведано ему о сентенции графини, которая взирала на нерасторопного Белинского и в дурном вкусе чувствительного Достоевского почти как на двух ковёрных?
Так сколь же часто бывал Достоевский в высшем свете?
Сам Соллогуб определённо говорит (и его слова благополучно игнорируются), что скромный дебютант появился у него только однажды.
В это – единственное! – своё посещение он становится свидетелем неловкости Белинского, «подслушивает» оскорбительную реплику хозяйки дома, наконец, сам падает в обморок. Подобная плотность событий почти немыслима в жизни, но как раз характерна для его романов, где единицей измерения часто бывает скандал.
«…Скоро, – продолжает граф, – наступил 1848 г., он (Достоевский. – И. В.) оказался замешанным в деле Петрашевского и был сослан в Сибирь…» Естественно, визиты прекратились.
Мемуарист полагает, что доверчивого читателя устроит подобное объяснение. Но ведь до ареста героя оставалось ещё целых три года! Не проще ли предположить, что впечатлительный гость не испытывал особого желания вновь побывать на месте своего позора? Следует, впрочем, отдать должное деликатности графа: будучи, без сомнения, свидетелем происшествия, он не считает возможным о нём распространяться… В отличие, скажем, от Панаева, который не только дважды (1847 и 1855) обыграл эпизод в печати, но, по-видимому, собирался капитально изложить его в своих позднейших воспоминаниях, чего сделать, однако, не успел, вследствие внезапной кончины.
Решившись посмеяться над Достоевским в третий раз, Панаев как бы понёс магическую кару. Что, впрочем, не остерегло других, даже не заметивших знака.
В своих предсмертных записях Достоевский глухо упоминает о какой-то ссоре своей с И. И. Панаевым. Возможно, следствием (или причиной?) этой ссоры был фельетон Панаева в четвёртом номере «Современника» за 1847 г., где содержался прозрачный намёк на известный (правда, уже годичной давности) обморок. У Панаева было злое перо. Разумеется, герой фельетона не мог не узнать себя. Отметим сходство отдельных фразеологических оборотов в панаевском тексте и в тексте «Послания Белинского к Достоевскому»: «Я, признаюсь… чуть-чуть скоропостижно не лишился жизни…» (фельетон Панаева). «…И чуть-чуть скоропостижно не погиб во цвете лет» («Послание»). Если даже Панаев не был одним из соавторов «Послания» (о такой вероятности будет сказано ниже), он выжал из происшествия всё, что мог. Не поддадимся соблазну усмотреть в этом факте наличие супружеской обиды: ведь перед А. Я. Панаевой Достоевский в обморок не падал!
…В апреле он был «при смерти в полном смысле этого слова». Может ли болезнь уврачевать дух?
Весной 1847 г., в Казани, восемнадцатилетний Толстой решает вести дневник: занятие, которое, несмотря на пробелы, он не оставит до конца своих дней. Первая запись (17 марта) гласит: «Вот уже шесть дней, как я поступил в клинику, и вот уже шесть дней, как я почти доволен собой. Les petites choses produisent de grands effets [53]. Я получил Гаонарею, понимается от того, от чего она обыкновенно получается; и это пустое обстоятельство дало мне толчок, от которого я стал на ту ступень, на которой я уже давно поставил ногу…»
Досадное (и унизительное) физическое расстройство становится побудительной причиной начавшегося нравственного переворота, сподобливает автора дневника подняться на давно присмотренную, но до этого «пустого обстоятельства» никак не дающуюся «ступень». И юный Толстой, и старший его семью годами Достоевский, оба они, несмотря на существенную разность недомоганий, стараются обрести в своих несчастиях душевное исцеление.
О Господи, как совершенныДела твои, – думал больной…«Здесь я один, – продолжает свою больничную хронику будущий автор “Детства”, – мне никто не мешает… Главная же польза состоит в том, что я ясно усмотрел, что беспорядочная жизнь, которую большая часть светских людей принимают за следствие молодости, есть не что иное, как следствие раннего разврата души… (Ср.: «… Некрасов и Белинский разбранили меня в прах за беспорядочную жизнь: жаль, что у Толстого не было таких гувернёров! – И. В.). Отделись человек от общества, взойди он сам в себя, и как скоро скинет с него рассудок очки, которые показывали ему всё в превратном виде…» [54].
Будет ли помогать Достоевскому его грядущий недуг? Станет ли он для него вечным напоминанием, грозным memento mori[55]?
Автор «Дневника писателя» не вёл дневников.
…Таков был печальный итог его «похождений». Единственное посещение большого света не принесло ему славы. Но – запомнилось крепко: к счастью для биографов, не только ему одному.
Что ж, теперь, пожалуй, можно поновому датировать плод коллективных досугов – «Послания Белинского к Достоевскому»: не ранее апреля 1846 г.
Страсти вокруг каймы
Вернёмся, однако, к самому «Посланию».
Остановимся на последней строфе. В ней содержался намёк, который в 1880-м – спустя 34 года! – породил громкий литературный скандал.
Речь идёт о пресловутом требовании, которое Достоевский якобы предъявил своим издателям: обвести одно из его произведений особой печатной каймой, подчеркнув тем самым высокие достоинства текста.
Но, прежде чем обратиться к этой истории, зададимся вопросом: знал ли о «Послании» его герой?
А. Я. Панаева описывает выразительную сцену. Достоевский «в очень возбуждённом состоянии» является к Некрасову; между ними происходит бурное объяснение.
«…Оба они страшно горячились; когда Достоевский выбежал из кабинета в переднюю, то был бледен как полотно и никак не мог попасть в рукав пальто, которое ему подавал лакей; Достоевский вырвал пальто из его рук и выскочил на лестницу».
Осведомлённый читатель понимающе усмехнётся. Как же! Разумеется, Авдотья Яковлевна, втайне гордясь происшествием, описывает ссору двух ревнивцев, один из которых, бросив в лицо счастливому сопернику жалкие слова, с горестью покидает поле боя («в мутной передней долго не влезет сломанная дрожью рука в рукав»). Но в XIX в. мемуаристки ещё стеснялись сообщать широкой публике такие подробности! Поэтому Авдотья Яковлевна, покривив душой, указывает литературную причину.
Не в наших правилах в чёмто разубеждать читателя.
После ухода Достоевского Некрасов «дрожащим от волнения голосом» заявляет, что его посетитель «просто с ума сошёл»: «И кто это ему наврал, будто бы я всюду читаю сочинённый мною на него пасквиль в стихах! до бешенства дошёл».
Когда происходит сцена? Авдотья Яковлевна воссоздаёт её с точки зрения хозяйки дома (перемещающейся из кабинета Некрасова в столовую и обратно). Следует вспомнить, что осенью 1846 г. Некрасов жительствует уже в квартире Панаевых; так отныне будет всегда.


