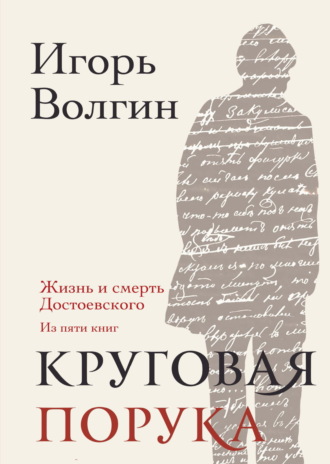
Полная версия
Круговая порука. Жизнь и смерть Достоевского (из пяти книг)
Если б мы не знали обратного, можно было бы заключить, что Гоголь писал без черновиков.
Исполнительный Языков аккуратно снимает копии с писеморигиналов и отправляет их автору в Рим. Не было ли среди этих бумаг искомой? Неужели, решив обозреть современную словесность, Гоголь даже не счёл нужным отозваться на упорный, дважды повторённый вопрос?
Между тем можно не сомневаться, что пребывающий в отдалении классик (которому, кстати, нет ещё сорока) присматривается к новичку. В 1846 г. он просит прислать ему годовой комплект «Отечественных записок» («Двойник»!), в 1847 г. – «Современника» («Роман в девяти письмах»!) – и нет никаких оснований полагать, что просьбы эти не были уважены.
Но… В «Выбранных местах из переписки с друзьями» о Достоевском не сказано ни полслова. Разве что – косвенный след в одной, по обыкновению, предварительно трижды сожжённой главе с длинным названием: «В чём же наконец существо русской поэзии и в чём её особенность». Гоголь пишет: «Сравнительно с «Капитанской дочкой» все наши романы и повести кажутся приторной размазнёй» [35].
Вот так-то.
Конечно, Гоголь говорит «все». Но, во‑первых, «все» – значит и «Бедные люди», и «Двойник». Достоевский легко мог отнести это на собственный счёт. А во‑вторых, сказанное близко к отзыву о «Бедных людях» в письме к Виельгорским («много говорливости» и т. д.).
С передачей лиры, во всяком случае, выходила заминка.
Но вернёмся к «нашим»: они, судя по всему, исполнены дружелюбия и приязни. Достоевский не подозревает, что именно с этой стороны воспоследуют самые чувствительные удары.
«Страшно нервный и впечатлительный молодой человек» (Панаева), попавший к тому же в общество незнакомых или малознакомых ему людей, он поначалу не может преодолеть природной застенчивости, насторожённости и скованности. Он дичится, робеет, ёжится, чувствует себя явно не в своей тарелке. Умная женщина, Авдотья Яковлевна тактично приходит ему на помощь (недаром он так восхваляет её любезность).
Он и впредь будет отдавать предпочтение тем, кто его жалеет: только возникшие на этой почве романы завершатся законным браком.
В зрелые годы он нередко жалуется, что у него «нет жеста»: тем более не было его в молодости. Это означает не только отсутствие светских навыков, но и неумение поддержать ровный тон в своих житейских и деловых отношениях. Ему абсолютно чужд усреднённо-вежливый тип общения.
Как сейчас сказали бы – он неадекватен. Он незащищён, открыт, в высшей степени уязвим. Он не спешит украсить собственное дарование лёгким игриво-кокетливым (аристократическим!) к нему пренебрежением – что обычно примиряет друзей и обескураживает завистников. Он относится к тому, в чём его уверяют, серьёзно (слишком серьёзно), полагая тем самым угодить уверяющим. Но именно это делает его смешным.
«…Этих людей только и есть в России… – восклицал он белой петербургской ночью, – о к ним, с ними!» Он не ошибся: других людей в России (точнее, в Петербурге) не было. Он готов разделить их высокий порыв, ещё не догадываясь о том, что далеко не всегда носители идеала соответствуют столь обременительной ноше. Он старается вписаться в среду, что называется, передовую: её скрепляет громадный моральный авторитет одного человека – того, кого Тургенев назовёт позднее центральной натурой.
Масштаб остальных чрезвычайно различен – от таких незаурядных личностей, как Некрасов, до мелких литературных сочувствователей, которые задают «настоящим» писателям званые обеды, выполняют их комиссии, ссужают им деньги, а также разносят новейшие слухи из дома в дом.
Явись в этой компании хоть сам Гоголь, он не избежал бы общей участи. Правда, автор «Мёртвых душ» стоит слишком высоко: ему не страшны никакие пересуды (лишь «Выбранные места» окажутся способными поколебать это положение). Что же касается Гоголя «нового», то навязанное ему амплуа юного гения при полнейшей неспособности героя достойно поддержать эту роль (ситуация усугубляется полууспехом-полупровалом «Двойника») – всё это делает недавнего дебютанта фигурой в высшей степени привлекательной для битья.
Изумительная откровенность, явленная им в письмах к родному брату, была совершенно неуместна в сношениях с братьями-писателями. Ибо для этой специфической публики нет большего удовольствия, как, увенчав коллегу лаврами, тотчас же почесть таковые фиговыми листами и приступить к их дружному ощипу. Делается всё это, разумеется, по-домашнему, то есть самым добродушным образом.
В том самом письме, где сообщается о внезапном чувстве к Панаевой (и о столь же внезапно похорошевших Кларушках и Минушках), заключено ещё одно важное признание. Это восторженные строки о молодом Тургеневе. Он, если верить приводимым тут же словам Белинского (характерная для Достоевского ссылка на мнения третьих лиц, когда речь касается его самого), с первой встречи влюбился в автора письма. «Я тоже едва ль не влюбился в него», – говорит автор.
Он мог бы «влюбиться» в него значительно раньше.
«И чуть-чуть скоропостижно…»
Меж тех двоих, вбежавших к Достоевскому ночною порой, так и хочется разглядеть ещё одного. Этот третий, судя по всему, должен быть гдето рядом, гдето невдалеке! Но нет, мимо! 20 мая 1845 г. – не дотянув всего чуть-чуть – Иван Сергеевич Тургенев отбывает в Европу. Ему – впервые – позволено почтительно сопровождать семейство Виардо. Запись в тургеневском «мемориале» гласит: «Отъезд в чужие край. – Куртавнель. Жорж Санд. Поездка в Пиренеи. Самое счастливое время моей жизни. – Возвращение к зиме» [36].
Он действительно вернётся к зиме. Знакомство с Достоевским им никак не отмечено. Тем не менее 1845 г. – самое счастливое время для них обоих. Каждый из них счастлив по-своему, и всё у них – впереди.
Не здесь ли, однако, корни будущих драм?
27-летний Тургенев оказывается среди зачинщиков той бескорыстной приятельской травли, которая очень веселила её участников и которую спустя много лет Достоевский должен был вспомнить не без некоторого содрогания.
Но, собственно, почему надо было его щадить? Ведь на лбу у него не обозначено, что он – будущий творец «Идиота» и «Братьев Карамазовых». Зато невооружённым глазом можно различить претензии, явно превышающие заслуги. Что с того, что герой болезнен, неуравновешен, легко раним; его друзья не обязаны быть ни врачами, ни педагогами…
«…Характер неистощимо прямой, прекрасный, выработанный в доброй школе» – таково первое впечатление Достоевского от Тургенева. Он, по обыкновению, приписывает новому знакомцу черты, которых, как он полагает, недостаёт ему самому. Исчислив неоспоримые достоинства друга («поэт, талант, аристократ, красавец, богач»), Достоевский опускает одну, может быть, ещё неведомую ему деталь: Тургенев любил позлословить. Если верить Панаевой, именно благовоспитанный и, как мы помним, «влюблённый» в Достоевского Иван Сергеевич мастерски доводит плохо владеющего собой дебютанта, выставляя на всеобщее обозрение его и без того очевидные слабости и пороки.
О, разумеется, Тургеневым движут самые тёплые порывы! Что может быть невиннее дружеской затрещины, наносимой бескорыстно и с неподдельной приязнью! И если осмеянное лицо не зовут немедленно присоединиться к общему веселью, то единственно из деликатности чувств: сочинители порой щекотливы, как дети…
«Как всегда, блистал остротами и стёклышком в глазу… Тургенев», – в свою очередь шутит Ч. Б.
А. Я. Панаева туманно говорит о какихто тургеневских стихах «на Девушкина», благодарящего своего создателя, и даже припоминает, что в них часто повторялось характерное для «Бедных людей» слово «маточка» – деталь очень правдоподобная. Однако эти эпиграмматические упражнения до нас не дошли.
Зато – к сожалению, только в отрывках – дошло сочинение другого автора, не менее остроумного, чем Тургенев.
В 1917 г. К. И. Чуковский, выбрав для этого не самое подходящее время, обнародовал найденные им в бумагах Некрасова черновые наброски какой-то неизвестной доселе повести. Автограф не имел названия, был написан наскоро и испещрён поправками.
«Сначала, – говорит Чуковский, – я не догадался, в чём дело… мне показалось, что предо мной беллетристика, самая обыкновенная повесть о каком-то смешном Глажиевском, авторе “Каменного сердца”, и я уже прочитал страниц пять, когда меня вдруг осенило: да ведь этот Глажиевский – Достоевский!» [37]
Было чему дивиться. Ведь Некрасов так и не написал мемуаров. Новонайденная рукопись частично восполняла этот пробел.
Повесть Некрасова – сочинение ироническое.
Люди 40х годов – тот круг, к которому принадлежал сам автор, – живописуются здесь с нескрываемой насмешкой. (Что, в свою очередь, заставляет вспомнить позднейшие изображения Степана Трофимовича Верховенского в «Бесах».) Досталось всем: Анненкову, Боткину, Панаеву, Григоровичу, литературным сочувствователям… Единственный персонаж, о котором автор отзывается с полным почтением, – это Мерцалов (т. е. Белинский).
Повесть написана, скорее всего, в первой половине 50х годов – в период нахождения одного из её героев в Сибири. Не потому ли сочинение осталось незаконченным?
Достоевский в изображении Некрасова довольно забавен. Он впадает в безумное волнение накануне своего первого визита к Белинскому; он опасается, как тонко замечает автор, «своей физиономией разрушить эффект своего произведения, хотя подобный страх был довольно основательный» (справедливости ради укажем, что это место в рукописи зачёркнуто); он чуть не сбегает в последний момент – у дверей квартиры, где жительствует знаменитый критик. Всё это выглядит вполне достоверно. Следует любопытная подробность: Глажиевский, желая «щегольнуть» развязностью (это одна из двух крайних точек его поведенческой амплитуды), рассказывает Белинскому «анекдот о своём Терентии», который «по незнанию грамоты» закусил пластырем, прописанным ему для наружного употребления. Если припомнить очень похожий случай, отмеченный в мемуарах Андрея Михайловича (где жертвой является сам воспоминатель), тогда закрадывается подозрение, что сообщённый Глажиевским «анекдот» есть художественная трансформация вполне реального происшествия, причём замена родного брата «Терентием» свидетельствует в пользу высокого представления рассказчика о родственной чести.
Глажиевский у Некрасова наивен, бесхитростен, прост – и, может быть, в силу всего этого не только смешон, но и – симпатичен. И хотя трудно согласиться с К. И. Чуковским, что «вместо сатиры на автора “Бедных людей” Некрасов (нечаянно!) дал блестящую его апологию», следует всё же признать, что по сравнению с другими действующими лицами юный Глажиевский выглядит пристойно.
«Достоевский, милый пыщ…» – сказано в знаменитом «Послании».
Пыщ – значит человек напыщенный, надутый. Однако этот подлежащий осмеянию персонаж именуется «милым»: тональность свидетельствует о том, что объект пародии всё ещё находится внутри дружеского круга.
«Послание Белинского к Достоевскому» сочинено Некрасовым и Тургеневым (возможно, не без содействия Панаева), как полагают, в самом начале 1846 г. (у нас ещё будет возможность уточнить дату). Это коллективное детище не лишено остроумия и литературного блеска. Литературоведы, почитающие серьёзность едва ли не единственной принадлежностью ушедшей исторической жизни, осудительно прилагают к этому дружескому пашквилю эпитет «злой». Однако таковым он становится лишь в контексте дальнейших событий.
Не следует забывать, что зимой 1846 г. Достоевский – один из самых необходимейших «наших». Он не только не враг кружка, он – его главный козырь. Поэтому «Послание» не есть орудие литературной борьбы: это средство для внутреннего употребления.
В «Послании» вовсе не ставится под сомнение правомерность литературных успехов героя: ирония относится лишь к неумеренному их воздействию на его, так сказать, моральное самочувствие. «На носу литературы рдеешь ты как новый прыщ», – не очень, конечно, респектабельно, но среди «своих» вполне допустимо и, учитывая специфику жанра, даже лестно. Неоскорбителен здесь и возможный намёк на гоголевского героя («А знаете ли, что у алжирского бея под самым носом шишка?»): как-никак имеется в виду всё-таки Гоголь, а, скажем, не какой-нибудь барон Брамбеус…
Можно указать на ещё одну гоголевскую аллюзию: «За тобой султан турецкий скоро вышлет визирей». Ирония авторов «Послания» в этом случае не вполне понятна. Однако стоит вспомнить: «До сих пор нет депутации из Испании… Я ожидаю их с часу на час» – и участие в этой литературной игре «Записок сумасшедшего» теперь, кажется, не вызовет сомнений.
Пойдём далее. «Хоть ты юный литератор, но в восторг уж всех поверг. Тебя знает император…» (в одном из вариантов – «любит») – подобная констатация тоже нимало не унижает адресата. Правда, при желании здесь можно усмотреть иронический намёк на уже известную нам высочайшую резолюцию («какой дурак это чертил») – отзыв тем более обидный, если распространить его и на первые литературные опыты бывшего военного инженера. Однако вряд ли авторы «Послания» осведомлены об этой не слишком лестной для героя истории. Остаётся предположить, что до Зимнего дворца действительно дошли какие-то слухи о «Бедных людях», а возможно, был прочитан и сам текст.
Строка «уважает Лейхтенберг» также намекает на какие-то высшие (но, увы, неизвестные нам) обстоятельства, ибо герцог Максимилиан Лейхтенбергский, муж любимой дочери императора, слыл большим поклонником и покровителем изящных искусств[38].
Далее в «Послании» следует игривое описание уже упоминавшегося обморока, который, как явствует из других источников, действительно приключился с Достоевским при его представлении некой светской красавице:
Но когда на раут светскийПеред сонмище князей,Ставши мифом и вопросом,Пал чухонскою звездойИ моргнул курносым носомПеред русой красотой…Да, пасквиль есть пасквиль – и, естественно, он содержит не очень корректную аттестацию наружности пародируемого субъекта, особенно по контрасту с его подразумеваемой собеседницей. (Как помним, внешность Глажиевского не удостоилась одобрения и в прозе.) Сообщается и о грозивших герою опасностях:
…Как трагически недвижноТы смотрел на сей предметИ чуть-чуть скоропостижноНе погиб во цвете лет.Позднейшие комментаторы делают здесь негодующую мину. И в самом деле: нехорошо насмехаться над больным человеком. При этом, однако, забывают, что в указанное время никто из друзей Достоевского (да и он сам) ещё не подозревает у него эпилепсии. (Некрасов в своей повести вскользь упоминает о каком-то ночном обмороке с Глажиевским, но это упоминание указывает скорее на повышенную чувствительность героя, нежели на его болезнь.) Изображённый соавторами конфуз на светском рауте трактуется ими как обыкновенное бытовое происшествие: комизм заключается в несоответствии персонажа предлагаемым обстоятельствам [39].
Именно это несоответствие и породило первую строчку. «Витязь горестной фигуры» – конечно же, Рыцарь Печального Образа (в одном из вариантов «Послания» так и сказано: «Рыцарь»).
Но, собственно, почему? Только ли в силу видимой нелепости героя, непригодности его к светской жизни, смеси в нём гордыни, подозрительности и идеализма – всего того, что так зорко подмечено одарёнными памфлетистами? Или – как деликатный намёк на лёгкую его ненормальность? (Тогда, кстати, становится понятной и косвенная отсылка к «Запискам сумасшедшего».) Или, наконец, – как убийственная догадка о некой утаённой платонической страсти (Авдотья – Дуня – Дульсинея): если они действительно догадывались об этом, это ужасно.
Как бы то ни было, бедный идальго понадобился для целей исключительно прикладных. Никто не вспомнил при этом, что он ещё и Алонсо Кихано Добрый.
Много лет спустя и герой «Послания», и один из его сочинителей выскажутся о прототипе.
«…Под словом “Дон Кихот”, – говорит в 1860 г. Тургенев, – мы часто подразумеваем просто шута, – слово “донкихотство” у нас равносильно с словом: нелепость…» Однако, добавляет автор, «этот сумасшедший, странствующий рыцарь – самое нравственное существо в мире».
«Самый великодушный из всех рыцарей, бывших в мире, самый простой душою и один из самых великих сердцем людей…» – «откликается» Достоевский в 1877 г.: тут – случай довольно редкий – он полностью солидарен с вечным своим оппонентом.
«Его фигура (разумеется, горестная! – И. В.) едва ли не самая комическая фигура, когда-либо нарисованная поэтом», – продолжает Тургенев, чрезвычайно высоко ставящий героя Сервантеса и, конечно же, напрочь забывший об игровом соотнесении этого бессмертного персонажа с автором «Двойника».
«Эту самую грустную из книг, – заключает Достоевский, – не забудет взять с собою человек на последний суд Божий».
Он не подозревает, что, защищая Дон Кихота, он защищает себя – того: юного, наивного, простодушного и – смешного. И это незнание даёт ему право высказать мысль, которая в силу полнейшего бескорыстия автора решает спор.
Достоевский говорит, что лучшие качества («величайшая красота человека, величайшая чистота его, целомудрие, простодушие, незлобивость, мужество и, наконец, величайший ум») – всё это «обращается ни во что» единственно потому, «что всем этим благороднейшим и богатейшим дарам… недоставало одного только последнего дара – именно: гения…».
Слово произнесено: не отнесённое к нему самому, оно тем не менее стало его оправданием.
Но этим же даром «оправдан» и Белинский. Ибо подставной автор «Послания» некоторыми своими чертами удивительно напоминает его героя. Белинский – тоже сын лекаря и внук священника. Он существует исключительно литературой: она для него – дело жизни и смерти. (Недаром он говорит, что умрёт на журнале и в гроб велит положить под голову книжку «Отечественных записок».) Разночинец не только по духу, но и по образу жизни, Белинский, как и Достоевский, «очень застенчив» и совершенно теряется в незнакомом обществе. С мягкой (или, как принято говорить, любовной) усмешкой повествует Герцен о его судорожных попытках уклониться от представления некой незнакомой даме: по счастью, этот визит не повёл к такой печальной развязке, как в случае с Достоевским.
Однако и с Белинским случались казусы.
Герцен и Панаев – с равной убедительностью, хотя и с разночтениями – живописуют другой замечательный эпизод. На рауте у князя Одоевского (где, саркастически добавляет Герцен из своего прекрасного далека, «Белинский был совершенно потерян… между каким-нибудь саксонским посланником, не понимавшим ни слова по-русски, и каким-нибудь чиновником III отделения, понимавшим даже те слова, которые умалчивались») критик по неловкости опрокинул столик с вином, и бордо начало «пресерьёзно» поливать белые форменные с золотом панталоны Василия Андреевича Жуковского. «Во время этой суматохи, – говорит автор “Былого и дум”, – Белинский исчез и, близкий к кончине (ср. «и чуть-чуть скоропостижно…»! – И. В.), пешком прибежал домой». По другой – панаевской – версии, дело едва не кончилось обмороком («едва» – может быть, потому, что на вечере не было дам): «Белинский потерял равновесие и упал на пол… хозяин дома… повёл его в свой кабинет, предлагал ему воду, различные нюхательные спирты…»
Герцен воссоздаёт картину с чужих слов, Панаев, можно предположить, присутствовал при сём лично.
«Падение Белинского со стула, – заключает Панаев, – было причиною того, что имя его стало переходить из уст в уста» [40]. Как мало надо для славы, добавим мы: ведь популярность Достоевского сильно выросла благодаря очень схожим обстоятельствам.
И тут обнаруживается неожиданный и до сих пор нигде не отмеченный поворот сюжета. Оказывается – об этом в 1882 г. поведал Анне Григорьевне доктор Яновский – Достоевскому тоже довелось наблюдать очень похожую сценку. В доме Виельгорских (что в плане «социальной привязки» равнозначно «литературно-дипломатическому» салону князя Одоевского) верный себе Белинский опрокинул рюмку с вином. Свидетелю этого происшествия, а именно Достоевскому, удалось даже подслушать реплику хозяйки дома, жены графа Соллогуба, в адрес незадачливого гостя: «Они не только неловки и дики, но и неумны». Употреблённое множественное число («они») наводит на мысль, не имелся ли при этом в виду и присутствовавший тут же автор «Бедных людей» (который позднее с горечью скажет Яновскому: «Нас пригласили… для выставки, напоказ»).
Но этого мало.
Чисто теоретически предположив, что оба эпизода (обморок Достоевского и битье посуды Белинским) имеют шанс совместиться в рамках одного и того же вечера, мы в ходе дальнейших разысканий не без изумления убедились, что такая сугубо рабочая гипотеза очень смахивает на правду. (Доказательства будут явлены ниже.) Но тогда существенно меняется вся картина. «Катализатором» обморока могла стать услышанная Достоевским реплика: после неё эмоциональное напряжение достигает предела. Неизвестной прелестнице оставалось лишь повести бровью…
Впрочем, в обморок мог бы упасть и Белинский.
«Я просто боюсь людей; общество ужасает меня, – признаётся он Боткину в 1840 г. – Но если я вижу хорошенькое женское лицо: я умираю – на глаза падает туман, нервы опадают, как при виде удава или гремучей змеи, дыхание прерывается, я в огне» [41].
И Достоевский, и Белинский – оба они «неловки и дики». Оба – уравнены в глазах света. Но – отнюдь не в глазах «наших».
«Милый Белинский! – говорит Герцен, вспоминая конфуз на вечере у князя Одоевского (что, конечно же, имеет несколько иной оттенок, чем «милый пыщ»), – как его долго сердили и расстроивали подобные происшествия, как он об них вспоминал с ужасом…»
«С ужасом» – не меньшим, думается, чем и «витязь горестной фигуры», грохнувшийся в обморок перед той, которую даже Ч. Б. не отважился бы именовать его дамой сердца.
Но кто же она, прекрасная незнакомка?
Всеведущий Григорович – единственный, назвавший имя: гжа Сенявина. Ни инициалов, ни социальной принадлежности он не обозначает. Впрочем, одно ценное указание всё-таки есть: Сенявина именуется «красавицей».
Это, пожалуй, единственное, что нам известно.
Поэтому остановимся на чаровнице.
Трудно вообразить, чтобы молодого человека, каковым был тогда Достоевский, могли так запросто знакомить с незамужней особой. Это не принято, тем более – у Виельгорских, где, надо надеяться, соблюдались правила хорошего тона. Светскую барышню представляли постороннему лицу только её родные. В 1859 г. в Твери жена местного губернатора графиня Баранова напомнит следующему из Сибири Достоевскому о том, как много лет назад, девушкой, она была представлена ему у тех же Виельгорских (и, как мы подозреваем, на том же вечере!): рекомендовал её один из хозяев дома, граф Соллогуб, её кузен.
Знакомство с будущей губернаторшей (в девичестве – Васильчиковой) не повлекло тогда, по-видимому, никаких осложнений. Чего нельзя сказать о знакомстве с губернаторшей бывшей: чуть ниже мы постараемся разъяснить этот туманный намёк.
«Гжа Сенявина» – подобная формула вряд ли приложима к незамужней барышне. По сути, «госпожа» адекватно французскому «мадам». Но если гипотетическая дочь директора Азиатского департамента состояла к тому времени в браке, Григорович, разумеется, назвал бы её фамилию по мужу.
Достоевский на вечере у Виельгорских был подведён к даме. Светская львица, благосклонно (а, кто знает, может, и с тайным волнением) взирающая на юную знаменитость, – это ли не вечная грёза поэтов, обитающих «на чердаках и в подвалах»? Вот оно, воздаяние за годы лишений… но в момент, когда мечта готова сделаться явью, силы изменяют мечтателю…
«…И чуть-чуть скоропостижно…»
Правда, Панаев годы спустя, в фельетоне, речь о котором впереди, будет толковать именно о барышне – «с пушистыми пуклями и блестящим именем». Блестящее имя, как мы ещё убедимся, действительно наличествовало. Но – вовсе не у той. Ибо самой «барышни» не существовало: это скорее всего пригодный для фельетонных надобностей образный штамп.
Так кто же?
В «Петербургском некрополе» сказано: член Государственного совета Лев Григорьевич Сенявин умер в 1862 г. и погребён на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры (там, к слову, будет погребён и Достоевский). Зная год рождения Льва Григорьевича (1805) и предположив, что женился он, как все порядочные люди, гдето около тридцати, нетрудно расчислить возраст его предполагаемой дочери (буде последняя вопреки всему всё-таки не фантом). В 1846 г. ей лет этак одиннадцать-двенадцать. Если даже она и впрямь красавица и к тому же, невзирая на нежные лета, допущена на светские рауты, всё равно хлопаться перед ней в обморок по меньшей мере непедагогично.
Вместе со Львом Григорьевичем не покоится никто из членов его семейства [42]. За исключением старшего брата – Ивана Григорьевича, который заслуживает того, чтобы им заняться поближе.


